ПЕЧАТАЕТСЯ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ИНСТИТУТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС
К. МАРКС
и
Ф. ЭНГЕЛЬС
СОЧИНЕНИЯ
Издание второе
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва-1977
К. МАРКС
и
Ф.ЭНГЕЛЬС
ТОМ
44
3K1
10101— 176
079(02)-77П°АПИСНОе
[ v
ПРЕДИСЛОВИЕ
44 том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса содержит произведения, написанные с осени 1849 до лета 1873 г. и не вошедшие в соответствующие тома настоящего издания. Они расширяют представление о теоретической и революционно-практической деятельности Маркса и Энгельса в данный период, освещают занятия Маркса и Энгельса проблемами политической экономии и историей международных отношений, вопросами военной теории. Эти произведения знакомят с методами исследовательской работы основоположников марксизма и дополняют наши сведения о широте их научных интересов. Материалы тома содержат новые данные о творческом содружестве Маркса и Энгельса, их публицистической деятельности, их участии в международном рабочем движении после поражения революции 1848—1849 гг. и особенно в период Первого Интернационала. Таким образом, произведения, публикуемые в данном томе, существенно дополняют содержание 7—18 томов настоящего издания.
Среди работ, включенных в том, 16 не публиковавшихся ранее рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. 11 из них принадлежат Марксу («Набросок о Германии для работы К. Маркса и Ф. Энгельса «Третий международный обзор»», «Генерал Клапка», «Пруссия («Военное государство»)», «Венеция», «Война против Персии», «О восточном вопросе»,«Заметки по европейской истории ( XV — XVIII вв.)», подготовительные материалы для статьи «Бюлов», «Симптомы возрождающейся внутренней жизни Франции», «О разделении труда», «Выписки из книги [И. Сабо] «Государственная политика современной Европы с начала XVI столетия
VI
ПРЕДИСЛОВИЕ
до настоящего времени»»); четыре — Энгельсу (наброски к статье «Сражение под Балаклавой», «Горная война прежде и теперь» (статья вторая), «Беннигсен и Барклай», «Итальянская война. 1859 г.»); одна — Марксу и Энгельсу («Набросок заявления по поводу денежных средств Социал-демократического комитета помощи немецким эмигрантам»). К ним примыкают еще 4 работы: впервые публикуемая по сохранившимся гранкам газеты « Daily News» статья Энгельса «Русская армия», впервые публикуемые полностью рукопись Маркса «Центральная хунта» и рукопись Энгельса «Заметки об артиллерии в Америке», а также речь Маркса на заседании Генерального Совета 25 апреля 1871 г., которая впервые публикуется целиком, включая недостававшую до сих пор и разысканную недавно рукописную страницу протокольной книги.
В том вошло свыше 40 статей и заметок, опубликованных при жизни основоположников марксизма и с тех пор не воспроизводившихся. Большая часть этих материалов была в свое время напечатана без подписи, и принадлежность их Марксу или Энгельсу окончательно установлена при подготовке настоящего тома. В числе этих произведений: работы Энгельса из чартистского журнала « Democratic Review» за декабрь 1849 — июль 1850 г., четыре статьи из американской прогрессивной буржуазной газеты « New- York Daily Tribune», три небольшие статьи из «Neue Oder-Zeitung», 11 небольших заметок (10 принадлежат Энгельсу, одна Марксу) из «Новой американской энциклопедии». Заметки Маркса «По поводу Кэри» извлечены из статьи А. Клусса ««Лучшая газета Штатов» и ее «лучшие люди» и политэкономы», опубликованной в 1853 г. в газете «Die Reform» и составленной на основе писем Маркса А. Клуссу и И. Вейдемейеру. Среди этих материалов восемь статей и заметок, написанных Марксом и Энгельсом в период деятельности Первого Интернационала: три заметки Маркса и пять статей и заметок Энгельса.
В том включен ряд работ Маркса и Энгельса, публиковавшихся в различных изданиях Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, но не входивших в Сочинения: рукописи Маркса «О книге Д. Рикардо «О началах политической экономии и налогового обложения»», «Размышления», серия статей Энгельса «Письма из Франции», принадлежащий ему же «Критический разбор книги Прудона «Общая идея революции в XIX веке»», незавершенный труд Маркса «Брошюры Б. Бауэра о коллизии с Россией», конспекты и авторские записи выступлений Маркса и Энгельса на заседаниях Генерального Совета
ПРЕДИСЛОВИЕ
VII
Первого Интернационала, их рукописные заметки, статьи и корреспонденции периода деятельности Интернационала и другие материалы.
В приложениях впервые на русском языке публикуются выявленные при подготовке тома записи речей Маркса и Энгельса на заседаниях Генерального Совета Первого Интернационала, помещенные в газетах « The Bee- Hive Newspaper», «The Eastern Post», записи некоторых других выступлений, ряд документов, в создании которых Маркс и Энгельс принимали участие, а также некоторые материалы биографического характера.
* # #
Том открывается работами Ф. Энгельса из чартистского еженедельника « Democratic Review», относящимися к тому времени, когда Маркс и Энгельс были заняты обобщением опыта буржуазно-демократических революций 1848—1849 гг. Серия статей Энгельса «Письма из Франции», начатая в декабре 1849 г. и законченная в июле 1850 г., написана в распространенной в журналистике того времени форме ежемесячных корреспонденций, принадлежащих якобы непосредственному очевидцу событий в Париже. Статьи Энгельса создавались почти одновременно с работой Маркса «Классовая борьба во Франции» и перекликаются с последней в подходе к оценке событий, отдельных фактов и лиц, в понимании характера происходивших во Франции социально-экономических и политических процессов. Энгельс сумел нарисовать широкую картину классовой борьбы в этой стране, выделить в текущих событиях то главное, что предопределяло последующее развитие, теоретически обобщить наиболее существенные явления.
В «Письмах из Франции» был сформулирован ряд важных положений, получивших более конкретное и всестороннее развитие в работах Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Многие из этих положений касаются внутренней жизни Франции, в частности, классовой природы Июльской монархии, характера движущих сил февральской революции 1848 г., изменений в соотношении классовых сил в ходе последующих событий. Энгельс подходит здесь к идее о необходимости союза рабочего класса и крестьянства. Он подчеркивает, что крестьянин, подвергавшийся «угнетению со стороны всех правительств, не исключая и Временного», теперь «наконец начинает понимать, что только правительство, действующее в интересах
VIII
ПРЕДИСЛОВИЕ
городских рабочих, освободитего от нищеты и голода, в бездну которых он с каждым днем погружается все глубже и глубже, несмотря на свой небольшой земельный надел» (настоящий том, стр. 7—8).
Анализируя причины относительной пассивности французского пролетариата в момент отмены Законодательным собранием Франции всеобщего избирательного права в мае 1850 г., Энгельс пишет о моральной дискредитации после Июньского восстания 1848 г. мелкобуржуазных демократов и социалистов, о крахе разного рода систем утопического социализма, не отвечавших потребностям классовой борьбы пролетариата. Он отмечает наметившуюся в среде французского рабочего класса тенденцию к выделению из общего демократического движения, преодолению чуждых классовых влияний, к идейной и политической самостоятельности.
Параллельно Энгельс публиковал в « Democratic Review» «Письма из Германии», в которых он дал анализ некоторых сторон экономического и политического развития этой страны. «Письма из Германии» представляют собой одну из первых попыток Энгельса осмыслить общие последствия буржуазно-демократической революции 1848—1849 гг. в Германии и рассмотреть возможные пути решения не осуществленных ею исторических задач (объединение страны, демократизация общественно-политического строя). Впоследствии его работа по анализу и обобщению уроков германской революции увенчалась созданием такого классического произведения марксизма как «Революция и контрреволюция в Германии».
В «Письмах из Германии» дана яркая характеристика состояния германских государств после поражения революционных сил в кампании за имперскую конституцию летом 1849 года. Позднее Энгельс намеревался посвятить этому заключительную статью своей серии «Революция и контрреволюция в Германии», но она осталась ненаписанной. Таким образом, публикуемые в томе статьи из « Democratic Review» дают известное представление об оценке Энгельсом этих исторических событий. Он рисует картину политического застоя, наступившего в результате временной победы контрреволюционных сил, отмечает беспомощность и убожество немецких центральных органов власти, разгул военно-полицейского деспотизма в Пруссии, Австрии и других германских государствах, усиление внутренних противоречий между ними и сепаратистских тенденций, обострение борьбы между Пруссией и Австрией за гегемонию в Германии. Энгельс убедительно показывает
ПРЕДИСЛОВИЕ
IX
несостоятельность мелкобуржуазных планов объединения Гер мании на федеральной основе в условиях непреодоленного партикуляризма и феодальных пережитков.
В январе 1850 г. в «Письмах из Германии» Энгельс пишет: «А рабочий люд и крестьянство повсюду находятся в состоянии полной готовности, ожидая сигнала к восстанию, которое на сей раз не утихнет, пока не будут обеспечены политическая власть и социальный прогресс пролетариев» (настоящий том, стр. 33). Этот вывод отражает важный этап в формировании марксистского учения о непрерывной революции, исходные принципы которого содержались уже в ряде статей Маркса и Энгельса в «Neue Rheinische Zeitung», а наиболее развернутая фор мулировка — в «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов», написанном ими через два месяца после данной статьи.
К «Письмам из Франции» тесно примыкает составленный Энгельсом реферат первой главы работы Маркса «Классовая борьба во Франции», который является примером популяризации произведений Маркса для английского рабочего класса. Во вступлении Энгельс знакомит английских рабочих с ролью «Neue Rheinische Zeitung» в германской революции. Газета, пишет Энгельс, «отстаивала самые передовые революционные принципы и интересы пролетариев,' являясь их единственным органом в Германии» (настоящий том, стр. 40). Излагая содержание главы, Энгельс подчеркивает то новое, что внесено Марксом в освещение причин и характера февральской рево люции и Июньского восстания парижского пролетариата, воспроизводит дословно наиболее важные оценки и формулировки Маркса. Ссылаясь на положение «Манифеста Коммунистической партии», Энгельс раскрывает основополагающую идею марксизма об исторической миссии пролетариата. Энгельс развенчивает распространенные тогда среди рабочего класса, в том числе и среди английских пролетариев, иллюзии о возможности добиться социального освобождения без решительной борьбы с буржуазией своей страны.
В связи с этим Энгельс обращает особое внимание на мысль Маркса о классовой противоположности интересов пролетариата и буржуазии и идею гегемонии рабочего класса в революционном движении: «...пролетарии, вместо того чтобы отстаивать свои интересы, не затрагивая интересов буржуазии, смогут выдвинуть интересы пролетариата в качестве революционных интересов всей нации и осуществить их в прямом противо действии интересам буржуазии» (настоящий том, стр. 48).
X
ПРЕДИСЛОВИЕ
Касаясь соотношения пролетарского и национально-освободительного движений, Энгельс подчеркивает мысль Маркса о том, что после июньского поражения парижского пролетариата судьба национальных революций в Европе поставлена в зависимость от судьбы пролетарской революции: «Ни венгр, ни поляк, ни итальянец не будут свободны, пока рабочий остается рабом!» (настоящий том, стр. 58).
«Письма из Франции», «Письма из Германии», «Два года одной революции», а также опубликованные в приложениях к настоящему тому записи речей Энгельса на чартистских митингах в 1850 г. существенно расширяют представления о роли Энгельса в пропаганде социалистических идей в чар тистской прессе, о контактах Маркса и Энгельса с революционным крылом английского пролетариата. Упомянутые работы Энгельса имели большое значение для укрепления связей передовых представителей международного пролетариата, воспитывали английских рабочих в духе пролетарского интернационализма, знакомили их с условиями жизни и борьбы их французских и немецких собратьев.
Большой интерес представляет «Уведомление», в котором Маркс и Энгельс излагают проспект второго и третьего номеров «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue». Судя по «Уведомлению», работа Маркса «Классовая борьба во Франции» была задумана первоначально как широкое полотно социально-экономического и политического положения не только Франции, но и всей Европы. Замысел этот, по-видимому, лишь отчасти был реализован в международных обзорах, написанных Марксом совместно с Энгельсом для этого же журнала.
С начала 50-х годов экономические исследования начинают играть главную роль в теоретической деятельности Маркса. В этой связи весьма интересны впервые публикуемый на русском языке конспект главного труда Рикардо «О началах политической экономии и налогового обложения», а также «Размышления» в связи с мелкобуржуазными теориями кризисов. Эти рукописи, относящиеся к 1851 г., являются частью историко-критического анализа буржуазной политической экономии, предпринятого Марксом в 50-е годы и отразившегося в его многочисленных тетрадях с выписками из работ различных авторов. После своего вынужденного переезда в Лондон в 1849 г. Маркс получил возможность пользоваться богатствами библиотеки Британского музея и приступить к более систематическому изучению трудов английских, французских, итальянских и других экономистов, в первую очередь классиков
ПРЕДИСЛОВИЕ
XI
английской политической экономии — У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо. Изучение публикуемых рукописей позволяет проследить последовательное накопление предпосылок и элементов того революционного переворота в экономической теории, который был совершен Марксом в «Капитале». Так, обширные критические комментарии Маркса, содержащиеся в конспекте рикардовской работы, показывают, что он в это время уже был близок к осознанию того, что создающий товары труд сам товаром не является, что рабочий продает владельцу средств производства не труд, а свою рабочую силу с ее специфической способностью быть источником прибавочной стоимости. В комментариях содержится также развернутый подход к вопросу о происхождении избытка произведенной рабочим стоимости сверх той стоимости, которая реализована в потребляемых им жизненных средствах. Маркс еще не дает здесь объяснения прибавочной стоимости на основе закона стоимости, но он отмечает, что присваиваемый капиталистом избыток стоимости товара по сравнению с издержками его производства не возникает в процессе обмена, а только реализуется в нем. Комментарии Маркса, представляющие собой дальнейшее развитие тех мыслей, которые уже содержались в его работах второй половины 40-х годов — «Нищете философии» и «Наемном труде и капитале», — впоследствии нашли свое воплощение в экономической рукописи 1857—1858 гг., где Маркс впервые разработал в основных чертах теорию стоимости, денег и прибавочной стоимости.
В «Размышлениях» Маркса в зародышевой форме содержатся такие важные элементы будущей теории воспроизводства, как разделение общественного производства на два подразделения — производство средств производства и производство предметов потребления; указание на ведущую роль первого подразделения; указание на то, что производство предметов потребления оказывается в конечном счете границей и для про изводства средств производства. Дальнейшая разработка теории воспроизводства была осуществлена Марксом в рукописях 1857—1858 и 1861—1863 гг. и тогда же на ее основе была создана теория промышленных циклов.
Важное значение для разработки основ научной политической экономии пролетариата имел также выполненный Энгельсом в 1851 г. критический разбор книги П.-Ж. Прудона «Общая идея революции в XIX веке». Эта работа является важным звеном в борьбе К. Маркса и Ф. Энгельса против мелкобуржуазных утопических идей Прудона. Разбор был
XII ПРЕДИСЛОВИЕ
сделан Энгельсом для задуманной Марксом, но ненаписанной работы «Новейшие откровения социализма, или «Общая идея революции в XIX веке» П.-Ж. Прудона. Критика Карла Маркса». В эволюции воззрений Прудона эта его книга занимала важное место — здесь получила наиболее полное выражение его социально-реформаторская концепция преобразования буржуазного общества, его анархистские взгляды. В обстановке разочарования рабочих в политической борьбе после поражения революции 1848—1849 гг. идейное влияние Прудона представляло большую опасность для рабочего движения. Борьба с антинаучной реформаторской концепцией Прудона стала поэтому одной из первостепенных задач основоположников научного коммунизма.
Используя предварительные замечания Маркса (см. настоящее издание, т. 27, стр. 267—273) и во многом развивая их, Энгельс показывает несостоятельность взглядов Прудона, претендующего на создание своей собственной политической экономии и теории социальной революции. Энгельс отмечает непоследовательность его аргументации, противоречия и ошибки. Он вскрывает абстрактно-догматический, антиисторический характер прудоновского понимания таких экономических категорий, как разделение труда, конкуренция, обмен, кредит и другие, которые Прудон называет «экономическими силами». «То, что Прудон называет «экономическими силами», — пишет Энгельс, — есть, попросту говоря, формы буржуазного способа производства и обмена...» (настоящий том, стр. 158). Утопизм и несостоятельность представлений Прудона являются следствием непонимания того, что сами эти формы или категории, как и капиталистические отношения в целом, внутренне противоречивы и исключают какое-либо «равновесие».
Одним из центральных пунктов критики Энгельса являются нападки Прудона на идею ассоциации. Хотя Прудон и вынужден признать необходимость ассоциированного труда для шахт, железных дорог и пр., в принципе он выступает против реорганизации общества на коммунистических началах. В связи с этим Маркс писал Энгельсу 14 августа 1851 г., что прудо-новщина — это «в целом в первую голову полемика против коммунизма, сколько бы он у коммунизма ни крал» (настоящее издание, т. 27, стр. 279). Энгельс показывает, что характер ассоциации целиком определяется характером обществен ных отношений, что сама потребность в ней диктуется развитием крупной промышленности, машинного производства и разделением труда.
ПРЕДИСЛОВИЕ!
XIII
Обстоятельному критическому разбору Энгельс подвергает анархистские взгляды Прудона, выдвинутую им идею «социальной ликвидации», планы мирного учреждения такой «экономи ческой системы», в которой якобы растворяется политическая, или, употребляя термин Прудона, «гувернаментальная» система. Энгельс вскрывает утопический характер идеи «социальной ликвидации», называя прудоновские проекты погашения государственного долга, отмены процента, выкупа земельной соб ственности и т. д. гигантской нелепостью (см. настоящий том, стр. 169). Он показывает, что изображенный Прудоном общественный идеал остается пустой декларацией прежде всего потому, что сохраняется нетронутой частная собственность на средства производства.
Показывая далее, что критика ограниченности буржуазной демократии у Прудона перерастает в отрицание значения всеобщего избирательного права, всякой демократии вообще, Энгельс выявляет ту тенденцию, которая неизбежно приводит Прудона и его последователей к отрицанию необходимости политической борьбы рабочего класса для своего социального освобождения, к отрицанию идеи завоевания пролетариатом политической власти и использования ее как рычага социального преобразования общества.
К числу экономических исследований Маркса и Энгельса, публикуемых в настоящем томе, примыкают и заметки Маркса «По поводу Кэри». Здесь он критикует проповедь «гармонии» классовых интересов в буржуазном обществе и показывает, как во взглядах Кэри отразились особенности развития социально-экономических отношений в США. Маркс подчеркивает, что выступление Кэри против английского капитала и английской политэкономии, в частности против взглядов Рикардо, означает лишь желание искусственно ускорить развитие промышленной буржуазии в Америке (см. настоя щий том, стр. 182) и отражает конкурентную борьбу между английским и американским капиталом. Основные мысли этих замечаний были впоследствии развиты Марксом в экономической рукописи 1857—1858 гг. (см. настоящее издание, т. 46, ч. I , стр. 3—10 — «Бастиа и Кэри»). Важно отметить, что это одна из первых публикаций обобщенных результатов работы Маркса над проблемами политической экономии в 50-х годах. Для своего времени она имела большое не только научное, но и практическое значение, дав членам Союза коммунистов, первым пропагандистам марксизма в США, И. Вейдемейеру и А. Клуссу важное оружие для развенчания
XIV ПРЕДИСЛОВИЕ
мелкобуржуазных иллюзий, культивируемых Кэри и его последователями.
Обострение международной обстановки в связи с соперничеством европейских держав на Ближнем Востоке и Балканах, Крымская война, борьба за объединение Германии, а также Италии, другие международные конфликты 50-х годов XIX в., требовавшие выработки собственной линии пролетариата, дали Марксу и Энгельсу повод для глубокого исследования истории международных отношений и дипломатии. Публикуемые в томе работы по вопросам внешней политики и дипло матии европейских государств существенно дополняют наши представления о взглядах основоположников марксизма в данной области, позволяя лучше понять общую картину разработки ими внешнеполитических проблем. Обращение Маркса и Энгельса к этой тематике имело большое значение для развития новых аспектов теории классовой борьбы, для обоснования позиции пролетариата в вопросах внешней политики, для определения стратегических и тактических задач пролетарской партии. В этой связи несомненный интерес представляет небольшая статья «Давид Уркарт», в которой Маркс раскрывает полную несостоятельность попыток этого консервативного английского публициста изобразить дипломатию определяющей силой исторического развития и противопоставляет этим субъективно-идеалистическим воззрениям материалистическое понимание истории.
Маркс и Энгельс подходили к международным событиям с точки зрения пролетариата, заинтересованного в револю ционном, демократическом разрешении коренных проблем исторического развития стран Европы и ниспровержении реакционных режимов, укрепившихся после поражения рево люции 1848—1849 годов. Поэтому в 50-х годах XIX в. разобла чение внешней политики реакционных европейских держав — царской России, буржуазно-аристократической Англии, бонапартистской Франции, Австрии и Пруссии — составляло одну из основных задач всей публицистической деятельности Маркса и Энгельса.
В томе публикуются три конспекта Маркса по истории Пруссии и по истории международных отношений в Европе. Они отражают первоначальные этапы его работы над историей международных отношений, этапы накопления фактического материала и некоторых самых предварительных обобщений. Первый из них — «Пруссия («Военное государство»)» — составлен на основе фактического материала, почерпнутого главным
ПРЕДИСЛОВИЕ
XV
образом из книги историка Штейна, откровенного апологета прусского милитаризма. В своих собственных замечаниях Маркс подчеркивает то обстоятельство, что сила и влияние бранденбургских курфюрстов, а затем и прусских королей основывались не на их доблести и военной мощи, а на подкупах, предательстве, покупках территорий и махинациях с наследованием. Этот конспект послужил основой для остро саркастической статьи «Божественное право Гогенцоллернов» (см. настоящее издание, т. 12, стр. 98—104). Он был также использован Марксом и позднее, в 1863—1864 гг., при работе над историей Польши.
Второй конспект — «Заметки по европейской истории ( XV — XVIII вв.)» также содержит значительное количество замечаний Маркса. Здесь, как и в работе «Брошюры Б. Бауэра о коллизии с Россией», выдвигается принцип соответствия международной политики социально-экономическим отношениям, говорится о формировании типа дипломатических отношений, свойственного капиталистической эпохе, показывается сложность этого процесса, устойчивость политических традиций, унаследованных от эпохи феодальных монархий. Третий конспект — «Выписки из книги [И. Сабо] «Государственная политика современной Европы с начала XVI столетия до настоящего времени»» — по своему характеру ближе к чисто хронологическим выпискам, однако он интересен тем, что Маркс фиксирует исторические события, мимо которых прошел автор конспектируемой им книги, участник венгерской революции И. Сабо. Как и в «Заметках по европейской истории», Маркса прежде всего интересуют те события прошлого, которые помешали созданию объединенной Германии и объединенной Италии и привели к утрате независимости Польши.
В статьях и корреспонденциях «Будущее Италии», «Император Наполеон III и Пруссия» и других Маркс разоблачает бонапартистский «принцип национальностей», который служил прикрытием захватнической политики Наполеона III и его шовинистических идей, а также демагогические спекуляции бонапартистского режима на лозунге всеобщего избирательного права. Маркс критикует здесь также пробонапартистские настроения части европейских демократов, отдельные представители которых прямо перешли на службу интересам Наполеона III.
В ряде материалов («Комитет в Ньюкасле-на-Тайне», «Война против Персии», статьях из « New- York Daily Tribune» и др.) Маркс, анализируя ход Крымской войны и предшествующих
XVI
ПРЕДИСЛОВИЕ
ей событий, борьбу Англии и России за сферы влияния в Иране, бичует захватническую политику английской олигархии, разоблачает лицемерную политику Пальмерстона.
Анализ указанных выше работ позволяет прийти к заключению, что уже в 50-е годы, когда в Европе буржуазные демократические и национально-освободительные движения занимали еще ведущее место в общественной жизни, Маркс подошел к выводу о необходимости самостоятельной внешней политики рабочего класса, ибо он способен, даже до завоевания политической власти, воздействуя на внешнюю политику правительства своей страны, заставить его отказаться от агрессивного курса, направленного на порабощение других народов. Как известно, этот вывод нашел отражение в одном из первых программных документов Интернационала, в «Учредительном манифесте Международного Товарищества Рабочих».
Несколько статей Маркса из «New- York Tribune» посвящено вопросам внутренней политики Великобритании. В статье «Британские финансы. — Волнения в Престоне» Маркс разоблачает демагогию, ханжество и лицемерие английских правящих классов. Он приводит новые факты мужественной борьбы престонских рабочих во время крупнейшей стачки 1853—1854 гг., указывая на произвол и насилие по отношению к бастующим со стороны фабрикантов и местных властей. Разоблачение фритредерской буржуазии, лицемерных выступлений ее идеологов Кобдена и Брайта в качестве «поборников мира» и «защитников» интересов народных масс всегда было одной из важных тем публицистики Маркса. Статья «Г-н Джон Брайт» посвящена новому аспекту проблемы: Маркс показывает, как обращение Брайта к избирательной программе чартистов даже в урезанной форме, способствовало росту его популярности в стране.
Большая группа статей и заметок Ф. Энгельса дает дополнительный материал для характеристики его как военного теоретика пролетарской партии, военного историка, раскрывает творческую лабораторию Энгельса, его метод обработки информации о боевых операциях и другие стороны его военных занятий. На основании скудных и отрывочных данных Энгельс правильно оценил высадку русских в Добрудже как стратегический маневр с целью сокращения линии Дунайского фронта и доказал невозможность похода русских войск прямо на Константинополь, о котором тогда писала западноевропейская печать (статьи «Европейская война» и «Турецкая война»). В то время как « Times» в мае 1854 г. под броскими заголовками
ПРЕДИСЛОВИЕ
XVII
сообщала о поражении русских на Дунае, Энгельс на основании анализа тех же данных поставил под сомнение эти хвастливые реляции, поступившие «через Вену, эту большую кухню, где стряпаются лживые слухи в интересах биржевых спекулянтов» (настоящий том, стр. 204). Мнение Энгельса полностью подтвердилось позднейшими известиями с театра военных действий.
Особое место среди публикуемых в томе военных статей Энгельса занимают те, в которых он с позиций исторического материализма анализирует опыт современных ему войн и делает выводы, имеющие важное значение для военно-исторической науки.
В статье «Русская армия», написанной до начала активных военных действий на Дунае, Энгельс высказывает мысль о том, что «более высокий уровень промышленного развития западных стран» (настоящий том, стр. 197) позволит им восполнить недостатки их военной организации по сравнению с армией царской России. Сформулированное в этой статье положение о зависимости военного потенциала государства от уровня промышленного развития, развертывания экономических ресурсов позднее нашло отражение в работе Энгельса «Армии Европы», в статьях из «Новой американской энциклопедии», а также в «Анти-Дюринге». В статье «Горная война прежде и теперь» (1856) Энгельс показывает, как существенно меняется характер войны в горных условиях в связи с развитием военной техники.
В 1863 г. Энгельс пишет «Заметки об артиллерии в Америке», где высказывает убеждение, что Гражданская война в США «при творческом духе нации и высоком техническом уровне развития гражданского инженерного дела в стране приведет к огромному прогрессу в области военной техники, составив эпоху» (настоящий том, стр. 360). Успехи армии северян отразили преимущества утвердившейся в северных штатах более прогрессивной общественной системы, системы наемного труда, по сравнению с существовавшим на Юге плантационным рабством. Проанализировав на примере отдельных операций методы и формы ведения войны, Энгельс показал закономерность тенденции быстрого морального старения военной техники и необходимость ее постоянного совершенствования. Изучение опыта Гражданской войны в Америке позволило Энгельсу выявить основные направления в развитии артилле рии, фортификационного искусства и особенно в развитии военно-морского флота, уточнить и разработать некоторые положения его более ранних статей в «Новой американской энцик-
XVIII
ПРЕДИСЛОВИЕ
лопедии» — «Артиллерия», «Фортификация», «Военно-морской флот». Энгельс коснулся здесь и проблем военного потенциала Германии, рассматривая его с позиций сторонника объединения страны революционно-демократическим путем.
Включенные в том материалы периода Первого Интерна ционала представляют значительный интерес для изучения деятельности Маркса и Энгельса как вождей первой массовой международной пролетарской организации и расширяют наши представления об их вкладе в разработку принципов пролетарского интернационализма и организационных основ пролетарской партии, их практических действиях, направленных на международное сплочение революционных сил рабочего класса и распространение идей пролетарской солидарности.
Сформулированные Марксом резолюции, касающиеся со става Генерального Совета, методов и форм его работы, порядка присоединения к Интернационалу рабочих обществ и отдель ных лиц, подготовки Женевского (1866) и Лозаннского (1867) конгрессов, развивают и конкретизируют основные принципы построения международной организации пролетариата, наме ченные во «Временном Уставе Международного Товарищества Рабочих». Эти резолюции расширяют представления о практической деятельности Маркса в период становления Интернационала, о борьбе с буржуазными и мелкобуржуазно-сек тантскими влияниями, которую ему пришлось вести, отстаивая пролетарский, международный и массовый характер молодой организации.
Предложения по программе Женевского конгресса и вводный абзац к публикации резолюций Женевского и Брюссельского конгрессов еще раз показывают, какое важное место в развитии международного рабочего движения Маркс отводил принятой первым конгрессом Интернационала научно обоснованной платформе, в которой задача экономического освобождения пролетариата была тесно увязана с его политической борьбой против господствующих классов.
Большой интерес представляют записка и заметки Маркса о конфликте в Парижской секции (1865), а также сформулированное им заключение Генерального Совета о конфликте в Лионской секции (1870). Помогая членам Генерального Совета правильно решать спорные вопросы, вынесенные на их суждение, Маркс останавливался на нормах поведения, обязательных для членов секций и для целых отрядов внутри международной организации, обосновывая необходимость строгой дисциплины общностью коренных интересов рабочих всех стран
ПРЕДИСЛОВИЕ
XIX
и принципами пролетарского интернационализма. Важные мысли Маркса о сочетании национальных и интернациональных интересов рабочего класса нашли отражение в письме Генерального Совета члену Интернационала в США, американскому общественному деятелю Юму, помещенном в приложениях к тому.
С разработкой и проведением в жизнь идей пролетарского интернационализма тесно связаны публикуемые в томе документы, отражающие некоторые стороны практической деятель ности Маркса и Энгельса в борьбе за самостоятельную внешнеполитическую линию пролетариата, противостоящую антинародной политике правящих классов: резолюция о позиции Интернационала в отношении австро-прусской войны 1866 г., выступления Маркса и Энгельса в ходе дискуссии о борьбе английского рабочего класса за признание Французской республики, развернувшейся в Генеральном Совете в январе — марте 1871 года.
О деятельности основоположников марксизма в дни Парижской Коммуны дают представление их рукописные заметки, связанные с проведением кампании протеста против версальского террора и организацией помощи коммунарам-эмигрантам. Речь, произнесенная Марксом 25 апреля 1871 г. в Генеральном Совете, содержит ценные сведения, касающиеся, в частности, непосредственных связей Маркса с Коммуной. В числе публикуемых в томе выступлений Маркса особый интерес представляет его речь об отношении английского правительства к эмигрантам Коммуны.
Навеянные опытом Коммуны глубокие раздумья Маркса о путях мирового революционного процесса, а также о связи между Интернационалом и Коммуной запечатлены в его ответах лондонскому корреспонденту американской газеты « The World », помещаемых в приложениях к тому.
В томе публикуются сформулированные Марксом и записанные рукой Энгельса решения о созыве в сентябре 1871 г. Лондонской конференции Международного Товарищества Рабочих, явившейся одним из решающих этапов в борьбе Маркса и Энгельса за закрепление в документах Интернационала программных и организационных принципов марксизма, на шедших свое подтверждение в опыте Коммуны. В приложениях помещены запись речи Маркса при открытии конференции, а также «Сообщение» Генерального Совета и «Поправка», свидетельствующие о внимании, которое Маркс и Энгельс уделяли пропаганде резолюций Лондонской конференции.
XX
ПРЕДИСЛОВИЕ
Публикуемые в томе авторские записи выступлений Энгельса в Генеральном Совете в октябре — декабре 1871 г., отраженные в протокольной книге лишь в самой краткой форме, содержат новый фактический и теоретический материал о руководстве Интернационалом, которое Энгельс стал осуществлять с 1870 г. вместе с Марксом. На него, как на секретаря-корреспондента для Италии и Испании — стран, где условия благоприятствовали распространению анархистских взглядов, ложилась ответственная задача сплочения здоровых пролетарских элементов и разоблачения раскольнической, подрывной деятельности бакунинского Альянса.
На протяжении восьми лет Маркс не прекращал разработку организационных принципов Международного Товарищества в духе демократического централизма. Опираясь на обобщение практического опыта входивших в Интернационал европейских и американских рабочих организаций, он уточнял формы взаимоотношений между местными и центральными, национальными и интернациональными органами, функции, прерогативы, права и обязанности центрального руководства. Результаты этого неустанного труда отражены в важнейшем документе — «Проекте Общего Устава Международного Товарищества Рабочих», составленном Марксом в связи с подготовкой Гаагского конгресса и утвержденном Генеральным Советом в июне — августе 1872 г. Ряд положений этого документа вошел в резолюции, принятые конгрессом в сентябре того же года.
Огромное значение для закрепления победы идей марксизма в программных документах Интернационала имело участие Маркса и Энгельса в работе Гаагского конгресса. Особого внимания заслуживают включенные в том статьи о Гаагском конгрессе: две, принадлежащие Марксу, и одна — Энгельсу. В статьях, помещенных Марксом в венской газете «Neue Freie Presse», содержится обзор внутреннего положения секций в отдельных странах накануне конгресса, дана общая картина развернувшейся в Интернационале борьбы течений и ее генезиса, показано, как раскольническая деятельность бакунистов в обстановке наступления буржуазной реакции ослабляла боеспособность рабочего класса. Резкой критике подвергает Маркс выступления бакунистов против единой, централизованной организации пролетариата. Наряду с этим в статьях содержится сжатая и точная оценка авантюристической позиции, занятой на конгрессе группой коммунистов-бланкистов. Статья Энгельса в органе немецкой социал-демократии «Volksstaat» существенно дополняет построенную по тому же плану статью
ПРЕДИСЛОВИЕ
XXI
«Конгресс в Гааге», напечатанную тогда в итальянской газете «Plèbe» (настоящее издание, т. 18, стр. 159—164). Энгельс дает здесь более подробное обоснование предложения о переводе Генерального Совета в Нью-Йорк, принятого конгрессом. В приложениях помещены делегатские мандаты, выданные Марксу и Энгельсу секциями Интернационала в Германии и Америке, а также ряд записей их выступлений на конгрессе, дополняющих ранее опубликованные в 18 томе настоящего издания.
Впервые публикуются на русском языке «Заметки о международном рабочем движении», которые Энгельс систематически помещал в лондонской газете «International Herald» весной 1873 г. Поддержка, оказываемая этой газете, фактическому органу Британского федерального совета Интернационала, была одной из форм борьбы Маркса и Энгельса против реформистского крыла Британского совета, вступившего после Гаагского конгресса в беспринципный блок с анархистами. Эти «Заметки» содержат большое количество фактов о стачках, деятельности профессиональных союзов, международных связях пролетариата, а также другие материалы, характеризующие борьбу рабочих большинства европейских стран, США и Канады. «Заметки» являются свидетельством того огромного внимания, с которым Энгельс следил за всеми выступлениями международного пролетариата в защиту своих прав и интересов, подчеркивая рост его силы и организованности.
Эта борьба нашла также отражение в других материалах, публикуемых в приложениях к данному тому.
В приложения включена также программа манчестерского съезда Британской федерации Интернационала, в составлении которой участвовал Маркс. Завершает раздел приложений документ «Интернационал и профессиональные союзы», составленный при участии Энгельса.
В приложениях публикуются также некоторые материалы биографического характера, содержащие, в частности, новые факты об участии Энгельса в эльберфельдском восстании в мае 1849 г., о деятельности Маркса и Энгельса в первые годы лондонской эмиграции и другие.
* * *
При подготовке тома выявлены основные источники, которыми пользовались Маркс и Энгельс. В некоторых случаях данные этих источников расходятся с фактами, установлен-
XXII
ПРЕДИСЛОВИЕ
ными последующими исследованиями. Это обстоятельство следует иметь в виду при изучении конкретно-исторического материала, приводимого в публикуемых рукописях и статьях Маркса и Энгельса. В незавершенных и отчасти фрагментарных материалах, а также в некоторых газетных статьях имеются описки и опечатки в именах собственных, географических названиях, цифровых данных, датах. Выявленные в тексте неточности, как правило, исправлены без оговорок. Все случаи вмешательства редакции « New- York Daily Tribune » оговорены в примечаниях. В примечаниях к публикуемым работам раскрывается история их создания, а в ряде случаев обосновывается авторство.
Звездочкой перед названием работы помечены заголовки, данные Институтом марксизма-ленинизма.
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
К.МАРКС
и
Ф. ЭНГЕЛЬС
сентябрь 1849 —май 1873
[ з
Ф. ЭНГЕЛЬС
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ 1
I
Париж, 20 декабря 1849 г.
Злобой дня является обсуждаемый сейчас Национальным законодательным собранием «налог на вино» 2. Этот вопрос имеет такое значение и в сущности так нолно отражает всю обстановку в стране, что будет весьма целесообразно целиком посвятить ему данное письмо.
У налога на вино очень длинная история. Он был одной из наиболее характерных особенностей финансовой системы монар хии в XVIII в. и одной из основных причин недовольства народа во время первой революции, которая его и отменила. Наполеон снова ввел этот налог в несколько измененном виде около 1808 г., когда, забыв о собственном революционном происхождении, стал считать главной целью утверждение своей династии в кругу старинных королевских семей Европы. Налог был так ненавистен народу, что после падения Наполеона Бурбоны обещали немедленно его отменить. Сам же Наполеон на острове Св. Елены говорил, что этот закон более всего остального стал причиной его падения, восстановив против него всю Южную Францию. Однако Бурбоны вовсе и не думали выполнять свое обещание, и налог продолжал сохраняться вплоть до револю ции 1830 г., когда стране вновь обещали его отменить. Это обе щание было выполнено так же, как и предыдущее, в результате акциз существовал и тогда, когда разразилась революция 1848 года. Временное правительство, вместо того чтобы немедленно ликвидировать этот налог и ввести взамен обложение высоким подоходным налогом крупных капиталистов и земельных собственников, лишь пообещало либо отменить, либо, по крайней мере, пересмотреть, а Учредительное собрание зашло ааже так
4
Ф. ЭНГЕЛЬС
далеко, что решило оставить его без всяких изменений. И только в последние дни своего существования, когда роялизм стал сильнее, чем когда-либо раньше, «честные» и «умеренные» депутаты этого Собрания проголосовали отмену налога на вино с 1 января 1850 года 3.
Совершенно ясно, что налог, о котором идет речь, по сущест ву относится к монархическим традициям Франции. Его отме няли, когда перевес сил был на стороне народных масс, и восстанавливали, как только бразды правления оказывались в руках аристократии или Буржуазии * в лице какого-нибудь Людовика XVIII или Луи-Филиппа. Даже Наполеон, хотя по многим вопросам он выступал как против аристократии, так и против буржуазии и был ниспровергнут их объединенным заговором, даже великий император считал своим долгом восстановить эту особенность старинных традиций монархической Франции.
Тяжесть налога на вино крайне неравномерно ложится на различные классы нации. Это мучительное бремя для бедных, богатым же оно причиняет очень мало беспокойства. Франция насчитывает приблизительно 12 миллионов виноделов; они не платят этого налога, так как потребляют вино собственного изготовления; далее, 18 миллионов живут в деревнях и городах с населением менее четырех тысяч человек, они платят от 66 сантимов до 1 франка 32 сантима налога на каждые 100 литров вина; и наконец, около пяти миллионов живут в городах с на селением свыше четырех тысяч человек, они оплачивают потребляемое ими вино посредством droit d'octroi 4 ; эта пошлина взи мается у городских ворот и неодинакова в разных районах, но во всех случаях это несравнимо выше того, что платит предыдущая категория. Далее, величина налога на самые низкосортные вина такова же, как и на самые дорогие; с гектолитра, который продается по 2, 3, 4 франка, и с гектолитра стоимостью в 12—1500 франков выплачивается одинаковый налог; таким образом, в то время как богатый потребитель отборного шампанского, кларета и бургундского не платит почти ничего, рабочий выплачивает правительству за плохое вино налог, превышающий его подлинную цену на 50, 100, а в некоторых случаях 500 или 1 000%. Из дохода, приносимого этим налогом, 51 миллион франков получается за счет неимущих классов и только 25 миллионов — за счет более состоятельных граждан. При таких обстоятельствах не может быть ни малейшего сомнения в том, что этот налог наносит огромный ущерб
* Так в тексте журнала, Рев,
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
5
производству вина во Франции. Основные рынки сбыта этого продукта — города — превратились для винодела в подлинно Чужеземные страны, где для продажи своего товара он вынужден платить настоящую таможенную пошлину в размере от 50 до 1000% ad valorem *. В другой части рынка — сельской местности — пошлина составляет по меньшей мере от 20 до 50% первоначальной стоимости. Неизбежное следствие такого поло жения — разорение винодельческих районов страны. Правда, несмотря на налог, производство вина все увеличивается, но рост населения обгоняет это увеличение куда более быстрым темпом.
Почему же при буржуазном правительстве оказалось возможным сохранение столь ненавистного налога? Вы можете сказать, что в Англии даже Кобден и Брайт уже давно бы его уничтожили. И они действительно сделали бы это. Но во Франции промышленники так и не смогли найти ни Кобдена, ни Брайта, которые бы с несокрушимым упорством отстаивали их интересы, ни Пиля, который провел бы в жизнь их требования. Финансовая система Франции, хотя ее так превозносит большинство Собрания, является самой путаной и надуманной, mixtum compositum **, какое только можно себе представить. Ни одну из реформ, проведенных после 1842 г. в Англии, не пытались осуществить во Франции Луи-Филиппа. В благословенные времена Гизо почтовая реформа рассматривалась чуть ли не как богохульство. Ни тогда, ни теперь тариф не носил характера ни фритредерского, ни просто фискального, ни протекционистского, ни запретительного тарифа, но в какой-то степени, кроме фритредерства, сочетал в себе отдельные черты всех остальных. Старые запретительные меры и высокие пошлины, которые в течение многих лет были абсолютно безрезультатными, более того, несомненно пагубными для торговли, наличествуют и во всех элементах тарифа. Но никто не решался поднять на них руку. Местные налоги во всех городах с населением свыше 1 000 человек являются косвенными и взимаются с ввозимых туда продуктов. Таким образом, даже внутри страны свобода торговли через каждые 10—15 миль наталкивается на препятствие в виде своеобразных внутренних таможен.
Такое положение вещей, позорное даже для правительства буржуазии, оставалось неизменным по многим причинам. Несмотря на всю тяжесть налогов, которые давали 1400—
* — стоимости. Ред. * * — смешением. Ред.
б
Ф. ЭНГЕЛЬС
1 500 миллионов франков, к концу года всегда образовывался дефицит, и через каждые 4—5 лет выпускался заем. Столь плачевное состояние государственного казначейства для дельцов парижской биржи являлось неисчерпаемым источником наживы, грязных махинаций и биржевых спекуляций. Биржевики и связанные с ними лица составляли большинство в обеих палатах и таким образом являлись истинными властителями государства; они постоянно требовали притока новых средств. Помимо прочего, финансовую реформу нельзя было осуществить без широких мероприятий, которые привели бы бюджет в состояние равновесия, изменили распределение налогов и, сверх того, обложив налогом самих биржевиков, придали больший политический вес другим фракциям буржуазии. О том, каковы были бы последствия таких перемен в условиях, когда у власти находилось прогнившее правительство Луи-Филиппа, вы можете судить по тому сравнительно пустяковому поводу, который вызвал февральскую революцию 5.
Эта революция не привела к власти ни одного человека, способного провести реформу финансовой системы Франции. Господа из «National», которые завладели этим ведомством 6, чувствовали себя связанными по рукам и ногам огромным дефицитом. Было сделано много попыток осуществить реформу постепенно; если не считать отмены налога на соль и почтовой реформы, все они оказались бесплодными. Наконец в припадке отчаяния Учредительное собрание вынесло решение об отмене налога на вино, а теперь «честные» и «умеренные» представители порядка 7 в нынешнем драгоценном Собрании восстанавливают его! Более того, министр * собирается восстановить налог на соль и вновь увеличить почтовый сбор; так что в самом ближайшем будущем во Франции будет возрождена старая финансовая система с ее вечными дефицитами и затруднениями, а следовательно, и безграничной властью парижской биржи с биржевыми спекуляциями, грязными махинациями и погоней за наживой.
Однако народ вряд ли безропотно подчинится решению о восстановлении тяжелого налога на предмет первой необходимости, налога, который ложится на бедных и в то же время почти не затрагивает богатых. Социальная демократия распространила свое влияние в сельскохозяйственных районах Франции удивительно широко, а восстановление налога на соль обратит в ее веру остальные миллионы из числа тех, кто двенадцать месяцев тому назад голосовал за этого тщеславного
• — министр финансов Фульд. Ptd.
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
7
волвана — Луи-Наполеона 8. После того как социальная демократия завоюет на свою сторону деревню, не пройдет и Еескольких месяцев, даже нескольких недель, как над Тюиль-ри и Елисейским дворцом9 будет развеваться красный флаг. И только тогда можно будет радикально поломать старую деспотическую финансовую систему, одним ударом покончив с национальным долгом, введя систему прямого прогрессив ного налогообложения и приняв другие меры столь же решительного характера.
II
ЯРКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СЛАВНЫХ УСПЕХОВ КРАСНОГО РЕСПУБЛИКАНИЗМА! ">
Париж, 21 января 1850 г.
Со времени моего последнего письма произошло очень много важных событий, но так как большинство читателей уже знает о них из ежедневных и еженедельных газет, я не стану повторять то же самое от начала до конца и ограничусь вместо этого в данном письме некоторыми общими замечаниями о положении в стране.
За последние 12—15 месяцев революционный дух во всей Франции чрезвычайно усилился. Класс, который в силу своего социального положения стоял, насколько это возможно в ци вилизованном обществе, в стороне от общественной жизни, который прежним монархическим законодательством был лишен всех политических прав, который никогда не читал газет и который между тем составляет подавляющее большинство французов, — этот класс, наконец, быстро берется за ум и. Этот класс мелкого крестьянства, числом около 28 миллионов мужчин, женщин и детей, насчитывает в своих рядах от 8 до 9 миллионов мелких земельных собственников, которые на положении фригольдеров 1а владеют, по крайней мере, четырьмя пятыми всей земли Франции. С 1815 г. этот класс подвергался угнетению со стороны всех правительств, не исключая и Временного, которое обложило его дополнительным налогом в 45 сантимов на каждый франк поземельного налога 13, а последний весьма велик во Франции. Этот класс, угнетаемый еще и бандой ростовщиков, у которых под чрезвычайно высокий процент заложена почти вся его собственность, наконец начинает понимать, что только правительство, действующее в интересах городских рабочих, освободит его от нищеты и голода, в бездну которых он с каждым днем погружается все глубже и глубже,
8
Ф. ЭНГЕЛЬС
несмотря на свой небольшой земельный надел. Этот класс, в значительной степени форсировавший революцию 1789 г. и явившийся основой, на которой возникла обширная империя Наполеона, теперь в своем подавляющем большинстве стал на сторону революционной партии и рабочих Парижа, Лиона, Руана и других крупных городов Франции. Земледельцы теперь достаточно хорошо понимают, как их надул Луи-Наполеон, которому на президентских выборах они дали по крайней мере 6 миллионов голосов и который расплатился с ними восстановлением налога на вино. Таким образом, огромное большинство французского народа сейчас объединилось, чтобы, как только представится благоприятный случай, свергнуть наглое господ ство класса капиталистов. Этот класс, сраженный февральской бурей, снова завладел властью и правит гораздо более самонадеянно, чем даже во времена его возлюбленного Луи-Филиппа.
События последних месяцев дали бесчисленные доказательства этого весьма важного факта. Вот, например, циркуляр министра д'Опуля, обязывающий жандармерию организовать шпионаж даже в самых глухих углах самых захолустных деревень; а вот закон против школьных учителей, которые во французских деревнях, как правило, лучше всего выражают общественное мнение этих мест и которые теперь выданы на милость правительства, потому что почти все они в настоящее время разделяют социально-демократические взгляды 14. Имеется много и других фактов. Но одно из наиболее ярких доказательств — факт недавних выборов в департаменте Гар. Этот департамент известен как наиболее древняя обетованная земля «белых» — легитимистов. Он явился ареной ужаснейших расправ с республиканцами в 1794 и 1795 гг. после падения Робеспьера; здесь был главный очаг «белого террора» в 1815 г., когда публично убивали протестантов и либералов, а жены, дочери и сестры этих жертв подвергались самым гнусным надругательствам со стороны легитимистских банд, во главе которых стоял знаменитый Трестайон и которым покровитель ствовало правительство легитимного Людовика XVIII. И вот департамент должен был избрать депутата вместо умершего легитимиста *, в результате громадное большинство проголосовало за совершенно красного кандидата **, а два легитимистских претендента *** получили блистательное меньшинство 15.
• — де Бона. Ред. •• — Фавана. Рев. • * • — Грель а Лурдув, Рев.
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ 9
Еще одним доказательством быстрых успехов этого союза рабочих в городах и крестьянства в деревнях служит новый вакон об образовании 16. Самые закоренелые вольтерьянцы из буржуазных кругов, даже г-н Тьер, понимают, что помешать этим успехам можно, лишь отказавшись от своих старых теорий и принципов и подчинив образование духовенству!
Более того. В настоящий момент все общественные деятели и газеты, которые не являются открыто реакционными, наперебой добиваются некогда презренного имени «Социалист». Социа листами объявляют себя старейшие враги социализма. « National » и даже «Siècle», которые при Луи-Филиппе были монархистскими газетами, называют себя социалистическими. Даже Марраст, позорно предавший 1848 год, надеется, хотя и напрасно, обеспечить свое избрание, объявив себя социалистом. Однако народ не так просто одурачить; для этого мерзавца уже приготовлена веревка, и он будет вздернут при первом же удобном случае.
Сегодня Национальное собрание обсуждает закон об уничтожении уцелевших 468 заключенных, участников Июньского восстания, путем их высылки на принудительные работы в самые вредные для здоровья районы Алжира 17. Нет сомнения в том, что закон пройдет подавляющим большинством голосов. Однако нет никакого сомнения и в том, что прежде чем несчастные герои этой великой битвы труда достигнут берега, предназначенного стать их могилой, новая волна народного гнева сметет голосовавших за этот смертный приговор и, вероятно, отправит в эту страну изгнания тех представителей нынешнего большинства, которым, может быть, и удастся избежать более быстрой, более суровой и самой справедливой мести народа.
ш ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ. — ГРЯДУЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 18
Париж, 19 февраля 1850 г.
Мне приходится несколько ограничить размер этого письма, однако события, происшедшие в течение этого месяца, столь разительны, что скажут сами за себя. Революция надвигается так быстро, что любой должен видеть ее приближение. Во всех кругах общества говорят о ее близости, а все иностранные газеты, даже враждебные демократии, заявляют о ее неизбеж ности. И более того, можно почти с полной уверенностью предсказать, что если неожиданные события не изменят хода общест венного развития, великое противоборство между объединенной
10
Ф. ЭНГЕЛЬС
партией порядка и огромным большинством народа произойдет, пожалуй, не позже конца нынешней весны. А исход этого противоборства никаких сомнений не вызывает. Население Парижа настолько уверено в очень скором наступлении более благоприятного, чем когда бы то ни было раньше, момента для революции, что в его среде распространился повсеместный призыв: «Избегай всех мелких стычек, подчиняйся всему, что не затрагивает твоих насущных интересов». Таким образом, на днях, когда рубили деревья свободы, правительству, при всем его старании, не удалось спровоцировать рабочих даже на мелкие уличные беспорядки, а отплясывавшие вокруг дерева свободы у Порт-Сен-Мартен личности, которые в таком устра шающем виде изображены вашей « Illustrated London News », представляли собой шайку полицейских шпионов, потерявших напрасно из-за хладнокровия народа труды целого дня 1в. Итак, хотя правительственные газеты и утверждают прямо противоположное, 24-е число нынешнего месяца 20 пройдет весьма спокойно. Правительство готово пойти почти на все, чтобы вызвать беспорядки в Париже, а также несколько вымышленных заговоров и восстаний в департаментах с целью ввести осадное положение в столице и тех департаментах, где 10 марта предстоит избрание новых депутатов вместо осужденных в Версале 21.
Несколько слов о новой системе военного деспотизма. Чтобы держать в подчинении провинции, правительство, изо брело новую систему главнокомандующих. Оно объединило все 17 военных округов Франции в 4 крупных, каждый из которых должен находиться под командованием одного генерала; по следний, таким образом, обладает почти неограниченной властью восточного сатрапа или римского проконсула. Эти 4 военных округа расположены так, что окружают Париж и весь центр Франции своего рода железным кольцом для того, чтобы держать их в подчинении. Эти незаконные меры приняты, однако, не только из-за народа, но также из-за буржуазной оппозиции. Легитимистская и орлеанистская партии достаточно четко понимают теперь, что Луи-Наполеон служит им очень плохо. Он был нужен им как средство восстановления монархии, как инструмент, который можно, использовав, выбросить, а теперь они видят, что он домогается трона для себя и преуспевает в этом гораздо быстрее, чем им хотелось бы. Им достаточно хорошо известно, что в нынешний момент у монархии нет никаких шансов и что им нужно выждать; Луи-Наполеон тем не менее прилагает все усилия, чтобы довести дело до развязки, и предпочитает рискнуть на революцию, которая может стоить
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
11
ему головы, чем выжидать своего часа. Они знают также, что ни партия легитимистов, ни партия орлеанистов не добились такого перевеса, чтобы победа одной из них стала явной необходимостью; как и до 10 декабря 1848 г., им нужна новая нейтральная фигура, которая могла бы управлять в соответствии с общими интересами обеих партий, пока те будут ожидать развития событий. Итак, обе эти партии, единственные значительные фракции партии порядка, теперь против продления срока президентства Луи-Наполеона, хотя четыре месяца тому назад они пошли бы на все, чтобы добиться этого; они вновь, и на сей раз, за нейтральную почву республики с генералом Шангарнъе в качестве президента. Шангарнье, по-видимому, участвует в заговоре; и Наполеон, который ему не доверяет, но не смеет лишить его проконсульства в Париже, сковал его, как кандалами, своими четырьмя военными округами. Это может объяснить, почему речь г-на Паскаля Дюпра (предавшего Июньское восстание 1848 г., а теперь снова ищущего популярности) против новой военной системы и против самого Луи-Наполеона была весьма терпимо выслушана большинством. При этом произошли два любопытных инцидента. Когда, по словам одной газеты, г-н Дюпра сказал, что Луи-Наполеон может выбирать лишь между позицией своего дяди и положением Вашингтона, слева раздался возглас: «или положением императора Сулука на Гаити!». Это сравнение французского претендента в императоры с персонажем, представляющим благодарнейший предмет для насмешек всех парижских « Chari varis», было встречено всеобщим взрывом смеха, который не прервал даже председатель Собрания *. Так вот какого мнения о Луи-Наполеоне даже это великолепное большинство! Тогда поднялся военный министр** и, обращаясь к левым, произнес весьма энергичную речь, закончив ее словами: «А теперь, господа, если вам угодно начать, мы готовы!» 22. Это выражение министра лучше всего остального покажет вам, что решительно все ждут ожесточенного столкновения.
Тем временем социально-демократическая партия деятельно готовится к выборам. Хотя в Париже, где около шестидесяти тысяч рабочих под разными предлогами вычеркнуты из избирательных списков, «честные и умеренные» имеют шанс провести одного или двух кандидатов, тем не менее нет сомнения в том, что в департаментах социалисты одержат блестящую победу. Этого ждет само правительство. Посему оно подготовило
* — Дюпен. Ред. ** — д'Опуль. Ред.
2 М. и Э., т. 44
12
Ф. ЭНГЕЛЬС
ликвидацию того, что теперь открыто называют заговором «всеобщего избирательного права». Оно намеревается ввести косвенные выборы, когда голосующие избирают ограниченное число выборщиков, называющих, в свою очередь, представителя. Тут правительство уверено в поддержке большинства. Но поскольку это равносильно открытому ниспровержению конституции, которая не может быть пересмотрена ранее 1851 г., причем избранным специально для этой цели Собранием, правительство ожидает энергичного сопротивления со стороны народа. Следовательно, его нужно запугать иностранными армиями, которым надлежит появиться на Рейне в момент, когда это предложение будет внесено в Собрание. Если так действительно произойдет, — а Луи-Наполеон, по-видимому, достаточно глуп, чтобы пойти на подобный риск, — то вам, вероятно, предстоит услышать нечто, подобное грому революции. А тогда пусть бог помилует души всех наполеонов, шангарнье и людей партии порядка!
IV
ВЫБОРЫ. - СЛАВНАЯ ПОБЕДА КРАСНЫХ. —
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА. —
УНЫНИЕ В ПАРТИИ ПОРЯДКА. -
НОВЫЕ ПЛАНЫ РЕПРЕССИЙ И ПРОВОКАЦИЙ
ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕВОЛЮЦИИ
Париж, 22 марта 1850 г.
Победа! Победа! Народ сказал свое слово и сказал его так громко, что искусственное сооружение буржуазного господства и буржуазных интриг потрясено до самого основания. Карно, Видалъ, Дефлотт, народные представители от Парижа, из браны, получив от 127 до 132 тысяч голосов, — вот ответ народа на гнусные провокации правительства и парламентского большинства. Карно — единственный член фракции « National », который при Временном правительстве, вместо того чтобы льстить буржуазии, навлек на свою голову изрядную долю ее ненависти. Видаль давно известен как явный коммунист. Дефлотт — вице-президент клуба Бланки, активный участник событий 15 мая 1848 г., одним из первых ворвавшийся в Собрание, в июне того же года находился среди передовых борцов на баррикадах. Приговоренный к высылке, он теперь шагнул с транспортного судна прямо во дворец Законодательного собрания. Поистине такой состав знаменателен! 23 Он показывает, что если торжество партии красных объясняется союзом
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
13
класса мелких ремесленников и торговцев с пролетариатом, то союз этот основывается на совершенно иных условиях, чем то кратковременное объединение, которое привело к свержению монархии. Тогда именно класс мелких ремесленников и торговцев, мелкая буржуазия, взяли верх во Временном правительстве и еще в большей мере в Учредительном собрании, и очень скоро устранили влияние пролетариата. Теперь же, наоборот, рабочие являются лидерами движения, а мелкая буржуазия, тоже подавляемая и разоряемая капиталом и вознагражденная бан кротством за услуги, оказанные ею в июне 1848 г., вынуждена следовать за революционным движением пролетариата. В том же положении находятся сельские хозяева, и таким образом всю массу этих классов, которые теперь враждебны правительству, — а они составляют огромное большинство французов — возглавляет и ведет вперед класс пролетариев; и все эти классы поневоле приходят к убеждению, что их собственное освобождение из-под ярма капитала зависит от полного и безусловного освобождения рабочих.
Выборы в департаментах также оказались очень благоприятными для партии красных. Она провела две трети своих кандидатов, а партия порядка — одну треть.
Эта партия, или конгломерат партий, превосходно поняла недвусмысленный намек народа. Теперь перед ее глазами стоит неминуемая гибель, коль скоро она допустит, чтобы общие выборы 1852 г., как выборы в Собрание, так и выборы нового президента, состоялись при нынешней избирательной системе. Она понимает, что народ так быстро сплачивается вокруг красного флага, что для нее станет невозможным удержаться у власти даже до истечения этого срока. На одной стороне — президент и Собрание, на другой — огромная масса народа, который с каждым днем все прочнее организуется в непобеди мую фалангу. Таким образом, столкновение неизбежно, и чем дольше станет выжидать партия порядка, тем больше будет на дежды на победу народа. Она понимает это и поэтому должна нанести решительный удар немедля. Единственный оставшийся у нее шанс — как можно скорее спровоцировать восстание и бороться с ним до последней крайности. Помимо того, после выборов 10 марта у «Священного союза» не может оставаться никакого сомнения в том, какого курса ему следует придер живаться. О Швейцарии теперь не-может быть и речи 24. Опять перед ним встает революционная Франция во всем своем грозном величии. Следовательно, надо напасть на Францию и как можно скорее. «Священному союзу» все более не хватает наличных денег, а теперь так мало надежды на получение нового
2*
14
Ф. ЭНГЕЛЬС
запаса этого желанного товара. Уже нельзя больше содержать армии внутри каждой страны — либо их нужно распустить, либо они должны содержать себя сами за счет противника. Вы видите, таким образом, что предсказание о быстром приближении революции и войны, содержащееся в моем последнем письме, полностью подтверждается событиями 25.
Партия порядка пока опять оставила свои внутренние дрязги. Она вновь объединилась для наступления на народ. Она меняет парижский гарнизон, три четверти которого голосовали за список красных 26; а вчера правительство внесло в Собрание закон, восстанавливающий штемпельный сбор с газет, второй закон, предусматривающий удвоение суммы залога для всех газет, и третий, отменяющий свободу избирательных собраний27. За ними последуют другие законы: один из них предоставит полиции право высылать из Парижа любого рабочего, не ро дившегося в этом городе; другой позволит правительству высылать без суда в Алжир всякого гражданина, признанного виновным в участии в тайном обществе, и многие другие, — все это должно увенчаться более или менее прямым наступлением на всеобщее избирательное право. Итак, вы видите, они провоцируют восстание, уничтожая все права и вольности трудящихся классов. Восстание разразится, и народ, объединившись с большинством национальной гвардии, очень скоро сбросит это бесчестное классовое правительство, которое, не будучи способным решительно ни на что, кроме гнусного угнетения, имеет, тем не менее, наглость называть себя «спасителем общества»!!!
V
Париж, 20 апреля 1850 г.28
Взрыв революции, ставшей неизбежной после выборов 10 марта, запоздал из-за трусости как правительства, так и людей, взявших на себя в настоящее время руководство движением в Париже. Правительство и Национальное собрание были настолько ошарашены исходом выборов 10 марта и новыми доказательствами мятежных настроений в армии, что сразу они не осмелились сделать каких-либо выводов. Они решились на принятие новых репрессивных законов, которые я перечислил вам в своем последнем письме; но если министерство и некоторые лидеры большинства уверовали в подобные меры, то этого нельзя сказать об основной массе депута тов, и даже правительство очень скоро вновь утратило в них веру. Таким образом, наиболее крайние из этих репрес-
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
15
сивных законов до сих пор еще не предложены и даже те, которые внесены — законы о печати и об избирательных со браниях, — встретили весьма сомнительный прием со стороны большинства.
С другой стороны, социалистическая партия не извлекла выгоды из своей победы, как следовало бы сделать. Объясняется это очень просто. Она состоит не только из рабочих, а в настоящее время включает в свой состав и большое количество мелких буржуа, представителей того класса, чей социализм на деле отличается значительно большей умеренностью, чем социализм пролетариев. Лавочники и мелкие ремесленники очень хорошо знают, что их спасение от разорения всецело зависит от освобождения пролетариата, что их интересы неразрывно связаны с интересами рабочих. Но они также понимают, что, если пролетариат завоюет политическую власть путем революции, их, лавочников, полностью отодвинут на задний план и вынудят принимать из рук рабочего класса все, что последний сможет им предоставить. Если же, наоборот, существующее прави тельство будет устранено мирным путем, то лавочники и мелкие ремесленники, будучи наименее опасными [ obnoxious ] из всех ныне оппозиционных классов, преспокойно вмешаются и за хватят власть, предоставив в то же время рабочему классу такую минимальную долю этой власти, какая только возможна. Следовательно, класс мелких ремесленников и торговцев был напуган своей собственной победой так же, как правительство было напугано своим собственным поражением. Они увидели, как на их глазах нарастает революция, и приложили все усилия к тому, чтобы предотвратить ее. Для этого в их руках было готовое средство. Гражданин Видаль, избранный в Париже, кроме того был избран и на Нижнем Рейне. Его побудили принять нижнерейнский мандат, и таким образом в Париже возникла необходимость в новых выборах. Ведь ясно, что пока народу дается возможность одерживать победы мирным путем, он никогда не будет звать «к оружию» и, если, тем не менее, он будет спровоцирован на восстание, ему придется драться с весьма малыми шансами на победу.
Новые выборы назначены на 28-е число этого месяца, и пра вительство немедленно воспользовалось благоприятной ситуа цией, созданной любезными мелкими лавочниками. Министры раскопали старые полицейские правила, чтобы выслать из Парижа какое-то количество оказавшихся в данный момент без работы пролетариев 2в; прямо распорядившись о полном запрещении избирательных собраний, они показали, что могут Обойтись и без внесенного и направленного против этих собраний
16
Ф. ЭНГЕЛЬС
закона. Народ, зная, что накануне выборов его борьба не может быть успешной, подчинился. Социально-демократическая печать, полностью находящаяся в руках мелких лавочников, естественно, сделала все возможное, чтобы сохранить спокойствие масс. Поведение этой прессы со времени истории с «де ревьями свободы» было крайне постыдным. Не раз за это время представлялся случай для народного восстания, но печать всегда проповедовала мир и спокойствие, в то время как в избирательных комитетах и тому подобных организациях представители мелких лавочников постоянно стремились уменьшить шансы на победу в уличных боях, находя отдушины для мирного выхода народного возмущения.
Ложная позиция, в которую была поставлена красная пар тия, и выгода от новых выборов, полученная партией порядка, полностью отражены в именах двух конкурирующих кандида тов. Кандидат красных Эжен Сю является превосходным представителем благонамеренного, «благодушного», сентиментально- мещанского социализма, который, будучи весьма далеким от признания революционной миссии пролетариата, предпочел бы устроить некую пародию на его освобождение под благожелательным покровительством класса мелких ремесленников и торговцев. Как политическая фигура Эжен Сю величина ничтож ная. Выдвижение его кандидатуры в целях демонстративных является шагом назад от позиции, завоеванной 10 марта. Однако следует признать, что если сентиментальному социализму суждено стать модой дня, то имя Сю является самым популярным среди тех, кто мог быть выдвинут на первое место, и у него большие шансы на избрание.
С другой стороны, партия порядка вернула себе свои позиции настолько, что Эжену Сю, чье имя не означает ничего или означает очень мало, она противопоставляет имя, означающее все, имя г-на Леклера, буржуазного спартанца в Июньском восстании30. Леклер явился прямым ответом на Дефлотта и прямым провокационным подстрекательством рабочих, более прямым, чем любое другое имя. Кандидатура Леклера для Парижа — это повторение слов генерала д'Опу-ля: «Теперь, господа, если вам угодно выйти на улицу, мы готовы!».
Как видите, повторные выборы в Париже не сулят никаких выгод, а, наоборот, уже причинили значительный вред проле тарской партии. Следует также отметить и такой факт: выборы 10 марта производились по старым спискам; выборы же 28 апреля будут проведены в соответствии с новым исправленным списком избирателей на 1850 г., вступившим в силу 1 апреля;
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
17
а в этом исправленном списке под разными предлогами вычерк нуто от двадцати до тридцати тысяч рабочих.
Однако, если на этот раз партия порядка и получит незна чительное большинство, она не будет в выигрыше. Факт остает ся фактом, что при сохранении всеобщего избирательного права управлять Францией она больше не сможет. Факт остает ся фактом, что зараза социализма широко проникла в армию, которая ждет только случая открыто начать мятеж. Факт остается фактом, что рабочие Парижа более, чем когда-либо рань ше, охвачены желанием положить конец теперешнему положению вещей. Никогда раньше они не высказывались так открыто на избирательных собраниях, как на этот раз, пока эти собрания не были запрещены. И правительство, форсирующее свое наступление на всеобщее избирательное право, дает тем самым народу возможность вступить в борьбу, в которой пролетариат бесспорно одержит победу.
VI
[Париж, конец мая 1850 г.] 3l
Если пролетарии стерпят, чтобы у них отобрали избирательное право, они покорятся тому, что сделанное февральской революцией в той мере, в какой это касается их интересов, будет уничтожено. Для них республика перестанет существовать. Они окажутся за ее пределами. Допустят ли они это?
Этот закон наверняка пройдет. Он не будет ослаблен ни на йоту. Воля большинства в этом вопросе уже отчетливо выявилась 8а. И теперешнее положение дел таково, что никто не может сказать, каковы будут последствия — поднимется ли народ и сбросит правительство и Собрание, или же он будет ждать другого подходящего момента. Париж кажется спокойным, нет прямых признаков надвигающейся революции; но будет достаточно искры, чтобы вызвать взрыв громадной силы.
Этот взрыв произошел бы раньше, если бы не предательское поведение вождей, которые заняты лишь проповедью «мира», «тишины» и «величественного спокойствия» 33. Однако это не может продолжаться долго. Ситуация во Франции в высшей степени революционна. Партия порядка не может остановиться на достигнутом. Чтобы удержаться, она должна каждый день продвигаться на шаг вперед. Если этот закон пройдет, не вызвав революции, партия порядка начнет новые, более неистовые
18
Ф. ЭНГЕЛЬС
и более открытые атаки на конституцию и республику. Партия порядка хочет мятежа, а получит революцию, и к тому же скоро. Ибо необходимо иметь в виду, что это вопрос недель, может быть, дней, но не лет.
VII
Париж, 22 июня 1850 г.
Закон о «реформе» избирательного права прошел, а народ Парижа не шелохнулся. Отмена всеобщего избирательного права не вызвала ни малейшей попытки выступления или демонстрации, и рабочие Франции снова оказались тем, чем они были при Луи-Филиппе: политическими париями без признанных прав, без права голоса, без оружия.
В самом деле, весьма любопытно, что во Франции всеобщее избирательное право, с легкостью завоеванное в 1848 г., было с еще большей легкостью упразднено в 1850 году. Впрочем, такие взлеты и падения вполне соответствуют французскому характеру, они — весьма частое явление в истории Франции. В Англии подобное было бы невозможно. Там раз уже установленное всеобщее избирательное право было бы завоевано навсегда. Ни одно правительство не посмело бы посягнуть на него. Достаточно представить, что какому-нибудь министру взбрело бы в голову сделать попытку всерьез восстановить хлебные законы. Он был бы опрокинут гомерическим хохотом всей нации.
Нет никакого сомнения в том, что народ Парижа совершил серьезную ошибку, упустив предоставленную упразднением всеобщего избирательного права возможность поднять восстание. Армия была настроена благоприятно, класс мелких ремесленников и торговцев вынужден был идти с народом, а Гора, более того, даже партия Кавеньяка, понимали, что в случае поражения восстания они неизбежно пострадали бы из-за него независимо от того, были бы они с народом или нет. Таким образом, коль скоро восстание началось бы, то, по крайней мере, моральная поддержка класса мелких ремесленников и торговцев и его парламентских представителей, Горы, была на этот раз обеспечена, а тем самым было бы сломлено и сопротивление значительной части армии. Но благоприятный момент был упущен, отчасти из-за трусости парламентских лидеров и прессы, отчасти из-за теперешнего своеобразного настроения народных масс Парижа.
Рабочие столицы находятся сейчас в переходном состоянии. Социалистические системы разного рода, которые до сих пор
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
19
обсуждались в этой среде, больше не отвечают их запросам, и следует признать, что это относится ко всем системам французского социализма вместе взятым, — во всех них не так уж много подлинно революционного содержания. С другой стороны, народ, который столько раз бывал обманут своими вожаками, питает такое глубокое недоверие ко всем, кто когда-либо выступал в качестве его лидеров, не исключая даже Барбеса и Бланки 34, что пришел к решению не предпринимать никаких выступлений с целью привести к власти кого-либо из них. Таким образом, все движение рабочего класса начинает принимать другой, гораздо более революционный характер. Народ, начав мыслить самостоятельно, освободившись от традиций старых социалистических школ, скоро обретет социалистические и революционные положения, которые выразят его нужды и интересы гораздо более четко, чем все то, что было выдумано для него авторами систем и лидерами-краснобаями. А тогда, достигнув таким образом зрелости, народ снова сумеет использовать все, что есть талантливого и мужественного среди прежних лидеров, не плетясь ни у кого из них в хвосте. Этим настроением парижских масс и объясняется безразличие, с которым народ встретил отмену всеобщего избирательного права. Решающий бой отложен до того дня, когда одна или обе соперничающие силы в государстве, президент или Национальное собрание, попытаются опрокинуть республику.
И этот день должен скоро наступить. Вы помните, как на всех перекрестках реакционная печать хвасталась сердечным согласием, установившимся между президентом и большинством. Теперь это сердечное согласие прямо превратилось в самую ожесточенную борьбу между двумя соперниками. В качестве цены за согласие с избирательным законом президенту была обещана ежегодная прибавка к содержанию в три миллиона франков (120 тысяч фунтов стерлингов), прибавка, в которой сидящий по уши в долгах Луи-Наполеон крайне нуждался. Помимо этого, он рассматривал ее как предварительный шаг к продлению срока своего президентства на 10 лет. Лишь только избирательный закон был принят, в дело вмешались министры и затребовали годовые 3 миллиона. Но большинство неожиданно испугалось. Не считая больше слабоумного Луи-Наполеона серьезным претендентом и оставаясь далеким от мысли согласиться на продление срока его президентства, большинство, напротив, желает избавиться от него как можно скорее. Оно назначает специальную комиссию для доклада о законопроекте, и комиссия высказывается против его принятия 35. Величайшее
20
Ф. ЭНГЕЛЬС
смятение в Елисейском дворце. Наполеон угрожает отставкой. Назревает самое серьезное столкновение между двумя властями в государстве. Министерство, ряд банкиров, кое-кто еще из «друзей порядка» выступают в качестве посредников, но безрезультатно. Выдвигается несколько вариантов «соглашения» — все напрасно. Наконец принимается поправка, которая, по-видимому, более или менее удовлетворяет все стороны. Большинство, не вполне уверенное в последствиях разрыва с президентом и до сих пор еще не заключившее окончательно соглашения, которое должно объединить легитимистов и орлеанистов в одну партию, как будто идет немного на попятную и согласно гарантировать выплату денег, но в другой форме. Прения должны состояться в понедельник; пока никто не может сказать, каков же будет результат. Однако, как я полагаю, серьезный разрыв с Наполеоном пока еще не отвечает политической линии монархического большинства.
Соглашение об объединении орлеанистов и легитимистов, младшей и старшей ветвей дома Бурбонов, сейчас, больше чем когда-либо, является предметом обсуждения. Действительно, в этом направлении ведутся весьма активные переговоры. Поездки гг. Тьера, Гизо и других к смертному одру Луи-Филиппа в Сент-Ленардс не имели другой цели. Я не буду вам пересказывать различные версии, касающиеся обстоятельств этого дела и результатов указанных поездок. Ежедневная печать писала об этом более чем достаточно. Тем не менее достоверно, что во Франции партии орлеанистов и легитимистов почти договорились об условиях, и единственная трудность заключается в том, чтобы заставить две соперничающие ветви принять эти условия. Генрих, герцог Бордосский *, должен стать королем, а так как он бездетен, то усыновление графа Парижского, внука Луи-Филиппа и законного наследника престола, почти само собой разумеется и не представляет затруднений. Кроме того, должен быть сохранен трехцветный флаг. Смерть старого Луи-Филиппа, на которую рассчитывают, облегчила бы реше ние вопроса. Он как будто смирился с этим решением, а герцог Бордосский, по-видимому, также принял условия соглашения. Герцогиня Орлеанская, мать графа Парижского, и ее деверь, Жуанвиль, якобы являются единственными противниками соглашения. От Луи-Наполеона намерены откупиться десятью миллионами чистоганом.
Нет сомнения, что это или подобное соглашение будет в конце концов заключено; и как только это произойдет, начнется пря-
• — Шамбор. Ред.
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦПП
21
мое наступление на республику. Тем временем предварительная атака должна быть начата представительными собраниями департаментов. Их только что созвали раньше обычного срока, и пред полагается, что они обратятся в Национальное собрание с предложением о пересмотре конституции. Тот же вопрос обсуждался и в прошлом году, но тогда они сами сочли этот шаг преждевре менным. Нет сомнения в том, что на сей раз представительные собрания проявят значительно большую отвагу, в особенности после успешного удара по избирательному праву. А тогда настанет час и для народа показать, что если он какое-то время и воздерживался от проявления своей мощи, то вовсе не намерен позволить отбросить себя назад к самым гнусным временам Реставрации.
P. S. Я только что прочел небольшой памфлет ценой в три су (полпенни), который раздается бесплатно вместе с «République». В нем содержатся самые поразительные разоблачения относительно интриг и заговоров монархистов начиная с весны 1848 года. Автор, некий Борм, был свидетелем на процессе Барбе-саи Бланки в Бурже. Он признает себя платным агентом роялистов, лжесвидетельствовавшим на этом процессе. Он утверждает, что все движение 15 мая 1848 г. началось с выступления монар хистов, и сообщает много других весьма любопытных вещей 36. Кое-что касается и «Times» 37. Борм дает имя и адрес. Он живет в Париже. Характер этого памфлета таков, что он может повлечь за собой еще немало разоблачений. Советую вам обратить на него самое серьезное внимание.
VIII
Париж, 23 июля 1850 г.
Как я и предвидел в своем последнем письме, Собрание в конце концов приняло решение об ассигновании Луи Бонапарту дополнительных средств, по сути предоставив ему желаемую сумму, а по форме глубоко унизив его в глазах всей Франции 38. После этого Собрание возобновило свою репрессив ную деятельность, приняв закон о печати зв. Каким бы суровым этот закон ни вышел из рук его автора, г-на Бароша, по сравнению с тем, во что его превратила злоба большинства Собрания, он был безвредным и безобидным. В своей бешеной, но бессильной ненависти к прессе большинство наносило удары почти вслепую, не обращая внимания, кому они достаются — «хорошей» или «плохой» прессе. Таким образом, «закон ненависти» Прошел. Были увеличены залоги. Восстановлен штемпельный
22
Ф. ЭНГЕЛЬС
сбор с газет. Введен дополнительный штемпельный сбор с «фельетонных романов», с того отдела газет, который отведен для публикации романов, — эта мера была бы совершенно непонятна, если бы она не представляла собой ответ на избрание Эжена Сю, влияние социалистических романов которого еще не было забыто большинством. Таким же налогом, наравне с газетами, обложены все публикуемые в еженедельных и ежемесячных выпусках произведения до определенного объема. И наконец, каждая заметка, появляющаяся в газете, должна иметь подпись автора.
Этот закон, каким его сделала слепая ярость большинства, наносит сильный удар не только социалистической и республи канской, но и контрреволюционной прессе, и возможно, что последней — гораздо более сильный, чем оппозиционной печати. Имена республиканских публицистов достаточно хорошо из вестны и потому почти ничего не меняется от того, подписывают они свои заметки или нет; но если « Journal des Débats», «Assemb lée Nationale», «Pouvoir», «Constitutionnel» и т. д. будут вынуждены раскрыть имена своих сотрудников, их передовые статьи немедленно утратят всякое влияние даже в кругу постоянных читателей. Название большой ежедневной газеты, в особенности уже давно выходящей, для почтенной публики всегда представляет почтенную фирму; но стоит только этим фирмам — Бертен и К0, Верон и К0, Деламар и К0 — хоть раз выявить имена представляющих их литераторов, стоит хоть раз этой таинственной «К0» предстать в виде застарелых продажных наемных писак, которые за чистоган защищали все, что угодно, вроде Гранье де Кассаньяка, или в виде глупых старых баб, называющих себя государственными людьми, вроде Капфи-га, стоит только всем этим людишкам, которые орут во всю глотку и изрыгают длинные статьи, выйти в соответствии с новым законом на свет божий, как вся эта почтенная пресса предстанет перед вашими глазами в весьма жалком облике.
Несомненно, что при новом законе вследствие повышения цен на газеты очень широкий круг читателей будет лишен этого источника информации. И газеты, дешевая периодика, и другие массовые издания станут недоступными для многочисленных рабочих и особенно для большинства сельских жителей. Но пресса всегда была лишь дополнительным средством воздействия на крестьянство; этот класс гораздо острее реагирует на свои собственные материальные трудности и на повышение налогов, чем на разглагольствования прессы; и пока нынешнее буржуазное правительство не сможет найти средство — а оно
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ
23
не сможет никогда — смягчить бремя ростовщичества и нало гов, лежащее на крестьянстве, до тех пор этот недавно пробудившийся класс будет проявлять недовольство и «революционные стремления». Что касается рабочих в городах, то совершенно закрыть им доступ к газетам невозможно, и если прекращен выпуск дешевых периодических изданий, они восполнят этот пробел увеличением числа тайных обществ, тайных дискуссионных клубов и т. д. Но если правительству в какой-то степени и удалось уменьшить количество революционных памфлетов и периодических изданий, оно добилось этого ценой гибели издательского дела и книготорговли; ибо при ограничениях, налагаемых новым законом, их существование немыслимо. А потому весьма вероятно, что все это будет сильно способствовать расколу партии порядка как в самом Собрании, так и вне его.
Как только закон о печати был принят, Собрание еще раз дало ясно понять Луи-Наполеону, что он не должен выходить за рамки, которые поставлены ему конституцией. Бонапартистская газета «Pouvoir» поместила статью, в которой весьма нелестно говорилось о Собрании. На свет божий был извлечен старый закон времен Реставрации, издатель «Pouvoir» предстал перед судом за нарушение привилегий и был приговорен к штрафу в 5 тысяч франков (200 фунтов стерлингов) 40, кото рый, конечно, был немедленно уплачен. Это наказание нельзя назвать слишком суровым, но само решение Собрания весьма знаменательно. «Бьем мы внизу, но метим выше», — под громкие аплодисменты заявил один из депутатов.
Затем Собрание решило отложить cil августа свои заседания на три месяца. В соответствии с конституцией оно должно было избрать комиссию в составе двадцати пяти депутатов, которая обязана во время перерыва оставаться в Париже и осуществлять наблюдение за исполнительной властью. Лидеры большинства, полагая, что Луи-Наполеон уже достаточно унижен, предложили список кандидатур, который включал только представи-т*елей большинства: орлеанистов, умеренных легитимистов, не скольких бонапартистов и ни одного республиканца или крайнего легитимиста. Однако во время голосования все бонапартисты были выкинуты и вместо них избраны несколько умеренных республиканцев и крайних легитимистов. Тем самым Собрание еще раз продемонстрировало, что вовсе не намерено допустить coup d'état *, о котором все время мечтает Луи-Наполеон.
* — государственный переворот. Ред,
24
Ф. ЭНГЕЛЬС
Я не думаю, чтобы произошло что-нибудь серьезное раньше, чем будет сделана попытка опрокинуть республику — кто бы такую попытку ни сделал: президент или одна из монархических фракций. Несомненно, что это вывело бы народ из состояния апатии; и это событие должно произойти где-то между сегодняшним днем и маем 1852 г., но точный срок предсказать невозможно.
|
Печатается по тексту журнала Перевод с английского |
Написано Ф. Энгельсом 20 декабря 1S49 г. — 23 июля 1850 г
Напечатано в журнале
« Democratic Review»
в январе — августе 1850 г.
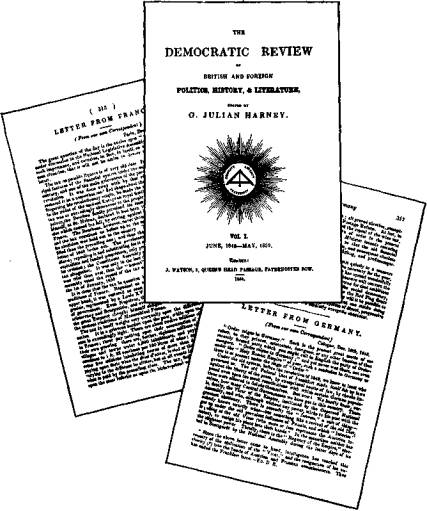
Титульный лист чартистского журнала « Democratic Review »
и страницы со статьями Ф. Энгельса «Письма из Франции»
и «Письма из Германии»
[ 27
Ф. ЭНГЕЛЬС
ПИСЬМА ИЗ ГЕРМАНИИ «
I
Кёльн, 18 декабря 1849 г.
«Порядок царит в Германии». Таков в эти дни основной девиз наших правителей, будь то государи, аристократы, буржуа или любая другая фракция той недавно созданной партии, которую по-английски можно было бы назвать партией приверженцев порядка [ordermongers] 42. «Порядок царит в Германии», однако никогда еще, даже в давние-предавние времена «Священной Римской империи», в Германии не было такой неразберихи, как в нынешнее царствование «Порядка».
При прежней системе, до революции 1848 г., мы по крайней мере знали, кто нами правит. Прежний франкфуртский Союзный сейм давал о себе знать законами против свободы печати, чрезвычайными судами, ограничениями, налагаемыми даже на те смехотворные конституции, которыми известным группам населения Германии разрешалось себя тешить. А теперь! Мы сами едва знаем, сколько Центральных Правительств в нашей стране. Во-первых, существует Имперский Регент *, которого произвело на свет разогнанное Национальное собрание 43 и который, хотя и не обладает никакой властью, с огромным упорством цепляется за свой пост. Во-вторых, имеется «.Interim» 4 \ некое установление — никто точно не знает, что это, — но, вероятно, нечто вроде возрождения старого Сейма; он создан при прежнем преобладающем влиянии Пруссии, и этот «Interim» теперь оказывает давление на дряхлого регента (который в большей или меньшей степени представляет интересы Австрии), чтобы последний уступил ему свое место 45. Между тем ни тот, ни
• — Иоганн. Рев.
28
Ф. ЭНГЕЛЬС
другой не имеют ни малейшей власти. В-третьих, есть «Регентство Империи» 4в, избранное в Штутгарте Национальным собранием в последние дни его существования, и остатки этого собрания — «Решительная Левая» и «Крайняя Левая». Обе эти «Левые» наряду с «Регентством» представляют «умеренных и философских» Демократов и Лавочников Германии. Это «Имперское» правительство заседает в одном из трактиров Берна, в Швейцарии, и почти столь же могущественно, как и два предыдущих. В-четвертых, существует так называемый Союз Трех Королей, или «Ограниченное [ Confined] (или Улучшенное [ Refined] *, я уж не знаю какое) Федеральное Государство», создаваемое с целью превратить короля Пруссии ** в Императора над всеми менее значительными государствами Германии47. Он называется «Союзом Трех Королей» потому, что все короли, за исключением короля Пруссии, выступают против него! А «Рождающим Федеральным Государством» он называет себя потому, что, хотя с 28 мая этого года 48 он испытывает постоянные родовые муки, нет никаких надежд на то, что на свет появится что-то жизнеспособное!! В-пятых, имеются Четыре Короля 49 — ганноверский, саксонский, баварский и вюртембергский ***, которые полны решимости действовать по своему усмотрению и не подчиняться ни одному из вышеупомянутых «Бессильных Центральных Правительств»; и, наконец, есть Австрия, пытающаяся любыми способами сохранить свое верховенство в Германии и поддерживающая поэтому четырех королей в их борьбе за независимость от доминирующего влияния Пруссии. Между тем настоящими правительствами, такими, которые обладают властью, являются правительства Австрии и Пруссии. Они правят Германией с помощью деспотической военной силы и издают и отменяют законы по своему усмотрению. Между их владениями и зависимыми от них государствами находится quasi **** нейтральная территория — указанные четыре королевства — и именно здесь, и особенно в Саксонии, столкнутся притязания этих двух крупных держав. Однако ни о каком серьезном конфликте между ними не может быть и речи. И Австрия и Пруссия — обе слишком хорошо знают, что их силы должны и впредь быть объединенными, если они хотят сдержать рост революционных настроений, охвативших всю Германию, Венгрию и те области Польши, которые им принадлежат.
* Непереводимая, основанная на созвучии игра слов: «ограниченный», «тесный», «узкий» и «рождающий». Ред.
•* — Фридриха'-Вильгельма IV. Рев.
**• — Эрнст-Август, Фридрих-Август II , Максимилиан II, Вильгельм I . Ред, • »•• _ мнимо. Ред,
ПИСЬМА ИЗ ГЕРМАНИИ
29
Кроме того, в случае необходимости «наш возлюбленный шу рин» 50, православный царь всея Руси, вмешался бы и запретил своим наместникам в Австрии и Пруссии ссориться между собой.
Эта беспрецедентная неразбериха с правительствами, притязаниями, требованиями, германской общесоюзной конституцией имеет, однако, одно огромное преимущество. Вплоть до настоящего времени немецкие республиканцы делились на федералистов и унитаристов, причем первые опирались в основном на юг страны. Неразбериха, возникающая в связи с каждой попыткой преобразовать Германию в федеративное государство, со всей очевидностью доказывает, что всякий такой план будет бесплодным, неосуществимым и безрассудным, поскольку Германия настолько продвинулась по пути цивили зации, что ее государственное устройство может существовать лишь в форме Германской республики, единой и неделимой, демократической и социальной.
Мне бы хотелось сказать несколько слов об оправдании Вальдека и Якоби 51, но недостаток места не дает мне возможности сделать это. Достаточно заметить, что по крайней мере в ближайшие несколько месяцев у правительства Пруссии не будет никакой возможности добиться вынесения обвинительных приговоров на политических процессах, за исключением, может быть, нескольких глухих углов, где присяжные так же фанатичны, как оранжисты Ольстера Б2.
II
ЛЮБОПЫТНЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ,
КАСАЮЩИЕСЯ ГЕРМАНСКИХ ДЕСПОТОВ. —
ЗАМЫШЛЯЕМАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ФРАНЦИИ. —
ГРЯДУЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Кёльн, 20 января 1850 г.
На следующий день после отсылки вам моего предыдущего письма здесь стало известно об «урегулировании вопроса» о том, кто должен править всей Германией. « Interim », в состав которого входят два австрийских и два прусских представителя, наконец одолел дряхлого эрцгерцога Иоганна, заставив его уйти в отставку. В результате « Interim » взял в свои руки бразды правления, которое, однако, не будет долговечным. Его полно мочия истекают в мае этого года, и можно с полным основанием
30
Ф. ЭНГЕЛЬС
ожидать, что еще до этого срока некоторые «неблагоприятные события» сметут этих четырех временных правителей Германии. Имена этих четырех ставленников военного деспотизма весьма знаменательны. Австрия направила сюда г-на Кюбека, министра финансов при Меттернихе, и генерала Шёнгальса, правую руку палача Радецкого. Пруссия представлена генералом Радовицем, членом ордена иезуитов, фаворитом короля и главным изобретателем всех тех заговоров, с помощью которых Пруссии пока удалось подавить немецкую революцию, а также г-ном Бётихером, до революции губернатором провинции Восточная Пруссия, где о нем и сейчас с любовью (?) вспоминают как о «душителе» общественных собраний и организаторе системы шпионажа. Нет нужды говорить вам, каковы будут деяния подобной компании негодяев. Приведу только один пример. Под нажимом революции правительство Вюртемберга вступило в соглашение с князем Турн-унд-Таксис, который, как вам известно, через голову правительств обладает монополией пересылки писем по почте и перевозки пассажиров на значительной части территории Германии 63. Правительство Вюртемберга, как я уже сказал, заключило с этим грабителем в общенациональном масштабе соглашение об его отказе за кругленькую сумму от своей монополии в пользу упомянутого правительства. Как только для тех, кто живет за счет грабежа национального богатства, наступили лучшие времена, князь Турн-унд-Таксис стал оценивать свои монопольные права в сумму большую, нежели та, на которой сошлись, и не желает отказываться от них. Правительство Вюртемберга, на которое уже не оказывают давление извне, считает такую перемену мнения разумной; и обе стороны — князь открыто, а вышеупомянутое правительство тайно — обращаются к « Interim », который, восполь зовавшись в качестве предлога одной из статей старого закона от 1815 г., объявляет это соглашение недействительным и незаконным. Итак, это дело улажено. Даже лучше, что г-н Турн-унд-Таксис сохранит свою привилегию еще на несколько месяцев; когда народ положит конец всем привилегиям, он не только отберет у Турн-унд-Таксиса его монополию без всякого выкупа, но и заставит его вернуть все народные деньги, наворованные к этому времени.
В Австрии военный деспотизм с каждым днем становится все более невыносимым. Пресса почти уничтожена, все гражданские свободы ликвидированы, вся страна наводнена шпионами — тюремные заключения, военные суды, порки по всей стране — вот что на деле означают те провинциальные конституции м, которые время от времени обнародует правительство
ПИСЬМА ИЗ ГЕРМАНИИ
31
в которые ему ничего не стоит нарушить в самый момент их появления на свет. Однако всему есть предел, даже осадному положению и господству шпаги. Армии стоят денег, а деньги такая вещь, которую даже самый могущественный император не может создать по своей воле. До сих пор австрийскому правительству удавалось сводить концы с концами в области финансов благодаря выпуску колоссального количества бумажных денег. Но и этому пришел конец; и вопреки тому прусскому лейтенанту, который однажды хотел вызвать меня на дуэль за то, что я сказал ему о невозможности для короля или императора печатать столько бумажных талеров, сколько ему вздумается 65, вопреки этому глубокому экономисту император Австрии видит, что его бумажные деньги, хотя они и не кон вертируются, на двадцать — тридцать процентов дешевле серебряных и почти на пятьдесят процентов дешевле золотых. Внешний заем, который он намеревался выпустить, лопнул благодаря стараниям г-на Кобдена. Иностранные капиталисты подписались лишь на 500 тысяч фунтов стерлингов, а ему нужна сумма в пятнадцать раз большая; в то же время собственная истощенная страна не в состоянии предоставить ему никаких средств. Дефицит, составлявший в конце сентября прошлого года пятнадцать с половиной миллионов, к настоящему времени уже достиг, вероятно, двадцати — двадцати четырех миллионов, причем большая часть расходов на войну в Венгрии подлежит оплате в последнем квартале 1849 года. Таким образом, Австрия стоит перед альтернативой: либо банкротство, либо война, чтобы заставить армию самой содержать себя и чтобы с помощью победных сражений, завоеванных провин ций и военных контрибуций восстановить коммерческий кредит. Таким образом, г-н Кобден, выступая против австрийского и русского займов под предлогом сохранения мира 6в, более любого другого способствует — поскольку Россия находится в столь же затруднительном положении, как и Австрия, — приближению той коалиционной кампании против французской республики, которую ни при каких обстоятельствах нельзя далее откладывать.
В Пруссии мы являемся свидетелями очередного проявления «королевской добросовестности». Вам известно, что Фридрих- Вильгельм IV — человек, который никогда не нарушал своего слова, — в ноябре 1848 г. силой разогнал Национальное собрание страны и навязал своему народу угодную ему конституцию 57; вы знаете о его согласии на то, чтобы первое же созван ное Собрание внесло изменения в это блестящее произведение искусства; вы знаете, что в этом Собрании вторая палата
32
Ф. ЭНГЕЛЬС
(палата общин) была распущена еще до того, как она приступила к внесению поправок в конституцию, а народу был навязан новый избирательный закон, который весьма мило покончил со всеобщим избирательным правом и обеспечил избрание большинства, состоящего из земельной аристократии, правительственных чиновников и буржуазии 68. В выборах этой палаты отказались участвовать все демократы, так что она была избрана лишь одной пятой или одной шестой общего числа избирателей, — эта палата совместно с прежней первой палатой взялась за пересмотр конституции и сделала ее, разумеется, еще более приемлемой для короля по сравнению с его собственным первоначальным вариантом. Сейчас они уже почти покончили с этим. Вы думаете, что теперь его величество соблаговолит признать эту исправленную конституцию и принять предусмотренную ею присягу? Не тут-то было. Он шлет преданному ему Собранию королевское послание, заявляя, что весьма удовлетворен изменениями, которые обе палаты внесли в его конституцию, но что, прежде чем его «королевская добросовестность» позволит ему принять упомянутую присягу, необходимо изменить около дюжины пунктов его собственной конституции 59. Каковы же эти пункты? Что ж, его величество достаточно скромен, чтобы не требовать больше нижеследующих пустяков: 1. Первая палата, в настоящее время избранная крупными землевладельцами и капиталистами, должна стать настоящей палатой лордов, в ее состав включаются принцы королевской крови; около ста наследственных пэров, назначаемых его величеством; шестьдесят пэров, избираемых крупными землевладельцами; тридцать — крупным капиталом; шесть — университетами. 2. Министры должны быть ответственны перед королем и страной, а не перед Собранием. 3. Все налоги, предусмотренные в настоящее время бюджетом, остаются навечно, и Собрание лишается права отказывать в них. 4. Должна быть создана «Звездная палата» в0, или Верховный суд, для рассмотрения политических дел (о присяжных заседателях — ни слова). 5. Должен быть издан специальный закон, определяющий и ограничивающий права второй палаты Собрания и т. д. Ну, как вам все это нравится? Его величество навязывает добрым пруссакам новую конституцию, в которую Собрание должно внести изменения. Его Собрание изменяет ее, выбрасывая оттуда все, что осталось от народных прав. А король, не удовлетворенный этим, заявляет, что его «королевская добросовестность» не позволяет ему признать свою собственную конституцию, исправленную в его же собственных интересах, без указанных выше новых изменений. Поистине это подлинно
ПИСЬМА ИЗ ГЕРМАНИИ
33
«королевский» вид добросовестности! Маловероятно, чтобы даже нынешнее пародийное подобие Собрания подчинилось таким бесстыдным требованиям. Тогда последует роспуск, и пока Пруссия останется вообще без всякого Собрания. За всем этим скрывается ожидание большой коалиционной войны, о которой речь шла выше. «Добросовестный» джентльмен, сидящий на прусском троне, надеется, что к марту или апрелю его мятежная страна будет наводнена миллионом азиатских варваров, которые вместе с «его собственной доблестной армией» двинутся на Париж, чтобы завоевать эту прекрасную страну, производящую столь милое его сердцу шампанское. А когда с республикой будет покончено и на французском троне будет восстановлен отпрыск Святого Людовика *, какой прок от конституций и собраний у себя дома?
Тем временем по всей Германии быстро возрождается революционный дух. Самый закоснелый из бывших либералов **, который после марта 1848 г. стал на сторону короля для борьбы против народа, видит теперь, что, как говорят в Германии, хотя он отдал чёрту только кончик своего мизинца, этот джентльмен уже сумел ухватить всю руку. Лучшим доказательством этого служат бесконечные оправдательные приговоры в судах присяжных по политическим процессам. Каждый день приносит новые свидетельства такого рода. Так, несколько дней тому назад рабочие Мюльгейма, которые в мае 1849 г. разобрали железную дорогу, чтобы помешать отправке войск в восставший Эльберфельд, были оправданы здесь, в Кёльнев1. На юге Германии финансовые затруднения и рост налогов дают ясно понять каждому буржуа, что теперешнее положение не может продолжаться. В Бадене те же самые буржуа, которые предали последнее восстание и приветствовали прибытие пруссаков, наказаны и доведены до бешенства теми же самыми пруссаками и правительством, которое под защитой этих пруссаков ведет их к разорению и отчаянию. А рабочий люд и крестьянство повсюду находятся в состоянии qui vive ***, ожидая сигнала к восстанию, которое да сей раз не утихнет, пока не будут обеспечены политическая власть и социальный прогресс пролетариев. И эта революция приближается.
* — Шамбор. Ред. ** — Кампгаузен. Ред. *** — полной готовности. Ред.
34
Ф. ЭНГЕЛЬС
III
ПРУССКИЙ КОРОЛЬ ПРИСЯГАЕТ КОНСТИТУЦИИ И «СЛУЖИТ БОГУ!» -
ВЕЛИКИЙ ЗАГОВОР СВЯЩЕННОГО СОЮЗА. -БЛИЗЯЩЕЕСЯ НАПАДЕНИЕ НА ШВЕЙЦАРИЮ. -
ПЛАНЫ ЗАВОЕВАНИЯ И РАЗДЕЛА ФРАНЦИИ!
Кёльн, 18 февраля 1850 г.
Наконец его величество король Пруссии поклялся в вер ности так называемой «конституции» 62. Этот монарший фарс, несомненно, не состоялся бы, не предоставь он удобного случая произнести речь. Но его величество, который любит поговорить, ради возможности выступить с речью решил проглотить присягу — так же смиренно, как прежде на глазах у всех он глотал столько других неприятных вещей, вроде знаменитого «Шляпу долой!», что кричал ему народ Берлина 19 марта 1848 года. Присяга значения не имеет. Что такое присяга какого-то короля и особенно какого-то Фридриха-Вильгельма IV ! Глав ное — речь, а речь и вправду великолепна. Вообразите его прусское величество, который заявляет самым серьезным образом, причем ни он, ни кто другой из присутствующих не раз ражается смехом, что он — человек чести и что он намеревается дать самое для себя дорогое — свое королевское слово! Но, продолжает он, — после серии самых причудливых ораторских приемов, — он дает это слово только при одном условии: ему будет предоставлена возможность править при этой конституции и выполнить обещание, данное три года назад, а именно: «Я и мой дом будем служить богу!» 63.
Что подразумевает этот новоиспеченный «человек чести» под правлением при конституции и служением богу, становится уже довольно ясно. После фарса с присягой министры его величества выступили: во-первых, с двумя законами, почти начисто отменяющими свободу печати, право ассоциаций и обществен ных собраний; во-вторых, с требованием восемнадцати миллионов талеров (двух с половиной миллионов фунтов стерлингов) на увеличение армии. Смысл этого очевиден. Сперва по частям уничтожить те немногие мнимые свободы, которые оставила народу эта блестящая пародия на конституцию, а затем довести армию до уровня военного времени и двинуться вместе с Россией и Австрией на Францию. Буржуазные палаты, без сомнения, согласятся на все это и тем самым дадут королю возможность править при конституции и вместе со своим домом служить богу.
ПИСЬМА ИЗ ГЕРМАНИИ
35
Прусский кредит на армию «на случай событий, могущих возникнуть в течение весны», следует сопоставить с другими мероприятиями Священного союза, тогда мы сможем проник нуть в его замыслы. Помимо указанных восемнадцати миллионов Пруссия уже ведет переговоры о займе в шестнадцать миллионов под мнимым предлогом сооружения великой восточной железной дороги. Со времени истории с русским займом вам отлично известно, что правительства Священного союза используют железные дороги как великолепный предлог для получения денег. Таким образом, Пруссия вскоре обретет пять миллионов фунтов стерлингов, которые целиком будут переданы в распоряжение военного министерства. Россия помимо уже полученных пяти миллионов фунтов стерлингов собирается заключить соглашение о другом займе в тридцать шесть миллионов рублей серебром или пять миллионов фунтов стерлингов. Одна Австрия после жалкого исхода своих недавних ста раний добыть деньги должна удовольствоваться тем, что сможет собрать внутри страны. Дефицит ее, как я отмечал в своем последнем письме, в действительности доходит до двухсот миллионов флоринов (двадцати миллионов фунтов стерлингов) за один год! Итак, Россия и Пруссия добывают деньги, чтобы воевать. Австрия же должна воевать, чтобы добыть деньги!
Несомненно, если во Франции не случится ничего неблагоприятного, в будущем месяце начнется «священная» кампания против Швейцарии и, быть может, Турции. Россия держит в Польше и по соседству с ней армию в 350 тысяч человек, готовую выступить немедленно. Она уже заключила контракты на крупные партии продовольствия, которые должны быть поставлены в будущем месяце, и не в Польшу, а в Пруссию, в Данциг. Прусскую армию, насчитывающую теперь около 150 тысяч человек, можно за месяц довести до 350 тысяч, призвав резерв и ландвер первого призыва. Австрийская армия — около 650 тысяч человек — никогда не сокращалась, а, напротив, увеличилась за счет венгерских пленных. Общее количество войск, которыми смогут располагать для войны за рубежом, составляет, по-видимому, около миллиона человек; но две трети пруссаков и австрийцев поражены демократической заразой и, весьма вероятно, перейдут на сторону противника, как только представится возможность.
Первым предлогом для нападения на Швейцарию являются живущие в этой стране немецкие эмигранты. Этот предлог вско ре перестанет существовать, так как трусливые преследования со стороны Союзного совета прямо или косвенно вынудят всех эмигрантов покинуть Швейцарию. Сейчас в этой стране
36
Ф. ЭНГЕЛЬС
около 600 немецких эмигрантов, да и тем вскоре придется ее оставить. Но есть еще и другой предлог — требование Пруссии восстановить власть прусского короля над бывшим княжеством Невшатель, которое в 1848 г. объявило себя республикой **. И даже если это требование будет выполнено, опять возникнет вопрос о Зондербунде 65 в связи с новой федеральной конституцией, которая в 1848 г. заменила старый реакционный договор 1814 г., гарантированный Священным союзом. Таким образом, у Швейцарии не будет возможности избежать войны и иностранной оккупации.
Но конечной целью Священного союза являются завоевание и раздел Франции. Задуманный план разом покончить с этим великим революционным центром заключается в следующем — после завоевания Франция будет разделена на три королевства: Юго-Западное или Аквитания (со столицей в Бордо) будет отдано Генриху, герцогу Бордосскому; Восточное или Бургундия (со столицей в Лионе) — принцу Жуанвилю; а Северное или собственно Франция (со столицей в Париже) пре доставлено Луи-Наполеону в награду за выдающиеся услуги, оказанные им Священному союзу. Таким образом, Франция, сведенная к существовавшему несколько веков тому назад состоянию раздробленности, окажется совершенно бессильной. Что вы скажете по поводу этого прекрасного проекта, возникшего, вне всякого сомнения, в «исторической» голове короля Пруссии?
Но поверьте, что народ, которого не принял во внимание при своих расчетах Священный союз, очень скоро положит конец всем этим заговорам и интригам, и это случится, как только Священный союз начнет осуществлять свой план. Ибо как во Франции, так и в Германии народ начеку, и, к счастью, он достаточно силен для того, чтобы справиться со всеми своими противниками, как только дело дойдет до общей, решающей и открытой борьбы. И тогда, к своему ужасу, враги демократии увидят, что движения 1848 и 1849 гг. были ничто по сравнению с тем всеобщим пожаром, который испепелит старые европей ские институты и осветит победоносным народам путь в свободное, счастливое и славное будущее.
Написано Ф, Энгельсом Печатается по тексту журнала
18 декабря 1849 г. — 18 февраля 1850 г.
Перевод с английского
Напечатано в журнале „ ,
« Democratic Review» Ha РУОПом языке публикуется впервые
в январе — марте 1850 г.
Unter t«r greffe beftabenfä:
#Url ßlatr'd
WfûmmtUt Muff&fyt,
f)tra\ity$titn
bon
$crraann Setter.
UKary« Arbeiten flnb tfjeüe in befonbern glugf griffen, tl>eil« in beriobififjen ©Triften erfcr^ienert , jeçt aber meifttn? gar nid)t mefyr ju befcmmen, roenigftcnê im ЗЗиеЭДапЬе ! ganj »ergriffen, Der ÇerauSgebcr glaubt bentyalb, bem ÇuMifum einen Dienfl ju eroeifen, roenn er mit SBewiffigung be« Set« faffer« biefe Silbfiten, toelcx)e gerabe ein îDecennium umfallen', jufammtnfMt unb tcieber jugängüdj medjt.
Der Clan ift auf 2 SBànbe beregnet; bet 33anb roirb 25 Sogen umfaffen. Фет jweiten 4knbe wirb ЗЛагг 'в portrait beigegeben. X)it, reelle bi« jum 15 SWärj 1851 auf biefe 3}änb< fubferibiren, ermatten feiere in 10 heften & 8 ©gr. 92 аф bief em Termine tritt ber Sabenpreié, 1 % Щ . lb 6gr. per Senb, ein.
Фег eifle 3anb wirb OTerr'* beitrage au ben „Stnetbota" bon Sîuge, bet (elten) „9r&einrfôen 3«, вп 8" (яатепШф über Cteßfretyeit, ^oljbiebfto^iegefeÇ, Sage bet 3Rofelbauern в . f. to.), bert beutf*.fran}bfif(t)en ЗаЬЧЬйфегп , bem SBeftf. Dampfbeote, bem ©efeUfâeftefpieget u. f. to. unb eine Steige ben ЯЛоподга « ptyen entfetten, bie »et bet 2Kärjre»oIution etf^ienen, aber, nie SKart an Seifet fdjreibt, Де i ber" поф faute Mafien.
Stellungen nimmt an:
Первая страница объявления Г. Беккера об издании «Собрания сочинений» К. Маркса в двух томах (1850)
(ИЗЙАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ НЕ БЫЛО ОСУЩЕСТВЛЕНО)
[ 39
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
УВЕДОМЛЕНИЕ «
По не зависящим от редакции обстоятельствам выход первого номера «Neue Rheinische Zeitung» задержался. Поэтому второй номер появится не позже чем через две недели после выхода первого и будет содержать, в частности, следующие статьи:
Карл Маркс. 1848—1849 гг. II . 13 июня 1849 г. — III . Влияние 13 июня на континент. — IV . Современное положение; Англия 67.
Фридрих Энгельс, Германская кампания за имперскую конституцию. III . Пфальц. — IV. Умереть за Отечество в8.
В третий номер среди прочих включаются следующие статьи:
Карл Маркс. Что такое буржуазная собственность? П. Земельная собственность. — Лекции, прочитанные в лондонском Обществе немецких рабочих вв.
В. Вольф. Последние дни немецкого парламента.
Финансовое положение Пруссии и т. д. и т. п.70
Будут приняты меры, чтобы впредь журнал выходил между 1 и 10 числом каждого месяца.
Редакция п
Написано К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине февраля 1850 г.
Напечатано в «Neue Rheinische Zeitung,
Politisch-ökonomische Revue».
Erstes Heft. — Januar I860.
London, Hamburg, New-Yorh, 1850
Печатается по тексту журнала
Перевод с немецкого
На русском языке публикуется впервые
40 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 1848 и 1849 гг. 7а
В 1848 и 1849 гг. в Кёльне выходила немецкая ежедневная газета — «Neue Rheinische Zeitung» («Новая Рейнская газета»). Эта газета, издававшаяся Карлом Марксом (главный редактор), Фридрихом Энгельсом, Георгом Веертом, прославленным поэтом Фрейлигратом, Ф. Вольфом, В. Вольфом и другими, очень скоро приобрела чрезвычайную популярность благодаря энергии и мужеству, с которыми она отстаивала самые передовые рево люционные принципы и интересы пролетариев, являясь их единственным органом в Германии. Прусское правительство воспользовалось неудачей восстаний в Рейнской провинции в мае прошлого года, чтобы покончить с газетой с помощью разного рода преследований, направленных против ее редакторов. В результате они покинули страну, чтобы найти себе новое поприще деятельности в различных движениях, которые в то время либо подготовлялись, либо уже происходили. Некоторые из редакторов отправились в Париж 73, где был совсем близок решающий поворот событий (13 июня) и где они представляли немецкую революционную партию в центре французской де мократии; один * занял свое место в германском Национальном собрании, которое в тот момент оказалось вовлеченным в восстание; другой направился в Баден и сражался в рядах рево люционной армии против пруссаков 74. После поражения этих восстаний они оказались на положении эмигрантов в Англии, Швейцарии и во Франции. Не имея возможности в настоящий момент возобновить издание ежедневной газеты, они основали
• — В, Вольф. Ред.
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
41
ржемесячный журнал, чтобы использовать его как трибуну, )Ё©ка обстоятельства не позволят им вновь занять прежние |озиции в ежедневной прессе своей страны.
Первый номер этого журнала только что получен. Он навивается так же, как называлась ежедневная газета — «Новая Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение». Под редакцией Карла Маркса.
Данный номер содержит лишь три статьи. Он открывается первой из серии статей о двух прошедших годах революций, написанной главным редактором — Карлом Марксом. Затем следует обзор инсуррекционной кампании в Западной и Южной Германии в течение мая, июня и июля прошлого года, составленный Фридрихом Энгельсом, и, наконец, принадлежащая перу Карла Блинда (бывшего посланника баденского временного правительства в Париже) заметка о положении партий в Бадене. Две последние статьи, хотя они и содержат много важных разоблачений, представляют интерес главным образом для не мецкого читателя. Первая же работа посвящена теме, имеющей первостепенный интерес для читателей всех стран, особенно для рабочего класса. К тому же эта тема нашла в лице гражданина Маркса писателя, способного во всех отношениях воздать €й должное. Исходя из этих соображений мы считаем своим долгом опубликовать максимально возможное в форме вы держек, насколько позволит ограниченное место, которым мы располагаем.
Обозреваемая статья трактует о февральской революции, ее причинах и результатах и о последовавших за ней событиях, вплоть до великого Июньского восстания 1848 года.
«За исключением лишь немногих глав, каждый более или менее значительный раздел летописи революции с 1848 по 1849 гг. носит заглавие: поражение революции! Но в этих поражениях погибала не революция. Напротив, погибали лишь нереволюционные элементы революционной партии *, погибали лица, иллюзии, представления, проекты более или менее нереволюционного характера, элементы, от которых партия переворота ** не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не февральская победа, а только целый ряд поражений. Одним словом, революция шла вперед и прокладывала себе дорогу не своими непосредственными траги-
* У Маркса: «пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не заострившихся еще до степени резких классовых противоположностей» (настоящее издание, т. 7, стр. 7). Ред.
** У Маркса: «революционная партия» (там же). Ред.
42
Ф. ЭНГЕЛЬС
комическими завоеваниями, а, напротив, главным образом тем, что она порождала сплоченную и крепкую контрреволюцию, порождала врага, в борьбе с которым партия переворота только и вырастала в подлинно революционную партию». Такова общая тема, которую гражданин Маркс развивает в своей статье. Он начинает с раскрытия причин февральской революции и гораздо глубже выявляет корни этих причин, чем это удалось сделать кому-либо из писателей, ранее касавшихся этой темы. Все историки событий последних двадцати лет во Франции, как правило, сходятся на том, что при Луи-Филиппе господствующей силой в стране была буржуазия в целом, что скандальные разоблачения 1847 г. 75 были главной причиной революции и что эта революция была прямой борьбой пролетариев против буржуазии. Иод пером гражданина Маркса эти утверждения, хотя прямо и абсолютно и не отрицаются, однако подвергаются важным изменениям.
Этот немецкий историк доказывает, что при Луи-Филиппе политическая власть сосредоточивалась в руках не всего класса буржуазии, а лишь одной фракции этого класса, той, которая во Франции называется финансовой аристократией, а в Англии банковскими, биржевыми, железнодорожными и т. д. магнатами, или денежным капиталом в отличие от промышленного капитала.
«При Луи-Филиппе господствовала не французская буржуазия, а лишь одна ее фракция: банкиры, биржевые и железнодорожные короли, владельцы угольных копей и железных рудников и связанная с ними часть земельных собственников — так называемая финансовая аристократия. Она сидела на троне, она диктовала в палатах законы, она раздавала государственные доходные места, начиная с министерских постов и кончая казенными табачными лавками. Собственно промышленная буржуазия составляла часть официальной оппозиции, то есть была представлена в палатах лишь в виде меньшинства. Ее оппозиция становилась тем решительнее, чем более чистую форму принимало в своем развитии самодержавие финансовой аристократии и чем более сама она воображала, что после безрезультатных восстаний * рабочего класса 1832, 1834 и 1839 гг. 76 ее господство над пролетариями упрочено... Мелкая буржуазия, мещанство ** —
* У Маркса: «подавленных в крови восстаний» (настоящее издание, т. 7, стр. 8). Ред.
** Этого слова в тексте Маркса нет. Ред.
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
43
все эти слои, а также крестьянство были совершенно устранены от участия в политической власти». Неизбежным следствием этого самодержавного господства финансовой аристократии было подчинение ей всех интересов общества; она рассматривала государство как простое средство для увеличения своего состояния за его счет. Гражданин Маркс очень ярко изображает, как эта скандальная система осуществлялась во Франции в течение восемнадцати лет; как быст рый рост государственного долга, увеличение государственных расходов, нескончаемые финансовые трудности и недочеты государственной казны явились столь многочисленными источниками, откуда в карманы денежных магнатов стекались новые состояния, источниками, из которых с каждым годом выжимали все больше, с максимальной быстротой истощая ресурсы страны; как расходы государства на армию и военный флот, на строительство железных дорог и другие общественные работы предоставляли сотни возможностей, за которые жадно хватались финансисты, чтобы обманывать народ с помощью мошеннических контрактов и т. д. Короче —
«Июльская монархия была не чем иным, как акционерной компанией для эксплуатации французского нацио нального богатства; дивиденды ее распределялись между министрами, палатами, 240 тысячами избирателей и их более или менее многочисленными прихвостнями. Луи-Филипп был Джорджем Хадсоном * этой компании — Робером Макером " на троне. Эта система представляла собой постоянную угрозу, постоянный ущерб для торговли, промышленности, земледелия, судоходства, для интересов промышленной буржуазии...
Так как финансовая аристократия издавала законы, управляла государством, распоряжалась всей организо ванной общественной властью, самим фактом своего гос подства и посредством печати подчиняла себе общественное мнение, то во всех сферах общества, начиная от королевского двора и кончая café borgne **, царили та же проституция, тот же бесстыдный обман, та же страсть к обогащению не путем производства, а путем ловкого при-карманивания уже имеющегося чужого богатства. Именно в верхах общества *** нездоровые и порочные вожделения проявились в той необузданной — на каждом шагу при ходящей в столкновение даже с буржуазными законами —
• У Маркса: «директором» (настоящее издание, т. 7, стр. 10). Ред. •• — притонами низшего разряда. Ред. *•• У Маркса: «буржуазного общества» (там же, стр, 11), Ред,
3 М. и д., т. 44
44
Ф. ЭНГЕЛЬС
форме, в которой порожденное спекуляцией богатство ищет себе удовлетворения сообразно своей природе, так что наслаждение становится распутством, а деньги, грязь и кровь сливаются в один поток. Финансовая аристократия как по способу своего обогащения, так и по характеру своих наслаждений есть не что иное, как возрождение люмпен-пролетариата на верхах буржуазного общества». Скандальные разоблачения 1847 г., дела Теста, Пралена, Гюдена, Дюжарье пролили яркий свет на эти обстоятельства. Позорное поведение правительства в вопросе о Кракове и по отношению к швейцарскому Зондербунду предельно оскорбило национальное чувство, тогда как победа швейцарских либералов и революция в Палермо в январе 1848 г. резко усилили оппозиционные настроения 78.
«Наконец, взрыв всеобщего недовольства вырос в восстание благодаря двум экономическим событиям мирового значения. Первым из них были картофельная болезнь и неурожаи 1845 и 1846 годов*. В 1847 г. начинавшийся голод** вызвал во Франции, как и на всем континенте, многочисленные кровавые столкновения. Здесь оргии фи нансовой аристократии, там борьба народа за необходимейшие средства к жизни! В Бюзансе. казнят участников голодных бунтов 79, а в Париже королевская семья вырывает из рук суда мошенников-аристократов. Вторым крупным экономическим событием*** был всеобщий торговый и промышленный кризис. Он был возвещен в Англии уже осенью 1845 г. массовым банкротством спекулянтов железнодорожными акциями, в 1846 г. его задержал ряд случайных обстоятельств, как, например, отмена хлебных пошлин, осенью 1847 г. он, наконец, разразился в виде банкротств крупных лондонских торговцев колониальными товарами, за которыми последовали крахи земель ных банков и закрытие фабрик в промышленных округах Англии. Еще не успели на континенте сказаться до конца все последствия этого кризиса, как вспыхнула революция. Эпидемия, поразившая торговлю и промышленность, сделала во Франции еще невыносимее самодержавие финансовой аристократии. Оппозиционные фракции буржуазии объединились в кампании **** банкетов в пользу избира-
* У Маркса эта фраза звучит так: «Картофельная болезнь и неурожаи 1845 и 1846 гг. усилили всеобщее брожение в народе» (настоящее издание, т. 7, стр. 12). Ред. ** У Маркса: «дороговизна» (там же). Ред. *** У Маркса далее: »ускорившим взрыв революции» (там же). Ред. **•* У Маркса: «Оппозиционная буржуазия подняла во всей Франции кампанию» (там те). Ред,
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
45
тельной реформы, которая должна была дать им большинство в палатах. В Париже торговый * кризис заставил броситься на внутренний рынок массу фабрикантов и оптовых торговцев, так как при сложившихся условиях заграничный рынок не сулил им прибыли. Они основали крупные розничные фирмы, конкуренция которых массами разоряла бакалейщиков и лавочников. Этим объясняются многочисленные банкротства в этой части парижской бур жуазии и революционное поведение ее в февральские дни». Совокупное действие этих причин вызвало взрыв февральской революции. Было образовано Временное правительство. В нем были представлены все оппозиционные партии: династическая оппозиция (Кремьё и даже Дюпон де л'Эр), республиканская буржуазия (Марраст, Мари, Гарнье-Пажес), республиканская мелкая буржуазия (Ледрю-Роллен и Флокон) и пролетарии (Луи Блан и Альбер). Наконец, Ламартин олицетворял февральскую революцию как таковую, всеобщее восстание буржуа и пролетариев с его иллюзорными результатами, его заблуждениями, его поэзией и с его громкими фразами. Но по своему положению и взглядам он принадлежал к буржуазии, представители которой, таким образом, составляли значительное большинство нового правительства.
«Если Париж благодаря политической централизации господствует над Францией, то рабочие в моменты революционных потрясений господствуют над Парижем. Первым шагом Временного правительства была попытка избавиться от этого подавляющего влияния путем апелляции от «опьяненного революцией Парижа» к «трезвой Франции». Ламартин оспаривал у бойцов право провозгласить республику. Это, говорил он, может сделать лишь большинство французской нации **, парижский пролетариат не должен запятнать свою победу узурпацией и т. д. Буржуазия разрешает пролетариату только одну узурпацию — узурпацию борьбы». Пролетарии заставили правительство провозгласить республику. Их представителем выступил Распайль, который заявил, что если в течение двух часов этого не произойдет, то он вернется во главе 200 тысяч вооруженных рабочих. Еще до истечения двухчасового срока республика была провозглашена. «Заставив Временное правительство и всю Францию принять республику, пролетариат сразу выступил на
• У Маркса: «промышленный» (настоящее издание, т. 7, стр. 12). Ред. ♦ *У Маркса далее; «надо 8ыждаи> ее годосоэания» (там же, стр. 13). Ред.
3*
46
Ф. ЭНГЕЛЬС
первый план как самостоятельная партия, но в то же время он вызвал на борьбу с собой всю буржуазную Францию. Он завоевал только почву для борьбы за свое революционное освобождение, а отнюдь не само это освобождение. Напротив, февральская республика прежде всего должна была сделать более полным господство буржуазии: благодаря ей все имущие классы Франции получили доступ к политической власти. Республика извлекла большинство крупных землевладельцев-легитимистов из того состояния политического ничтожества, на которое их осудила революция 1830 года*... Всеобщее избирательное право отдало судьбу Франции в руки огромного класса лишь номинальных земельных собственников (реальными владельцами являются капиталисты, которым недвижимость отдана в залог) **, класса, составляющего громадное большинство французского народа, — в руки крестьян. Разбив корону, за которой прятался капитал, февральская республика привела, наконец, к открытому господству буржуазии. Подобно тому как в июльские дни 1830 г. рабочие завоевали буржуазную монархию, так в февральские дни 1848 г. они завоевали буржуазную республику. Подобно тому как монархия 1830 г. принуждена была объявить себя «монархией, обставленной республиканскими учреждениями», так республика 1848 г. принуждена была объявить себя «республикой, обставленной социальными учреждениями». Парижский пролетариат вырвал у республики*** и эту уступку». «Право на труд» и Люксембургская комиссия (перейдя в нее, Луи Блан и Альбер были фактически исключены из правительства, и буржуазное большинство последнего удержало в своих руках действительную власть) являлись самыми видными из этих социальных институтов. Рабочие оказались вынужденными добиваться своего освобождения не против буржуазии, а независимо от нее и бок о бок с ней. Продолжали существовать биржа и банк, только рядом с этими великими храмами буржуазии была воздвигнута в Люксембургском дворце социалистическая церковь; и поскольку рабочие полагали, что можно добиться освобождения, не вмешиваясь в интересы буржуазии, они также верили в возможность этого без столкновения с интересами остальных буржуазных наций Европы.
• У Маркса: «Июльская монархия» (настоящее издание, т. 7, стр. 15). Ред. ** Слова: «огромного класса», «земельных» и фраза в скобках вставлены в текст Маркса Энгельсом. Ред.
♦ ** Слова: ну республики» вставлены в текст Маркса Энгельсом, Ред,
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
47
«Вообще развитие промышленного пролетариата обусловлено развитием промышленной буржуазии. Лишь при ее господстве приобретает он значение, которое только и может * поднять его революцию до общенациональной; лишь при ее господстве он создает современные средства производства, которые станут средствами его революционного освобождения; лишь ее господство вырывает последние** корни феодального общества и выравнивает почву, на которой единственно возможна пролетарская революция. Ныне французская промышленность — самая развитая *** на всем континенте. Но тот факт, что февральская революция была направлена прежде всего против финансовой аристократии, этот факт показывал ясно, что до февраля промышленная буржуазия не господствовала во Франции. Господство промышленной буржуазии воз можно лишь там, где современная промышленность **** завоевала для своей продукции мировой рынок, так как емкость внутреннего рынка ***** недостаточна для ее развития. Французская же промышленность даже внутренний рынок удерживает за собой в значительной мере только благодаря системе запретительных пошлин. Поэтому, если пролетариат в момент революции обладает в Париже фактической силой и влиянием, толкающими его дальше, чем это соответствует его максимальным средствам, то в остальной Франции, будучи сосредоточен лишь в отдельных промышленных центрах, таких, как Лион, Лилль, Мю-луз, Руан ******, он почти исчезает в окружающей и подавляющей массе крестьянства и мелкой буржуазии. Вот почему борьба против капитала в ее наиболее развитой и решающей форме *******, борьба промышленного наем ного рабочего против промышленного буржуа является во Франции не повсеместным фактом и после февральских дней не могла служить общенациональным содержанием
• У Маркса вместо слов: «значение» и т. д. — «широкое национальное существование, способное...» (настоящее издание, т. 7, стр. 16). Ред. ••У Маркса: «материальные» (там же, стр. 17). Ред. ••* Далее Энгельс опускает слова: «а французская буржуазия — самая революционная» (там же). Ред.
***• У Маркса далее: «преобразовала по-своему все отношения собственности! а этой степени могущества промышленность может достигнуть лишь тогда, когда она...» (там же). Ред.
• •«•« у Маркса вместо слов: «емкость внутреннего рынка»—«национальные границы» (там же). Ред.
• ••••• названия промышленных центров вставлены в текст Маркса Энгельсом. Ред.
..•.»•• у Маркса: «в ее развитой, современной форме, в ее кульминационной фазе» (там же). Ред.
48
Ф. ЭНГЕЛЬС
революции. Тем менее она могла сыграть такую роль, что борьба против второстепенных способов капиталистической эксплуатации — борьба крестьянина против ростовщичества и ипотеки, борьба мелкого буржуа против крупного торговца, банкира и фабриканта, одним словом, против банкротства — была еще скрыта под оболочкой общего восстания против финансовой аристократии... Французские рабочие не могли двинуться ни на шаг вперед, не могли ни на волос затронуть существующие буржуазные институты *, пока ход революции не поднял против господства капитала и не заставил при мкнуть к пролетариям ** все те промежуточные классы, крестьян и мелких буржуа, которые не принадлежат ни к буржуа, ни к пролетариям и составляют во Франции значительную массу нации ***. Тогда и только тогда про летарии, вместо того чтобы отстаивать свои интересы, не затрагивая интересов буржуазии, смогут выдвинуть ин тересы пролетариата в качестве революционных интересов всей нации и осуществить их в прямом противодействии интересам буржуазии 80. Только ценой страшного поражения в июне 1848 г. рабочие могли приблизить **** эту победу...
Итак, не в действительности, а ***** в представлении пролетариев, которые смешивали финансовую аристократию с буржуазией вообще; в воображении республикан ских простаков, которые отрицали само существование враждебных ****** классов или в лучшем случае считали их следствием монархии *******, господство буржуазии было устранено вместе с введением республики. Все роялисты превратились тогда сразу же в республиканцев, все миллионеры — в рабочих. Фразой, соответствовавшей этому воображаемому уничтожению классов и классовых интере сов ********, были Братство и всеобщее братание. Это —
* У Маркса: «буржуазный строй» (настоящее издание, т. 7, стр. 17). Ред. ** У Маркса далее: «как к своим передовым борцам» (там же). Ред. **• У Маркса вместо слов: «все те промежуточные классы» и т. д.— «стоящую между пролетариатом и буржуазией массу нации, крестьян и мелких буржуа» (там же). Ред.
**«* У Маркса: «купить» (там же, стр. 18). Ред.
***** Слова: «не в действительности, а» вставлены в текст Маркса Энгельсом. Ред.
****** Это слово вставлено в текст Маркса Энгельсом. Ред. .*.,«,» у ларкса: «конституционной монархии»; далее опущены слова Маркса: «в лицемерных фразах тех слоев буржуазии, которые до сих пор были отстранены от власти» (там же). Ред.
******** У Маркса вместо слов; «классов а классовых интересов» — «классовых, отношений» Сгам же), Реф,
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
49
идиллическое отвлечение от всякого существующего анта гонизма классов. Это — сентиментальное примирение противоположных классовых интересов, это — мечтательное стремление возвыситься над земной классовой борьбой, одним словом, братство — вот что было истинным лозунгом февральской революции. Лишь простое недоразумение раскололо общество на борющиеся классы, и 24 февраля Ламартин потребовал правительства, которое должно было положить конец этому «страшному недоразумению», возникшему между различными классами общества». Мы продолжим публикацию этих выдержек в следующем номере. Тогда перед нами предстанут обзор мероприятий Временного правительства, созыв Национального собрания и Июньское восстание.
В нашем апрельском номере мы проследили соображения гражданина Маркса о февральской революции, вплоть до образования и первых актов Временного правительства. Уже неоднократно нам представлялась возможность убедиться, что буржуазные элементы этого правительства были достаточно сильны, чтобы действовать в интересах своего класса и чтобы извлечь выгоду из непонимания пролетариями Парижа своих действительных интересов и средств их достижения. Продолжим публикацию наших выдержек.
«Республика не встретила никакого сопротивления ни извне, ни внутри. Одно это ее обезоружило. Ее задачей было теперь уже не революционное переустройство мира, а лишь свое собственное приспособление к усло виям существующего буржуазного общества. С каким фанатизмом Временное правительство принялось за выполнение этой задачи, лучше всего показывают его финансовые мероприятия.
Государственный и частный кредит был, конечно, расшатан. Государственный кредит покоится на уверенности в том, что государство дает себя эксплуатировать ростов щикам-финансистам. Но старое государство исчезло, а революция была направлена прежде всего против этой финансовой аристократии. Кроме того, судороги последнего европейского торгового кризиса еще не прекратились. Одно банкротство еще следовало за другим. Частный кредит был парализован, товарооборот затруднен, производство подорвано еще до взрыва фев-
50
Ф. ЭНГЕЛЬС
ральской революции. Революционный кризис усилил, конечно, кризис торговый. Если частный кредит покоится на уверенности, что буржуазный способ производства богатства *, весь буржуазный строй остается нетронутым и неприкосновенным, то как же должна была подействовать на него революция, которая угрожала самой осно ве буржуазного способа производства — экономическому рабству пролетариата, — революция, которая бирже противопоставила люксембургского сфинкса? Освобождение пролетариата равносильно уничтожению буржуазного кредита, потому что оно означает уничтожение буржуазного производства и соответствующего ему социаль ного строя. Государственный и частный кредит — это термометр, показывающий интенсивность революции. В той самой мере, в какой падает кредит, повышается накал революции и растет ее творческая сила.
Временное правительство хотело сбросить с республики ее антибуржуазную личину. Для этого нужно было прежде всего обеспечить меновую стоимость новой государственной формы, ее курс на бирже. Вместе с биржевой котировкой республики необходимо должен был снова подняться частный кредит.
Чтобы устранить даже малейшее подозрение, будто республика не хочет или не может выполнить обязательства, полученные ею в наследство от монархии, чтобы вселить доверие к буржуазной честности и платежеспособности республики, Временное правительство прибегло к столь же недостойному, сколь и ребяческому бахвальству. Еще до законного срока оно уплатило государственным кредиторам проценты по долговым бумагам. К капиталистам сразу вернулись весь их буржуазный апломб и самоуверенность, когда они увидели, с какой боязливой поспешностью стараются купить их доверие...
Банк был храмом финансовой аристократии, царившей при Луи-Филиппе. Как биржа держит в своих руках государственный кредит, так банк управляет частным** кредитом.
Революция непосредственно угрожала не только господству банка, но и самому его существованию, поэтому он с самого начала старался дискредитировать республику, сделав некредитоспособность всеобщей. Он вне-
* У Маркса: «весь комплекс отношений буржуазного производства» (настоящее Издание, т. 7, стр. 20). Рев.
••У Маркса: «торговым» (там же, стр. 21). Рев,
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
51
запно закрыл кредит частным банкирам, фабрикантам и купцам. Не вызвав контрреволюции, этот маневр нанес обратный удар по самому банку. Капиталисты взяли назад свои деньги, хранившиеся в подвалах банка. Владельцы банкнот бросились к кассе банка, чтобы обменять их на звонкую монету.
Временное правительство могло бы совершенно за конно, без насильственного вмешательства, принудить банк к банкротству; ему нужно было только оставаться пассивным и предоставить банк своей судьбе. Банкротство банка было бы потопом, который в один миг очистил бы французскую почву от финансовой аристократии, этого золотого пьедестала Июльской монархии, самого могучего и опасного врага республики. И в случае банкротства банка сама буржуазия не должна ли была бы отнестись к созданию правительством национального банка и к подчинению национального кредита контролю нации как к последней отчаянной попытке к спасению?
Но вместо этого Временное правительство действовало подобно Питту в 1797 г.: приостановило наличные платежи * и установило принудительный курс для банкнот. Мало того. Оно превратило все провинциальные банки в филиальные отделения Французского банка и таким образом позволило ему раскинуть свою сеть по всей Франции. Позднее оно сделало у банка заем и в качестве гарантии отдало ему в залог государственные леса. Таким образом, февральская революция укрепила и расширила могущество финансовой аристократии **, которую она должна была свергнуть!» Общеизвестно, что дало правительство, столь милостивое к денежным магнатам биржи и банка, тем классам, которые образуют противоположный полюс общества: оно конфисковало у рабочих и мелких торговцев их деньги в сберегательных кассах, а крестьянству даровало налог в 45 сантимов на каждый франк по всем четырем прямым налогам13.
«Вложенные в сберегательные кассы суммы были конфискованы и объявлены консолидированным государст венным долгом. Это озлобило против республики мелких буржуа ***. Получив вместо своих денег лишь государ-
• Слова: «действовало подобно Питту в 1797 г.: приостановило наличные платежи» вставлены в текст Маркса Энгельсом. Ред.
•* У Маркса: «ту самую банкократию» (настоящее издание, т. 7, стр. 21). Ред. **• Далее Энгельс опускает слова: «и без того находившихся в стесненном положении» (там же). Ред.
52
Ф. ЭНГЕЛЬС
ственные долговые обязательства, они были вынуждены продавать их на бирже и таким образом отдать себя пол ностью в руки тех самых биржевых воротил-ростовщиков, против которых они совершили февральскую революцию!!
...Налог в 45 сантимов пал прежде всего на крестьянство, то есть на огромное большинство французского народа. Крестьянам пришлось нести издержки февральской революции, и они, естественно, составили отныне главную опору контрреволюции. Налог в 45 сантимов был жизненным вопросом для крестьянина, который, в свою очередь, сделал его вопросом жизни и смерти для республики. С этого момента в глазах французского крестьянина республику олицетворял этот зловредный налог, а парижский пролетариат представлялся ему лентяем и расточителем, который благоденствовал за его счет. В то время как революция 1789 г. начала с того, что освободила крестьян от всех феодальных повинностей, революция 1848 г. * первым делом преподнесла этому классу ** новый налог!!
Только одним путем правительство могло устранить все эти затруднения и выбить государство из его старой колеи, а именно объявлением государственного банкрот ства. Все помнят, с каким добродетельным негодованием Ледрю-Роллен, как он сам заявил перед Национальным собранием, отверг это спасительное средство, предложенное ему биржевым ростовщиком Фульдом, тепереш ним министром финансов ***. Между тем Фульд предлагал ему яблоко от древа познания!!!
Признав векселя, выданные на государство старым буржуазным обществом, Временное правительство подпало под его власть. Оно попало в положение преследуе мого должника буржуазного общества, вместо того чтобы явиться к нему в роли грозного кредитора, взыскивающего старые революционные долги. Оно должно было укреп лять буржуазное общество, чтобы справиться с обязательствами, выполнимыми только в рамках этого общества****. Кредит стал самым необходимым условием его существования, а уступки пролетариату и данные ему
* Далее Энгельс опускает слова: «чтобы не повредить капиталу и обеспечить ход его государственной машины» (настоящее издание, т. 7, стр. 22). Ред. *• У Маркса: «сельскому населению» (там же). Ред. *** Эта фраза у Маркса сформулирована иначе (там же). Ред. ••** У Маркса вместо слов: «буржуазное общество» — «буржуазные отнощения» (там же). Ред.
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
53
обещания — оковами, которые во что бы то ни стало должны были быть разбиты. Освобождение рабочих — даже только фраза об этом — стало невыносимой опасностью для республики, так как это требование было постоянным протестом против восстановления кредита, который покоится на прочном и непоколебимом признании существующего классового антагонизма *. Поэтому надо было раз и навсегда покончить с рабочими» **.
После февраля армия была изгнана из Парижа; национальная гвардия, то есть вооруженная буржуазия, единственная военная сила в городе, никогда не была достаточно крепкой, чтобы самостоятельно справиться с пролетариями. К тому же, несмотря на все сопротивление, национальная гвардия утратила свою чистоту из-за допуска в ее ряды рабочих. Таким образом, оставался только один исход: противопоставить одну часть пролетариев другой.
«С этой целью Временное правительство образовало 24 батальона garde mobile *** По большей части из молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, по тысяче человек в каж дом батальоне. Они принадлежали почти исключительно к люмпен-пролетариату, который имеется во всех больших городах и резко отличается от промышленного проле тариата. Этот слой, из которого рекрутируются воры и преступники всякого рода, состоит из элементов, живущих отбросами с общественного стола, людей без определенных занятий, бродяг — gens sans feu et sans aveu; они различаются в зависимости от характера **** нации, к которой принадлежат *****; ив том юношеском возрасте, в котором их вербовало Временное правительство, они способны были на величайшее геройство и самое пылкое самопожертвование, но вместе с тем и на самые низкие разбойничьи поступки и на самую грязную продажность. Временное правительство купило их за 1 франк 50 сантимов в день. Оно одело их в особый мундир, то есть внешним видом обособило их от рабочих в блузах. В командиры частью им дали офицеров регулярного войска, частью
• У Маркса: «существующих экономических классовых отношений» (настоящее иэдание, т. 7, стр. 23). Ред.
•* Слова: «раз и навсегда» добавлены Энгельсом. Этой фразой заканчивается публикация в майском номере « Democratic Review». Ред. ••• — мобильной гвардии. Ред. •••* У Маркса: «культурного уровня» (там же). Ред.
....... Далее
Энгельс опускает слова: «но везде и всегда они сохраняют характер
ные черты лаццарони» (там же). Ред.
54
Ф. ЭПГЕЛЬС
буржуазных сынков, которые пленили их громкими словами о смерти за республику. И народ считал эти 24 тысячи энергичных и отчаянных молодых солдат, только что покинувших баррикады, своей собственной армией, своей подлинно пролетарской гвардией в отличие от прежней буржуазной национальной гвардии *. Его ошибка была простительна.
Рядом с мобильной гвардией правительство решило собрать вокруг себя также промышленную рабочую армию. Министр Мари зачислил 100 тысяч рабочих, которые в результате кризиса и революции оказались выброшенными на улицу, в ateliers nationaux **. Под этим громким именем скрывалось не что иное, как использование рабочих на скучных, однообразных, непроизводительных земляных и тому подобных работах с заработной платой в 23 су (И1/г пенса) в день ***. Английские работные дома под открытым небом — вот чем были эти ateliers nationaux. Временное правительство думало, что нашло в них вторую пролетарскую армию против рабочего класса в целом ****. Но буржуазия ошиблась в ateliers nationaux точно так же, как народ ошибся в garde mobile. Она создала армию мятежа.
Но одна цель была достигнута: ateliers nationaux — так назывались народные мастерские, которые требовал Луи Блан в Люксембургском дворце. A tellers Мари созданы были по плану, прямо противоположному люксембургскому плану... Распустили слух *****, что эти ateliers nationaux — изобретение Луи Блана, и это казалось тем более правдоподобным, что Луи Блан, апостол национальных мастерских, сам был членом Временного правительства. Для искусственно обрабатываемого общественного мнения парижской буржуазии и мнения Франции и Европы ******
* Этой фразой Энгельс заменяет следующий абзац: «Таким образом, против парижского пролетариата стояла набранная из его же среды армия в 24 тысячи юношески крепких, отчаянных людей. Пролетариат приветствовал мобильную гвардию на улицах Парижа громкими криками «ура». Он видел в ней своих передовых борцов на баррикадах. Он считал ее пролетарской гвардией в отличие от буржуазной национальной гвардии» (настоящее издание, т. 7, стр. 23—24). Рев. ** — национальные мастерские. Ред. *** Последние слова вставлены в текст Энгельсом. Ред. **** У Маркса: «против самих же рабочих» (настоящее издание, т. 7, стр. 24). Ред.
***** У Маркса: «Временное правительство само тайно распустило слух» (там же). РеЭ.
****** У Маркса: «Для парижской буржуазии, полунаивно и полунамеренно смешивавшей обе вещи, для искусственно обрабатываемого общественного мнения Франции и Европы» (там же). Ред.
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
55
эти работные дома были первым шагом к осуществлению социализма, который выставлялся заодно с ними у позорного столба.
Если не по своему содержанию, то по своему названию ateliers nationaux были воплощенным протестом пролетариата против буржуазной промышленности, буржуазного кредита и буржуазной республики. И на них обрушилась вся ненависть буржуазии. В них она в то же время увидела тот пункт, на который могла направить свой первый удар, как только она достаточно окрепла, чтобы открыто порвать с февральскими иллюзиями. Мелкие буржуа тоже сразу же обратили всю свою ненависть и досаду против ateliers nationaux. Со скрежетом зубовным они высчитывали, сколько денег поглощали дармоеды-рабочие, тогда как их собственное положение с каждым днем становилось все хуже... В национальных мастерских, в люксембургских декламациях, в уличных демонстрациях парижских рабочих — именно в этом они видели причину своего бедственного положения. И никто не проявлял такого фанатизма в борьбе против мнимых махинаций коммунистов, как мелкий буржуа, парижский лавочник, сам стоявший на краю банкротства *. Таким образом, в то время как каждый день приносил волнующие вести о новых революциях и поддерживал упоение народа победой, буржуазия все более и более сосредоточивала в своих руках все преимущества, все решающие позиции в предстоявшей схватке между нею и пролетариатом, весь контроль над промежуточными классами общества» **. Неизбежным следствием этого явился ряд моральных побед буржуазии. Хотя 17 марта пролетарии формально одержали верх, подлинная цель их демонстрации. — подчинить Временное правительство воле пролетариата — оказалась тем не менее недостигнутой, 16-ое же апреля было решительным поражением пролетариев, за которым последовало возвращение армии в Париж. Состоявшиеся вскоре после этого выборы в Национальное собрание дали буржуазии решающее большинство.
* Далее опущены слова: «без всякой надежды на спасение»; слова: «парижский лавочник» вставлены в текст Маркса Энгельсом (настоящее издание, т. 7, стр. 25). Рев.
•* У Маркса: «Таким образом, в предстоящей схватке между буржуазией и пролетариатом все преимущества, все решающие позиции, все средние слои общества были в руках буржуазии. А в это самое время волны февральской революции высоко вздымались над континентом, каждая очередная почта приносила все новые революционные вести то из Италии, то из Германии, то с крайнего юго-востока Европы и поддерживала всеобщее упоение народа, непрерывно принося ему новые доказательства победы, плоды которой уже ускользали из его рук» (там же). Ред.
56
Ф. ЭНГЕЛЬС
«Всеобщее избирательное право не обладало той магической силой, которую приписывали ему республиканцы старого покроя. Во всей Франции или по крайней мере в большинстве французов они видели только граждан с одинаковыми интересами, одинаковыми взглядами и интеллектом. Это был у них своего рода культ народа. Но всеобщие выборы вместо их воображаемого французского народа показали действительный народ, то есть представителей различных классов, из которых он состоит. Мы уже знаем, почему крестьяне и мелкая буржуазия вынуждены были идти на выборах за теперь снова * воинственно настроенной буржуазией и жаждавшими реставрации крупными землевладельцами. Однако если всеобщее избирательное право не было той волшебной палочкой, какой его считали обманывавшие самих себя республиканские простаки, то оно обладало другим, несравненно более высоким достоинством: оно развязывало классовую борьбу и тем самым заставляло различные промежуточные ** слои буржуазного общества быстро, проходя через различные стадии ***, изживать свои иллюзии и разочарования; оно сразу поднимало на вершину государства все фракции класса капиталистов, срывая таким образом с части из них их лживую маску оппозиции, которую они носили при монархии ****.
В Учредительном национальном собрании, открывшемся 4 мая, преобладали буржуазные республиканцы, республиканцы «National». Даже легитимисты и орлеанисты сначала осмеливались выступать лишь под маской буржуазного республиканизма. Только во имя республики можно было начать борьбу против пролетариата... Провозглашенная Национальным собранием республика ***** была не революционным оружием против буржуазного строя, а, напротив, буржуазной республикой... В лице Национального собрания вся Франция явилась судьей парижского пролетариата. Собрание немедленно порвало с социальными иллюзиями февральской революции, от-
* Слова: «теперь снова» принадлежат Энгельсу. Ред. ** У Маркса: «средние» (настоящее издание, т. 7, стр. 27). Ред. *** Слова: «проходя через различные стадии» добавлены Энгельсом. Ред. ***• у Маркса: «...все фракции эксплуататорского класса, срывая с них таким образом их лживую маску, тогда как монархия с ее цензом компрометировала только определенные фракции буржуазии, позволяя другим прятаться за кулисами и окружая их ореолом-общей оппозиции» (там те). Ред.
***** У Маркса: «единственно законная республика» (там же). Ред.
ДВА ГОДА ОДПОИ РЕВОЛЮЦИИ
57
кровенно и ясно провозгласило буржуазную республику *. Оно исключило из Исполнительной комиссии представи телей пролетариата — Луи Блана и Альбера; оно отклонило предложение учредить особое министерство труда и встретило бурными одобрениями слова министра Трела: «Теперь речь идет только о том, чтобы вернуть труд к его прежним условиям».
Но всего этого было еще недостаточно. Февральская республика была основана ** рабочими при пассивной поддержке со стороны буржуазии. Пролетарии справедливо считали себя победителями и предъявляли высокомерные требования победителя. Надо было, следовательно, победить и подавить их в уличной борьбе... В свое время для создания февральской республики с ее уступками социализму понадобилась битва пролетариата, объединившегося с буржуазией против монархии; теперь нужна была вторая битва, чтобы освободить республику от сделанных ею уступок социализму, чтобы официально утвердить господство буржуазной республики... Настоящей колыбелью буржуазной республики была не февральская победа, а июньское поражение». Столкновение, происшедшее 15 мая 81, и битва, которая бушевала 23, 24, 25 и 26 июня, достаточно известны, известны их непосредственные причины и связанные с ними события. Июньское поражение на время разрешило конфликт между двумя борющимися классами.
«Буржуазия принудила парижский пролетариат к Июньскому восстанию. Уже одно это обстоятельство осудило его на неудачу. Не непосредственная, осознанная потребность толкнула пролетариат на эту попытку насильственного низвержения буржуазии; да он еще и не был в силах справиться с этой задачей. «Moniteur» должен был офи циально заявить ему, что прошло время, Korjia республика находила нужным считаться с его «иллюзиями», и только поражение открыло ему ту истину, что для него не существует надежды даже на малейшее улучшение своего положения, если ждать этого в рамках буржуазной республики ***... Тогда на место требований, к удовлетворению которых пролетариат хотел принудить
• У Маркса палее: «и только буржуазную республику» (настоящее издание. т. 7, стр. 27). Рев.
** У Маркса: «завоевана» (там же, стр. 28). Ред. ••• У Маркса: «что малейшее улучшение его положения в рампах буржуазной республики остается утопцей» (там же, стр. 30). Ред,
58
Ф. ЭНГЕЛЬС
февральскую республику, требований чрезмерных по форме, но мелочных и даже все еще буржуазных по существу, выступил смелый, революционный, боевой лозунг: Низвержение буржуазии! Диктатура рабочего класса!
Буржуазная республика, возведенная на крови рабочих, была вынуждена сразу же * выступить в своем чистом виде как государство, признанная задача которого — увековечить господство капитала и рабство труда. Имея всегда перед глазами своего непримиримого и непобедимого врага **, господство буржуазии, освобожденное от всех оков, должно было немедленно превратиться в терроризм буржуазии. После того как пролетариат на время был устранен со сцены и была признана диктатура буржуазии, промежуточные слои буржуазного общества — мелкая буржуазия и крестьянство — должны были примыкать к пролетариату, по мере того как ухудшалось их положение и обострялся антагонизм между ними и буржуазией». Если июньское поражение укрепило политическое господство буржуазии во Франции, то оно разрушило его в других странах континента. Открытый союз с феодальными монархиями, в который буржуазия повсюду вступила после Июньского восстания, был использован ими для того, чтобы подорвать господство буржуазии.
«...Июньское поражение открыло деспотическим державам Европы ту тайну, что Франции необходимо во что бы то ни стало сохранять мир с соседями, чтобы быть в состоянии вести гражданскую войну у себя дома. Это отдало во власть России, Австрии и Пруссии народы, начавшие борьбу за свою национальную независимость.
Судьба этих национальных революций была поставлена в зависимость от судьбы пролетарской революции ***. Ни венгр, ни поляк, ни итальянец не будут свободны, пока рабочий остается рабом!
Наконец, победы Священного союза привели к таким изменениям в Европе, которые явятся причиной того, что всякая новая пролетарская революция во Франции
• Вместо этих слов у Маркса сказано: «Превратив свою могилу в колыбель буржуазной республики, пролетариат тем самым заставил последнюю» (настоящее издание, т. 7, стр. 31). Ред.
** Далее Энгельс опускает слова: «непобедимого потому, что его существование является жизненной потребностью самой буржуазии» (там же). Рев.
*** Далее Энгельс опускает слова: «исчезла их кажущаяся самостоятельность и независимость от великого социального переворота» (там же). Реф.
ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
59
неминуемо повлечет за собой мировую войну. Новая французская революция принуждена будет сейчас же выйти за национальные рамки и завоевать себе европейскую арену, на которой только и может свободно развиваться * социальная революция XIX века.
Итак, только июньское поражение создало все те условия, при которых Франция может взять на себя инициативу европейской революции. Только окунувшись в кровь июньских инсургентов, трехцветное знамя превратилось в знамя европейской революции — в красное знамя!» 82.
Реферат написан Ф. Энгельсом весной 1850 г.
Напечатай в журнале
« Democratic Review »
в апреле — июне 1850 г.
Печатается по тексту журнала
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
• У Маркса: «может быть осуществлена» (настоящее издание, т. 7, стр. 32). Ред.
60 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
ПИСЬМО ИЗ ГЕРМАНИИ. ВОЙНА В ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙНЕ
Кёльн, 21 июля 1850 г.
В Германии сейчас, конечно, все говорят о шлезвиг-голь-штейнских событиях. Поскольку в вашей стране, как и во Франции, об этом существует весьма смутное представление, позвольте мне сделать беглый обзор этих событий.
Уже достаточно четко выявлено, что небольшие независимые государства, окружающие Германию, являются при их более или менее либеральной форме основными пунктами сосредоточения реакции. Так, Бельгия, образцовое конституционное государство, была первой страной, устоявшей перед ударом февраля 83, первой страной, где было введено военное положение и вынесены смертные приговоры патриотам 84. Так, Швейцария избегала революционной бури далеко не почтенным образом, укрывшись за китайской стеной нейтралитета, пока революция была на подъеме, и выполняя роль раболепного орудия Священного союза против безоружных эмигрантов, когда реакция снова подняла голову во всей Европе. Очевидно, что мелочный национальный эготизм этих бессильных государств с неизбежностью заставляет их полагаться на поддержку главным образом давно существующих, то есть реакционных правительств, тем более, что они не могут не знать, что любая европейская революция поставит под вопрос их национальную независимость — независимость, в отстаивании которой заинтересованы только сторонники старой политической системы.
Дания является одним из таких мелких государств, разделяя это кичливое чувство национальной независимости и недо-
ПИСЬМО ИЗ ГЕРМАНИИ. ВОЙНА В ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙНЕ 61
мерное желание расширить свою территорию *. В независимости и могуществе Дании, государства, живущего только грабежом мировой торговли в форме зундской пошлины 86, заинтересованы лишь Россия и определенная группа английских политиков. Посредством ряда договоров, заключенных в прошлом столетии 8в, Россия буквально поработила Данию; с помощью Дании Россия завладела этими балтийскими Дарданеллами. Английские политические деятели старой школы также заинтересованы в территориальном расширении Дании; это соответствует их прежней политике расчленения Центральной Европы на ряд мелких враждующих друг с другом государств, что дает Англии возможность осуществлять по отношению к ним принцип «разделяй и властвуй».
Напротив, во всех странах политика революционной пар тии всегда была направлена на прочное объединение крупных национальностей, ранее расчлененных на мелкие государства, и на обеспечение независимости и могущества не таким обломкам национальностей, как датчане, хорваты, чехи, словаки и т. д. и т. п., насчитывавшим с самого начала от одного до трех миллионов каждая, или таким смешанным псевдонациям, как швейцарцы и бельгийцы, а многочисленным и жизнеспособным национальностям, ныне угнетаемым господствующей в Европе системой. Европейская конфедерация республик может быть образована лишь крупными и равными по силе нациями, такими, как французская, английская, немецкая, итальянская, венгерская и польская, но отнюдь не такими жалкими и бессильными так называемыми нациями, как датчане, голландцы, бельгийцы, швейцарцы и т. д.
Кроме того, допустит ли революционная партия, чтобы самая важная на севере морская позиция — вход в Балтийское море — навечно оставалась во власти себялюбивых датчан? Позволит ли она датчанам выплачивать проценты по своему национальному долгу за счет высоких пошлин с каждого идущего через Зунд и Бельт торгового корабля? Разумеется, нет.
В силу того драгоценного наследственного права, которое рассматривает народ как движимое имущество, Дания присое динила к себе две немецкие области — Шлезвиг и Гольштейн. У каждой из них были своя конституция, каждая из которых повторяла другую, а также издавна установленное право, дарованное их правителями, «что эти страны должны навечно оставаться едиными и неделимыми». Сверх того, закон
* Далеко не всем известно, что в 1848—1849 гг. в Швейцарии много говорилось о присоединении Савойи и что швейцарцы надеялись осуществить это в результате поражения революции в Италии. Примечание Энгельса.
62
Ф. ЭНГЕЛЬС
о престолонаследии в Дании отличен от порядка престолона следия в этих герцогствах 87. В 1815 г., на позорном Венском конгрессе, где нации разрезались на куски и продавались с аукциона, Гольштейн был включен в Германский союз, а Шлез-виг — нет. С этого момента датская национальная партия тщетно пыталась присоединить Шлезвиг к Дании. Наконец наступил 1848 год. В марте в Копенгагене имели место выступления народных масс, и к власти пришла национал-либераль ная партия. Она немедленно провозгласила конституцию и присоединение Шлезвига к Дании. Результатом этого явились восстание в герцогствах и война между Германией и Данией.
В то время как в Познани, Италии и Венгрии немецкие солдаты боролись против революции, эта война в Шлезвиге была единственной революционной войной, которую когда-либо вела Германия. Вопрос был в том, будут ли жители Шлезвига вынуждены связать свою судьбу с маленькой, бессильной, полуцивилизованной Данией и стать навечно рабами России, либо они получат возможность воссоединиться с сорокамиллионной нацией, которая как раз тогда была вовлечена в борьбу за свою свободу, единство, а следовательно, за восстановление своей мощи. И германские государи, особенно венценосный прусский пропойца *, слишком хорошо понимали революцион ное значение этой войны. Широко известна нота, в которой прусский посланник майор Вильденбрух 88 предложил королю Да нии ** продолжать войну для видимости, лишь в той мере, в какой это необходимо, чтобы позволить датским и немецким рево люционерам-энтузиастам, сражавшимся в качестве добровольцев и с той и с другой стороны, уничтожать друг друга. В соответствии с этим со стороны Германии война представляла собой одну сплошную цепь предательств вплоть до сражения при Фредерисии89, где республиканский корпус Шлезвиг-Гольштейна численностью в 10 тысяч человек был застигнут врасплох и разгромлен втрое превосходящими его силами датчан, в то время как 40 тысяч прусских и прочих войск находились лишь в нескольких милях, но не пришли к нему на помощь в эту трудную минуту; вплоть до предательского мира, состряпанного в Берлине 90, мира, позволяющего России высаживать войска в Шлезвиге, а Пруссии вступить в Гольштейн для подавления восстания, которому она сама, по крайней мере официально, оказывала помощь и к которому подстрекала.
Если раньше имелись сомнения относительно того, какая сторона отстаивала интересы революции, какая — интересы
* — Фридрих-Вильгельм IV. Ред. •* — Фредерику VII. Ред.
ПИСЬМО ИЗ ГЕРМАНИИ. ВОЙНА В ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙНЕ 63
реакции, то теперь они отпали: Россия шлет свой флот для укрепления братства с датчанами и для совместной с ними блокады берегов Шлезвиг-Гольштейна. Все «сильные мира сего» высту пают против этого небольшого немецкого племени, насчитываю щего не более 850 тысяч человек, а единственная помощь, которую получает этот небольшой, но отважный народ, — это симпатии революционеров всех стран. Он, бесспорно, потерпит поражение; он сможет некоторое время сопротивляться и даже свергнуть предательское буржуазное правительство, навязанное ему Пруссией; он сможет нанести поражение дат чанам и русским; но в конце концов его сокрушат, если только прусская армия, которая наверняка вступит в Голыптейн, не откажется действовать. А если это все же случится, что отнюдь нельзя полностью исключить, то вы увидите, что дела в Германии примут иной оборот. Тогда там может вспыхнуть всеобщее восстание, причем такое, с которым 1848 год не пойдет ни в какое сравнение, ибо деяния Священного союза достаточно сказались на немецком народе; и если в 1848 г. даже федератив ная республика оказалась неосуществимой, то теперь единственно приемлемой окажется единая и неделимая демократическая Германская республика, — а не позже чем через шесть месяцев — Социальная.
|
Печатается по тексту журнала Перевод с английского На русском языке публикуется впервые |
Написано Ф. Энгельсом 21 июля 1850 г.
Напечатано в журнале
« Democratic Review»
в августе 1850 г.
64 ]
К. МАРКС
* НАБРОСОК О ГЕРМАНИИ ДЛЯ РАБОТЫ
К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА
«ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР» и
1. Открытое выявление первенства России. Гегемония, поде ленная между Пруссией и Австрией. В результате их соперничества мелкие государства вновь укрепились, хотя и формально. Однако же в глазах большинства немцев князья мелких государств (например, Гессена 92, Бадена) опозорились, и, таким образом, были сокрушены еще очень сильные в 1848 г. стремления придать значение племенным и местным различиям [Stamm- und Städtchendifferenzen]. В результате движения 1848 г. был подорван также авторитет всех существующих официальных властей.
2. Пруссия. Буржуазия добилась всего и даже больше, чем отваживалась требовать в 1847 г., хотя она выброшена из правительства, унижена и получила лишь видимость конституции 62.
3. Австрия. До сих пор отдавалось предпочтение крестьянству, оно пожало плоды революции.
Покровительственная система по отношению к банку 93.
4.
Разногласия между Австрией и Пруссией в области
тор
говой политики. В Пруссии фритредерским является дворян
ство, как в Англии — промышленная буржуазия.
Написано К. Марксом в октябре 1S50 г. Печатается по рукописи
Перевод с немецкого Публикуется впервые
[ 65
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
* НАБРОСОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА ПОМОЩИ НЕМЕЦКИМ ЭМИГРАНТАМ 94
1. В результате вызванной политическими обстоятельствами эмиграции, представителей которой из финансовых соображений охотно принимали господа Шаппер и Виллих, и в результате принятия в качестве почетных членов с правом голоса лиц, не платящих никаких взносов, характер Общества * совершенно изменился. Выплата денег Обществу привела бы только к такому использованию их, которое прямо противоречило первоначальной цели.
2. Мы приняли деньги в качестве доверенных лиц Общества. Положение доверенных лиц определено английским законом. Доверенное лицо может использовать деньги по своему усмотрению, только если оно в состоянии выплатить их после пред варительного извещения, сделанного в обычном порядке.
3. Что касается временного использования средств, то гра ждане Шаппер и Виллих, которые сейчас из особых соображений настаивают на выплате денег, очень хорошо знают, что за спиной Общества без ведома большинства членов с давних пор стоял тайный комитет, обладавший неограниченными полномочиями распоряжаться фондами Общества. Г-ну Шап-перу это известно тем более, что он неоднократно через этот комитет получал от Общества деньги для личных целей.
4. Несмотря на это, мы предложили Обществу деньги, а так как Общество, после того как оно как будто согласилось на наши предложения, вдруг вызвало нас в суд — безрезультатно — мы передали деньги одному лондонскому гражда-
* — Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне. Ред,
66
К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС
нину*, в руках которого они останутся, пока Общество не представит достаточных гарантий того, что они будут использованы в соответствии с первоначальной целью.
5. Что касается отказа в письменном заявлении, то юридически оно не имело бы никакого смысла. Даже письменное заявление не могло бы наложить на подписавшихся каких-либо правовых обязательств по отношению к юридическому лицу. Письменное заявление имело бы только одну цель — использование его для встречного иска.
Подписавшиеся являются рабочими, для которых совершенно неприемлемо жить — как г-н Шаппер — за счет эксплуатации Общества или — как г-н Виллих — используя эмигрантскую кассу **.
|
Печатается по рукописи Перевод с немецкого Публикуется впервые |
Составлено К. Марксом и Ф. Энгельсом в конце декабря 1850 г.
• — вероятно, У. П. Робертсу. Ред.
** В конце наброска Марксом написано: «Бауэр из Парижа (8), Пфендер (7)». Ред.
[ 67
КАРЛ МАРКС
* О КНИГЕ Д. РИКАРДО
«О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
И НАЛОГОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ»
(ВЫПИСКИ, ЗАМЕТКИ, КОНСПЕКТ) »5
Написано в декабре 18S0, Печатается по рукописи
марте — апреле 1851 е.
На русском языке публикуется впервые
Впервые опубликовано в книге
Karl Marx. «Grundrisse der Kritik
der politischen Ökonomie.
Anhangt. Moskau, 1941
[ 69
RICARDO. (D.) ON THE PRINCIPLES
OF POLITICAL ECONOMY, AND TAXATION.
3 ED. LONDON . 1821
(УЧЕНИЕ О ДЕНЬГАХ) w
1) ИЗМЕНЕНИЯ В СТОИМОСТИ" ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
[ IV— 55] «Стоимость золота и серебра подвержена колебаниям вследст вие открытия новых и более богатых рудников; ... вследствие повышения квалификации труда и усовершенствования машин, с помощью которых разрабатываются рудники» (или обрабатывается сама руда); «...вследствие истощения рудников» (стр. 6) [стр. 36]. «Может облегчиться доставка itaix металлов на рынок» (стр. 77) [стр. 79]. «Их стоимость, так же' как и стоимость всех других товаров, зависит» в конечном счете «от совокупного количества труда, необходимого для получения этого металла и доставки его на рынок» (там же). Эти колебания, которым подвержена Стоимость золота и серебра, являются не случайными и временными, но Постоянными и естественными (стр. 78) [стр. 79]. Однако они подвержены Меньшим изменениям, чем все другие товары (стр. 79) [стр. 79]. «Хотя Йолото и серебро и являются изменчивой мерой,... они выступают как Шакая мера, в которой выражаются, оцениваются другие стоимости» fcrp. 79, 78) [стр. 79].
С этой стороны золото и серебро представляют собой изме ритель стоимости, счетчик, единицу исчисления, пункт сравне-ния.
2) «.РАЗЛИЧНЫЕ СЛЕДСТВИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЕМ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ» •»
Если заработная плата повышается потому, что падает стоимость денег, то одновременно повышается стоимость всех других товаров; таким образом, изменение происходит не в соотношении стоимостей труда и то варов, а в их совместном отношении к деньгам (стр. 47) [стр. 61—62].
Кроме изменений, вызываемых указанными постоянными причинами, стоимость денег непрерывно изменяется вследствие различного распре деления денег между различными странами «в пропорциях, которые не прерывно изменяются с каждым усовершенствованием машин и торговли и с каждым увеличением трудности» производства «продуктов питания и других" необходимых жизненрых средств» (стр, 48) [стр. Щ,
70
К. МАРКС
«Как бы ни было велико изменение в стоимости денег, оно не оказывает влияния на норму прибыли»; если товары фабриканта поднимутся в цене с 1 000 до 2 000 ф. ст., или на 100%, то его капитал поднимется в цене в такой же мере, т. е. также на 100%, если изменения в стоимости денег оказали такое же влияние на его стоимость 89. «Таким образом, норма прибыли остается той же самой, и фабрикант распоряжается не большим количеством продукта труда, чем прежде» (стр. 51) [стр. 64].
3) ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕНЬГИ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
а) КАЖДАЯ СТРАНА ПРИСВАИВАЕТ СЕВЕ ЗОЛОТО
И СЕРЕБРО СООТВЕТСТВЕННО УРОВНЮ СВОЕЙ ТОРГОВЛИ.
ß) РАЗЛИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СТОИМОСТИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ.
у) ВЕКСЕЛЬНЫЙ КУРС
«Так как золото и серебро были выбраны всеобщим средством обращения, то торговая конкуренция распределяет их между различными странами мира в пропорциях, соответствующих натуральному обмену, кото рый имел бы место, если бы таких металлов не существовало и торговля между странами была чисто меновой. Например, сукно из Англии вывозится в Португалию лишь потому, что продается там за большее количество золота, чем здесь; наоборот, по той же причине вино вывозится из Португалии в Англию. Если бы торговля была чисто меновой, то она могла бы продолжаться лишь до тех пор, пока Англия могла бы выде лывать' сукно так дешево, чтобы с помощью данного количества труда получать большее количество вина, занимаясь производством сукна, чем виноделием, и наоборот. Предположим теперь, что Англия открыла такой способ изготовления вина, при котором ей выгоднее самой произ водить его, чем ввозить; тогда часть своего капитала она перенесет из внешней торговли во внутреннюю: она перестанет производить сукно на вывоз и станет изготовлять для себя вино. В соответствии с этим будет регулироваться и денежная цена этих товаров: в Англии цена вина упадет, а цена сукна останется без изменения, в Португалии же в цене обоих товаров не произойдет никакого изменения. Сукно еще в течение неко торого времени будет вывозиться из Англии в Португалию, потому что цена его в Португалии будет по-прежнему выше, чем здесь; но вместо вина за него будут расплачиваться деньгами до тех пор, пока накопле ние денег в Англии и уменьшение их количества в Португалии не повли яют на относительную стоимость сукна в обеих странах так, что вывоз его перестанет быть прибыльным. [...] В Англии относительная цена вина упала бы вследствие усовершенствования его производства, а относительная цена сукна поднялась бы в результате накопления денег. [Пред положим, что] до введения этого усовершенствования вино стоило в Англии 50 ф. ст., а сукно — 45 ф. ст.; в Португалии вино стоило бы 45 ф. ст., а сукно — 50 ф. ст. Из Англии вывозилось бы сукно, а из Португалии вино — в обоих случаях с прибылью в 5 ф. ст. Купец, который [ IV — 56] может купить сукно в Англии за 45 ф. ст. и продать его за 50 ф. ст. в Португалии, платит за сукно векселем, который он покупает на португальские деньги. [...] Пока Португалия вывозит вино, экспортер вина в Португалии оказывается продавцом векселя, который покупается или самим импортером сукна или лицом, которое продало ему свой вексель. Таким образом, экспортерам в каждой из обеих стран уплачивается за их товары без необходимости перемещения денег из одной страны в другую»,
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 71
(Английский импортер платит английскому экспортеру, а португальский импортер — португальскому экспортеру.)
«Для этого не нужно никакой прямой сделки между экспортером и импортером в каждой из обеих стран. Но если цена на вино в Португа лии будет такова, что вино не сможет вывозиться в Англию, импортер сукна будет по-прежнему покупать вексель» (у кого?), «однако цена этого векселя будет выше, так как его продавец знает, что на рынке нет встречного векселя, с помощью которого он мог бы в конечном итоге урегулировать сделки между двумя странами. Он, вероятно, знает, что золото или серебро, которое он получил в уплату за свой вексель, должно быть действительно переслано его корреспонденту в Англию, чтобы дать последнему возможность уплатить по векселю, на предъявление которого даны соответствующие полномочия; поэтому он включает в цену своего векселя все могущие возникнуть издержки вместе со своей обычной при былью. Если, следовательно, эта премия за вексель на Англию будет равна прибыли от ввоза сукна, то ввоз, конечно, прекратится. Но если премия на вексель будет составлять только 2%, если, для того чтобы иметь возможность покрыть долг в 100 ф. ст. в Англии, надо уплатить в Порту галии 102 ф. ст., в то время как сукно, которое стоит 45 ф. ст., будет продано за 50 ф. ст. ,[то сукно будет ввозиться], а векселя покупаться и деньги вывозиться до тех пор, пока уменьшение количества денег в Португалии и накопление их в Англии не приведут к такому состоянию цен, при ко тором уже будет невыгодно продолжать дальше эти сделки. Но уменьшение количества денег в одной стране и увеличение количества их в другой влияют на цену не только какого-либо одного товара, но на цены всех товаров. Поэтому как вино, так и сукно повысятся в цене в Англии и понизятся в Португалии. Например, цена сукна упадет в Португалии с 50 ф. ст. до 49 или 48 ф. ст. и поднимется в Англии до 46 или 47 ф. ст., в результате чего после уплаты премии за вексель такие цены не будут давать достаточной прибыли для того, чтобы какой-либо купец имел стимул ввозить этот товар. Таким образом, деньги присваиваются в каждой стране только в таких количествах, которые необходимы для регулиро вания прибыльного уровня обмена 10°. Следовательно, с наступлением такого момента, когда обмен перестанет быть полезным, деньги больше не будут перетекать из одной страны в другую, торговля между этими странами прекратится. Обе страны будут производить свое собственное сукно и свое собственное вино, но одновременно произойдет и новое рас пределение драгоценных металлов. Хотя в Англии вино и подешевеет, но цена сукна повысится, и потребитель должен будет платить sa него больше, между тем как в Португалии потребители и сукна и вина будут иметь возможность покупать эти товары дешевле. В стране, где имело место усовершенствование, цены повысятся, в стране, где не произошло никакого изменения, но которая лишилась прибыльной отрасли внешней торговли, цены упадут. Это, однако, будет для Португалии лишь кажущейся выгодой, потому что общее количество производимого в ней вина и сукна уменьшится, тогда как в Англии оно увеличится. Стоимость де нег понизится в Англии и повысится в Португалии. Выраженный в день гах совокупный доход Португалии уменьшится, а совокупный доход Англии возрастет. Таким образом, улучшение производства в какой-либо стране изменяет распределение драгоценных металлов между нациями мира; оно побуждает к увеличению количества товаров и в то же время к общему повышению цен в той стране, где имеет место это улучшение. Но так как обмен между двумя странами не ограничивается двумя товарами, вроде сукна и вина, а » ввоае и вывозе участвует много разных
72
К. МАРКС
товаров; так как отлив денег из одной страны и накопление их в другой отражаются на ценах всех товаров и, следовательно, поощряют вывоз многих других товаров помимо денег, то тем самым предотвращается столь крупное изменение в стоимости денег в обеих странах, какого можно было бы ожидать при других условиях» (стр. 143—150) [стр. 118—122]. «Помимо усовершенствований в производстве и машинах есть еще и другие причины, которые постоянно влияют на естественное течение торговли и нарушают равновесие и относительную стоимость денег. Вывозные или, ввозные премии ш, новые налоги на товары нарушают иногда прямо, а иногда косвенно естественный ход меновой торговли и в результате вызывают необходимость вывоза или ввоза денег; [...] такой результат порождается не только в стране, где действует причина, вызывающая нарушение равновесия, но в большей или меньшей степени на мировом рынке. Этим объясняется различная стоимость денег в разных странах, этим объясняется то», что [цены на] продукты сельского хозяйства «выше в тех странах, в которых промышленность процветает», потому что «благодаря своему мастерству и машинам эти страны в обмен за свои товары в изобилии ввозят деньги» (стр. 150-151) [стр. 122].
[IV — 57] Таким образом, «кроме обычных изменений в стоимости денег и тех, которые общи всему торговому миру, бывают также частичные изменения, которым деньги подвержены в отдельных странах. Стоимость денег никогда не бывает одинаковой в двух странах, так как она зависит от различий в их налогообложении или в промышленном мастерстве, в преимуществах климата, естественных богатствах и от многих других причин... Ни прилив, ни отлив денег не оказывают никакого действия на норму прибыли. Капитал не возрастет вследствие увеличения количества находящихся в обращении денег» (ибо прибыли, ренты, заработная плата увеличиваются в том же самом отношении, что и количество находящихся в обращении денег. Таким образом, [норма] прибыли остается той же самой, когда рента и заработная плата стали выше на 20%; но одновременно и номинальная стоимость капитала фермера стала на 20% выше) (стр. 151—152) [стр. 123].
«На ранних стадиях общественного развития, когда промышленность развита мало и все страны производят почти одни и те же, преимущественно громоздкие и наиболее общеупотребительные товары, стоимость денег в различных странах регулируется главным образом расстоянием последних от рудников, доставляющих драгоценные металлы; но по мере того как в обществе развиваются ремесла и все более применяются технические усовершенствования, а различные нации достигают превосходства в отдельных отраслях промышленности, главным регулятором стоимости драгоценных металлов становится превосходство таких отраслей, хотя расстояние все еще входит в расчет» (стр. 153) [стр. 123]. «Только эти две причины» — расстояние от рудников, доставляющих золото, и различие в преимуществах промышленного мастерства и машин — «регулируют сравнительную стоимость денег в разных странах мира, ибо хотя налоговое обложение и ведет к нарушению денежного равновесия, но это происходит лишь потому, что страна, в которой введены налоги, лишается некоторых своих преимуществ, связанных с опытом, мастерством и климатом» (стр. 154—155) [стр. 124].
(Здесь подчеркивается следующее различие: является ли товар громоздким, тяжелым или же в небольшом его объеме закдючера большая стоимость; стало быть, подчеркивается
О КНИГЕ Д . РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 73
различие между продуктом сельского хозяйства и промышленности.)
Таким образом, в странах, особенно отличающихся промышленным развитием, «стоимость денег будет ниже, а цены хлеба и труда выше, чем в других странах. Эта более высокая стоимость денег», имеющая место цо указанной причине в странах, находящихся в менее благоприятном положении, те будет определяться вексельным курсом. Векселя, как и прежде, могут обмениваться по номинальному курсу, хотя цены хлеба и труда будут в одной стране на 10, 20 или 30% выше, чем в другой. При предположенных обстоятельствах такая разница в ценах будет в естественном поряДке вещей, и вексельный курс только в том случае может стоять на номинальном уровне, если в страну, отличающуюся своей промышленностью, ввезено количество денег, достаточное для того, чтобы цены хлеба и труда повысились в ней соответствующим образом. Если другие страны воспрепятствуют вывозу денег и сумеют заставить повиноваться такому закону, то они действительно могут помешать повышению цен на хлеб и труд в промышленной стране. Ибо такое повышение может иметь место только в случае прилива драгоценных металлов при условии, что бумажные деньги не применяются. Но эти страны не смогут помешать тому, чтобы вексельный курс был очень неблагоприятен для них. Если бы Англия была такой промышленной страной и если бы было возможно помешать ввозу денег, то вексельный курс с Францией, Голландией и Испанией мог бы быть на 5, 10 или 20% против этих стран. Когда денежный поток принудительно задерживается и имеются препятствия для достижения деньгами их нормального уровня, то нет препятствий для возможных изменений вексельного курса. Результаты получаются точно такие же, как и при введении в обращение бумажных денег, не обмениваемых на золото. Обращение таких денег с необходимостью ограничивается страной, где они выпущены: они не могут при чрезмерном их количестве широко распространиться в другие страны. Уровень обращения нарушен, и вексельный курс будет неблагоприятен для той страны, где количество средств обращения чрезмерно. Точно таким было бы действие металлического обращения, если бы при помощи принудительных taep, законов, которые нельзя обойти, деньги удерживались в стране, в то время как течение торговли толкает их в направлении к другим странам. Когда каждая страна имеет как раз такое количество денег, Какое она должна иметь, деньги в одной стране не будут в действитель-■ости иметь такую же стоимость, как и в другой: по отношению ко многим товарам разница эта может составлять 5, 10 или даже 20%, но вексельный курс будет номинальным. В Англии 100 ф. ст. или серебро, ваключающееся'в 100 ф. ст., купят вексель в 100 ф. ст. или равное количество серебра во Франции, Испании или Голландии. Говоря о вексельном курсе и различной стоимости денег в разных странах, мы не должны нринимать во внимание стоимость денег, выраженную в товарах той или другой страны. Вексельный курс никогда не определяется путем оценки различной стоимости денег в хлебе, сукне или каком-либо другом товаре, но посредством оценки стоимости средств обращения одной страны в средствах обращения другой. Его можно установить также [ IV — 58] путем сравнения с какой-нибудь мерой, общей для обеих стран. Если вексель в 100 ф. ст. на Англию купит такое же количество товаров во Франции или Испании, что и вексель на ту же сумму на Гамбург, то вексельный курс между Гамбургом и Англией стоит на номинальном уровне; но если вексель в 130 ф. ст. на Англию купит не больше, чем вексель в 100 ф. ст. на Гамбург, то этот вексельный курс на 30% против Англии. Пусть
74
К. МАРКС
в Англии 100 ф. ст. могут купить вексель или право получить 101 ф. ст. в Голландии, 102 ф. ст. во Франции и 105 ф. ст. в Испании. Тогда вексельный курс между Англией и этими странами на 1% против Голландии, на 2% против Франции и на 5% против Испании. Это свидетельствует о том, что уровень денежного обращения в этих странах выше, чем следует, и сравнительная стоимость денег, находящихся в обращении у них и в Англии, немедленно возвратится к номинальному уровню при уменьшении количества их средств обращения или увеличении его в Англии». В течение последних 10 лет, когда вексельный курс колебался от 20 до 30% против Англии, деньги в этой стране были обесценены не потому, что стоимость денег сравнительно с разными товарами не может быть в одной стране выше, чем в другой; «130 ф. ст. не могли удерживаться в Англии, не обесцениваясь, если, оцениваясь в деньгах Гамбурга или Голландии, они представляли не большую стоимость, чем слиток в 100 ф. ст. Послав 130 полноценных английских фунтов в Гамбург, я имел бы там 125 ф. ст. даже при расходе в 5 ф. ст. на пересылку; что же в таком случае побудило меня заплатить 130 ф. ст. за вексель, который дал бы мне в Гамбурге лишь 100 ф. ст., если не то, что мои фунты не были полноценными фунтами стерлингов? Они были испорчены, их внутренняя стоимость упала ниже гамбургских фунтов, и будь они действительно посланы туда с расходом в 5 ф. ст. на пересылку, [их] купили бы только за 100 ф. ст. По отношению к металлическим фунтам стерлингов никто не отрицает, что за свои 130 ф. ст. я получил бы в Гамбурге 125 ф. ст., но за бумажные фунты я мог получить только 100 ф. ст. 1оа; однако же утверждали, что бумажные 130 ф. ст. равны 130 ф. ст. в золоте или серебре» (стр. 156-160) [стр. 125-127].
Таким образом, относительно вексельного курса Рикардо утверждает следующее: так как деньги естественным образом распределяются между разными странами соответственно уров ню развития их промышленности и, в частности, их вывоза, являющегося результатом такого развития, то неблагоприятный вексельный курс показывает лишь то, что страна, для которой он неблагоприятен, не вывозит соответствующее количество драгоценных металлов в другую страну, для которой он благоприятен. В стране, для которой вексельный курс благоприятен, совокупное количество средств обращения ш увеличивается, так как она не ввозит такого количества драгоценных металлов, которое соответствует уровню ее торговли. В стране, для кото рой вексельный курс неблагоприятен, средства обращения обесцениваются, потому что она удерживает у себя такое количество драгоценных металлов, которое превышает уровень ее торговли. Если в это не вмешиваются причины, принудительно нарушающие равновесие, то вексельный курс может повышаться против одной страны лишь до того предела, когда вывоз яолота и серебра становится дешевле, чем премия на векселя, или когда эта премия не может превысить расходы на прямую пересылку золота и серебра, не вызывая фактически вслед за собой такой вывоз и не восстанавливая тем самым посредст-
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 75
вом этой операции номинальный уровень вексельного курса. Если этого не происходит, то либо вывоз золота и серебра йринудительно запрещен и таким путем принудительно увеличено количество обращающихся металлических денег, либо чрезмерный выпуск бумажных денег обесценил находящиеся в обращении деньги страны, так что премия на векселя повышается не на величину расходов на вывоз драгоценных металлов, а превышает величину, на которую обесценились бумажные деньги, и величину таких расходов, вместе взятых. Вексельный курс выражает стоимость средств обращения одной страны в средствах обращения другой. Если он не стоит на номинальном уровне, то это происходит не потому, что стоимость денег в одной стране ниже или выше в сравнении со стоимостью разных других товаров, а, наоборот, потому, что не допускается, чтобы стоимость средств обращения в каждой из обеих стран по сравнению с другими странами находилась на таком низком или высоком уровне, который обусловливается торговыми сделками. Но если Рикардо всякий раз выводит неблагоприятный вексельный курс из чрезмерного разбухания обращения в той етране, для которой вексельный курс неблагоприятен, то: 4) он отождествляет реальный и номинальный вексельные Курсы; 2) для страны, которая имеет только металлическое «обращение и не вводит принудительных мер против вывоза Драгоценных металлов, вексельный курс никогда не мог бы •быть неблагоприятным; 3) тем самым не сказано собственно ничего иного, кроме того, что вексельный курс показывает, что Деньги должны вывозиться из одной страны в другую не потому, s^îo количество ее средств обращения превышает [нормальный] уровень, а потому, что она является должником другой страны. Здесь важно только то, что различие в стоимости денег в разных странах не затрагивает вексельного курса.
4) «ДЕНЬГИ СЛУЖАТ ЛИШЬ ТОЙ МЕРОЙ,
В КОТОРОЙ ВЫРАЖАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ»,
ТО КОЛИЧЕСТВО ОДНОГО ТОВАРА, КОТОРОЕ ОТДАЮТ
ЗА ДРУГОЙ (стр. 180, 181) [стр. 139]
5) НАЛОГ НА ЗОЛОТО. (ИЛИ ВОПРОС:
КАК ВОЗРОСШАЯ ТРУДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА
ВЛИЯЕТ НА ЕГО СТОИМОСТЬ?)
[ IV — 59] «Налог на золото упадет на того, чье имущество заключается в деньгах, и это будет продолжаться до тех пор, пока количество денег не сократится пропорционально увеличению издержек производства золота, вызванному налогом». «Спрос на деньги не имеет такого определенного
4 М. и Э., т. 44
76
К. МАРКС
количественного выражения, как спрос на предметы одежды или питания. Спрос на деньги регулируется всецело их стоимостью, а их стоимость — их количеством».
(Позднее же говорится: количество денег регулируется их стоимостью.)
«Если бы стоимость золота удвоилась, то половинное количество его могло бы выполнять те же функции в обращении, а если бы стоимость его уменьшилась вдвое, то для выполнения их потребовалось бы двойное количество золота. Если бы рыночная цена 104 хлеба вследствие обложения налогом или увеличения трудности производства возросла на одну десятую, то сомнительно, чтобы это сколько-нибудь повлияло на потребляемое количество хлеба», потому что существует определенная потребность в нем. «Что же касается денег, то спрос на них прямо пропорционален их стоимости. Никто не мог бы схесть вдвое больше хлеба, чем обычно» требуется для удовлетворения его потребности 105, «но каждый человек, который покупает и продаст одно и то же количество товаров, может быть вынужден употребить вдвое, втрое или в несколько раз больше денег, чем раньше». Здесь речь идет о стране, в которой «в качестве денег употребляются драгоценные металлы», а бумажные деньги еще но учреждены... «Так как количество бумажных денег может быть легко уменьшено, то стоимость их, хотя бы мерой их и являлось золото, могла бы возрасти так же быстро, как и стоимость самого золота... При падении стоимости денег нет никакого предела увеличению их количества, которое может быть навязано» нации «внешней торговлей, а при повышении стоимости денег» ей «придется смириться с любым уменьшением их количества... Если бы [вследствие введения налога] в рудниках добывалась только Vio часть производимого в настоящее время золота, то стоимость этой Vio равнялась бы стоимости 10/10, производимых в настоящее время... Соответствие между рыночной и естественной стоимостью ш всех товаров во все времена зависит от той легкости, с какой может быть увеличено или уменьшено их предложение» (т. е. производство). «В тех случаях, когда мы имеем дело с такими товарами, как золото, дома, труд и многие другие, такой результат не может быть получен быстро» (стр. 216—221) [стр. 161-164].
В высшей степени путаный раздел. Согласно Рикардо, издержки производства золота могут оказать воздействие лишь в том случае, когда вследствие этого количество золота увеличивается или уменьшается, а это воздействие проявляется лишь очень поздно. С другой стороны: согласно этому объяснению, совершенно безразлично, какова масса находящихся в обращении денег, ибо безразлично, обращается ли много металла низкой стоимости или мало металла высокой стоимости. Но разве увеличение покупок и продаж, совершаемых в одно и то же время, не требует большего количества средств обращения? А если обращаются только деньги высокой стоимости, то их не хватает для обмена между потребителями и розничными торговцами, а также и для производства. Это то же самое, как если бы в обращении находились, например, только банкноты достоинством в 500 ф. ст.
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 77
6) ПРОЦЕНТ ЗА [ССУДУ] ДЕНЕГ
«Норма процента всегда регулируется в конечном счете нормой прибыли. Она подвержена, однако, различным временным колебаниям. С каждым изменением количества и стоимости денег изменяются и цены товаров. [...] Если рыночная цена товара падает», например, «вследствие повышения стоимости денег», то в руках фабрикантов и купцов скапливается большое количество товаров, которое они не желают продавать по очень пониженным ценам. «Чтобы произвести свои обычные платежи, которые он привык покрывать за счет продажи своих товаров, он [фабрикант] стремится теперь брать деньги в кредит и часто оказывается вынужденным платить возросшие проценты» (стр. 349—350) [стр. 245].
Таким образом: уменьшение массы денег повышает их стоимость, цены товаров надают пропорционально этому повышению, вследствие этого возрастает потребность в кредите, а отсюда — и норма процента. Чтобы прийти к рассмотрению нормы про цента, Рикардо, как всегда, прежде всего допускает здесь непосредственное воздействие [изменения] массы денег на [цены] товаров, тогда как рынок ссуд определяется совсем иными обстоятельствами.
7) ДЕНЬГИ, ВЫВОЗ И ВВОЗ
[ IV — 60] «Все, что облегчает вывоз, способствует накоплению денег в стране, а все, что затрудняет вывоз, способствует уменьшению их количества» (стр. 373) [стр. 259].
8) О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ И БАНКАХ.
БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ. ПАНИКА.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫПУСКИ БАНКНОТ.
КОМУ СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАВО ВЫПУСКАТЬ
БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ: ГОСУДАРСТВУ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО
ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ? НЕОБХОДИМО ЛИ ПОСЛЕДНЕЕ
ДЛЯ ТОРГОВЛИ? ЗОЛОТО
Золото в 15 раз дороже серебра, потому что для производства данного количества золота требуется в 15 раз больше труда (стр. 421) [стр. 288].
То количество денег, которое может быть применено в какой-либо стране, зависит от их стоимости. Если бы в обращении находилось одно только золото, то его потребовалось бы в 15 раз меньше, чем если бы для этой цели применялось одно только серебро (там же). «Обращение никогда не может быть настолько обильным, чтобы выйти из берегов; уменьшение стоимости средств обращения ведет к увеличению в той же пропорции их количества, а увеличение их стоимости уменьшает в той же пропорции их количество» (стр. 422) [стр. 288].
«Пока одно лишь государство производит чеканку монеты, не может быть предела для взимаемой им за это пошлины, так как путем уменьшения количества монеты ее стоимость может быть повышена до любого предела. На этом принципе основывается обращение бумажных денег.
4*
78
К. МАРКС
Все сопряженные с ним расходы могут рассматриваться как пошлина за чеканку. Хотя бумажные деньги не имеют внутренней стоимости, все же [при ограничении их количества] их меновая стоимость так же велика, как и стоимость монеты того же наименования или содержащегося в этой монете драгоценного металла. По этой же причине стертая монета, вследствие ограничения ее количества, может обращаться так, как если бы она была полновесной» (стр. 422) [стр. 289].
«Нет необходимости, чтобы бумажные деньги для обеспечения их стоимости подлежали размену на монету. Необходимо только, чтобы количество их регулировалось в соответствии со стоимостью металла, объявленного денежной мерой. Если бы такой мерой было золото данной пробы и данного веса, можно было бы увеличивать количество бумажных денег при каждом падении стоимости золота, или, что то же самое, при каждом повышении цены товаров» (стр. 424) [стр. 290].
[Рикардо] считает, что для предотвращения чрезмерного выпуска бумажных денег
«нет более подходящего средства, чем вменить в обязанность платить за банкноты золотом в монетах или слитках» (стр. 426) [стр. 292]. «Чтобы гарантировать население от всяких других изменений в стоимости средств обращения, кроме тех, которым подвергается сама денежная мера, и в то же время осуществить обращение с помощью наиболее дешевого средства, т. е., стало быть, довести денеяшое обращение до наиболее совершенного уровня», достаточно «вменить [Английскому] банку в обязанность выдавать в обмен на его банкноты не гинеи, а слитки золота или серебра установленной Монетным двором цены и пробы. Благодаря этому падение курса банкнот ниже стоимости слитков сопровождалось бы немедленным ограничением количества банкнот. Чтобы предупредить повышение цены банкнот выше стоимости слитков, следовало бы также обязать Банк выдавать его банкноты в обмен на золото стандартной пробы по цене» Монетного двора (стр. 427) [стр. 292]. Одновременно следует предоставить полную свободу для вывоза и ввоза слитков (стр. 428) [стр. 293].
«Против всеобщей паники, охватывающей страну, когда каждый желает обладать драгоценными металлами как наилучшим средством для реализации или сокрытия своей собственности, банки не имеют никакой гарантии при любой системе; они подвержены такой панике по своей природе, так как в каком-либо банке или в какой-либо стране никогда не может быть такого количества монеты или слитков, какое имеют право потребовать владельцы денег данной страны. Если бы все они в один и тот нее день истребовали свои вклады у своих банкиров, то количество банкнот, находящееся в данный момент в обращении» 107, часто «оказывалось бы недостаточным для удовлетворения таких требований» (стр. 429—430) [стр. 294]. Наибольшая выгода от этой системы ш состояла бы в том, что благодаря замене очень ценного средства обращения очень дешевым страна получила бы возможность производительно применить капитал, равный этой [высвободившейся] сумме (стр. 432) [стр. 295]. «Денежное обращение находится в самом совершенном состоянии, когда оно состоит целиком из бумажных денег, стоимость которых равняется стоимости представляемого ими золота. Употребление бумажных денег вместо золота заменяет самое дорогое средство обращения наиболее дешевым и дает возможность стране без потери для отдельных лиц обменять все золото, которое до этого употреблялось для целей обращения, на сырые материалы, инструменты и продовольствие» (стр. 432— 433) 1стр. 295—296].-
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О ПАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 79
Но все же только то количество золота, которое Банк не накопляет в своих подвалах?
«Предположим, что для снаряжения какой-нибудь экспедиции требуется один миллион. Если бы государство выпустило на миллион бумажных денег и извлекло бы из обращения миллион в монете, то эта экспедиция была бы снаряжена без какого-либо обременения для народа. Но если бы этот миллион был выпущен в обращение Банком, который ссудил бы его государству из 7%, то страна была бы обременена постоян ным годовым налогом в 70 тыс. ф. ст.; народ платил бы налог, Банк получал бы его ... Население прямо заинтересовано в том, чтобы учреждением, выпускающим бумажные деньги, было государство, а не компания купцов [или банкиров]». Однако с правительством в большей мере связана опасность того, что оно отбросит ограничения обращения (обмениваемость денег на золото и т. д.) ... Рикардо предлагает [предоставить право выпуска бумажных денег] специальным уполномоченным, ответственным перед парламентом (стр. 433—435) [стр. 296—297].
[ IV — 61] Рикардо оспаривает то, что Английский банк, который выпускает бумажные деньги, необходим для содействия торговле посредством учета векселей и предоставления денег взаймы. Он рассуждает следующим образом:
Деньги предоставляются взаймы независимо от того, угодно это делать Банку или нет, так как рыночная норма прибыли и процента за висит не от размера выпусков бумажных денег, а от величины действи тельного богатства и т. д. Рыночная норма процента регулируется не Банком, ссужает ли он деньги из 5, 4 или 3%, а применением капитала, совершенно независимо от массы или стоимости денег. «Выдаст ли Банк ссуды на 1, 10 или 100 миллионов, он не может непрерывно изменять норму процента. Он мог бы лишь изменить стоимость выпускаемых таким путем денег». «Если Банк взимает меньшую норму процента по сравне- "нию с рыночной, то нет такой суммы, которой он не мог бы ссудить; если норма процента выше рыночной, то разве только расточители согласились бы занимать у него деньги». «Если Банк оказывал, как говорят, в течение последних 20 лет такую большую помощь торговле, снабжая купцов деньгами, то это имело место потому, что в течение всего этого периода процент, из которого он ссужал деньги, был ниже рыночной .нормы процента; ниже той нормы, по которой купцы могли бы занять деньги где-либо в другом месте... Что сказали бы мы об учреждении, кото рое регулярно снабжало бы половину всего числа фабрикантов сукна шерстью по цене, которая ниже ее рыночной цены?.. Это не понизило бы цену сукна для потребителя, ибо цена вта регулировалась бы издержками производства той части производителей, которые находятся в наименее благоприятном положении. Единственным результатом было бы поэтому возрастание прибылей части фабрикантов сукна выше обычной нормы»... Таким образом нашим Банком «часть промышленников несправедливо и в ущерб для всей страны поставлена в особенно благоприятное положение благодаря возможности получать средства для ведения дела по меньшей цене, чем те, кто всецело зависит от рыночной цены. Вся промышленная деятельность, которую может развить все общество, зависит от коли чества его капитала, т. е. от его сырого материала, машин, предметов питания, кораблей и т. д., употребляемых в производстве. После того как установлено хорошо регулируемое бумажно-денежное обращение,
80
К. МАРКС
количество этих предметов не может быть ни увеличено, ни уменьшено путем банковских операций. Следовательно, если государство выпускает бумажные деньги, то, хотя бы оно при этом не учитывало ни одного векселя и не ссужало никому ни одного шиллинга, в размерах производства не произошло бы никакого изменения... Вероятно, ссужались бы такие же суммы денег», хотя и по различным нормам процента — «из 6, 7 или 8% — в зависимости от результата конкуренции между заимодавцами и заемщиками» (стр. 435—439) [стр. 297—299].
«В богатых странах золото всегда предпочитается для уплаты долгов потому, что это в интересах должника» (стр. 442) [стр. 301] (потому, что это относительно дешевле). «Пока каждый из двух металлов» (золото и серебро) «мог одинаково служить законным средством для уплаты долгов любых размеров, мы были подвержены постоянной перемене в нашей главной ! единице-мере стоимости. В зависимости от изменений в относительной стоимости двух металлов такой мерой бывало иногда золото, иногда серебро; и к тому времени, когда один из этих металлов переставал быть мерой, он переплавлялся и извлекался из обращения, так как стоимость его в слитках была выше его стоимости в монете» (стр. 443) [стр. 302].
9) О СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗОЛОТА, ХЛЕБА И ТРУДА В БОГАТЫХ И БЕДНЫХ СТРАНАХ
«Когда мы говорим о высокой или низкой стоимости золота или серебра в различных странах, мы всегда должны при этом указать какую-нибудь меру, в которой их оценивают; иначе с нашим утверждением нельзя связать никакого представления». Так, например, золото, оцениваемое в оливковом масле, дороже в Испании, чем в Англии; золото, оцениваемое в сукне, дороже в Англии (стр. 453) [стр. 309]. [IV —61]
[81
* ЗАМЕТКИ О ВЗГЛЯДАХ РИКАРДО НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ 109
НАЛОГИ, СВЯЗАННЫЕ С СОЦИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ [STAND]
[33] Налог на ренту. «Налог на действительную ренту падает на земельного собственника». Налог на мнимую ренту ш «падает на потребителя [сырого материала]» (стр. 193) [стр. 147].
Десятина. «Должна повышать цену сырого продукта» (стр. 195) [стр. 148]. (Таким образом, не падает ни на земельного собственника, ни на арендатора.)
Земельный налог. Если он наложен на ренту, то представляет собой налог на ренту. Если он соразмерен с плодородием земли, то равнозначен десятине. Если составляет твердую сумму с каждого акра земли безотносительно к ее плодородию, то это — своеобразный налог ш. Такой налог взимается с лучшей земли в той же пропорции, что и с худшей; повышая цену продукта как лучшей, так и худшей земли, он ведет к обложению населения дополнительным налогом — сначала в пользу арен-датора лучшей земли (в течение всего срока его аренды), а затем и в пользу земельного собственника (стр. 201—203) [стр. 152—153].
Налог на сырой продукт. Повышает издержки производства и поэтому падает на цену продукта, т. е. на потребителя (стр. 169-170) [стр. 133-134]. [33]
82 ]
* НАБРОСОК ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ К КНИГЕ РИКАРДО ш
[1а] пз Влияние цены жизненных средств на заработную плату (стр. 176-183) (стр. 360, 361) [стр. 137-141, 251-252].
Обратнопропорционалъное соотношение прибыли и заработной платы (стр. 23, 152, 153, 500) [стр. 47—48, 123, 338].
Накопление капитала (стр. 94) [стр. 89—90].
Население и заработная плата стр. 93, 94, 95 [стр. 89—91]. [1а]
[34] О заработной плате (стр. 7, 8) (стр. 151) стр. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 360, 361, 461 [стр. 36-37, 122, 137-141, 251-252, 314].
' О прибыли и заработной плате (стр. 21) (стр. 23) стр. 500, 152, 153 [стр. 45-48, 338, 123].
Влияние внешней торговли на норму прибыли стр. 135, 136,
137 [стр. 114—115]. То же о внутренней торговле 138 [ ..... ] *
310, 311 [стр. 116, 220].
Налог (стр. 198) (стр. 205, 206) (стр. 210) (184) (185) (стр. 384) [стр. 150, 154-155, 157, 141-142, 265-266]. Влияние стр. 276, стр. 242, 243 [стр. 198-199, 178-179].
Как именно происходит расширение земледелия (стр. 361) [стр. 252].
Цена хлеба не регулирует цену других товаров (добавить к разделу о рыночной и естественной цене) (стр. 364) [стр. 253— 254].
Рыночная цена (стр. 504) [стр. 341].
• Несколько цифр в рукописи расшифровать не удалось. Ред.
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 83
Реальная ценаш (стр. 460, 481, 499, 505) [стр. 314, 327, 338, 342].
Валовой доход и чистый доход (стр. 512, 513) [стр. 346—347].
Обесценивающее влияние усовершенствований в земледелии и промышленности на часть наличного капитала (стр. 318) (321) [стр. 224, 226-227].
Вторая часть ренты (стр.1 315, примечание) [стр. 223].
Капитал (стр. 327) [стр. 230].
Внешняя торговля стр. 481 [стр. 326—327].
Различие между индивидуальной ценой и естественной стоимостью.
[ ............................................................................. ] и цена.
[ ........... ................. • .- ....................... ]* [34]
• Заключительную часть наброска указателя расшифровать не удалось. Рев
84 ]
RICARDO (DAVID). ON THE PRINCIPLES
OF POLITICAL ECONOMY, AND TAXATION.
3 ED. LONDON 1821 ш
I) О СТОИМОСТИ
[ VIII — 19] Полезность какого-либо предмета и способность покупать другие товары: потребительная стоимость и меновая стоимость (стр. 1) [стр. 33]. «Полезность не является мерой меновой стоимости, хотя она существенно необходима для последней» (стр. 2) [стр. 33]. «Товары получают свою меновую стоимость из двух источников: 1) из своей редкости и 2) из количества труда, необходимого для их производства. Существуют некоторые товары, количество которых нельзя увеличить посредством труда; поэтому их стоимость не может быть понижена в результате роста предложения, а определяется исключительно их редкостью. Она изменяется вместе с изменяющимся богатством и склонностями тех лиц, которые желают обладать ими» (там же) [стр. 34]. Иначе обстоит дело с товарами, которые обмениваются на рынке ежедневно. Эти товары мы имеем в виду, когда речь идет о законах стоимости. «Количество таких товаров может быть увеличено трудом, а их производство осуществляется посредством неограниченной конкуренции» (стр. 3) [стр. 34].
Такова предпосылка при определении стоимости у Рикардо.
Таким образом, относительная стоимость товаров определяется различным количеством их, которое может быть произведено в течение одного и того же рабочего времени, или же тем количеством труда, которое соответственно воплощено в них. Следовательно, всякое увеличение такого количества труда увеличивает стоимость товара, а всякое уменьшение уменьшает ее (стр. 4) [стр. 35]. Стоимость труда и [произведенное этим трудом] количество товаров, за которое можно купить определенное количество труда, не равны, так как продукт рабочего или эквивалент этого продукта не равен вознаграждению рабочего. Таким образом, стоимость труда не является мерой стоимостей, каковой является труд, затраченный на данное количество товаров (стр. 5) [стр. 35—36]. Таким образом, «прошедшую или настоящую относительную стоимость товаров определяет то сравнительное количество их», которое может быть произведено данным количеством труда (стр. 9) [стр. 38].
0 КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 85
Разумеется, существуют различия в качестве труда и трудности при сравнении различных рабочих часов в различных отраслях производства. Но шкала оценки этих различий скоро устанавливается в практике (стр. 13) [стр. 40].
(Рикардо не дает дальнейшего развития этого вопроса.)
Для коротких периодов, по крайней мере от года к году, изменение этого неравенства различных видов труда является незначительным и поэтому не принимается в расчет (стр. 15) [стр. 41].
В труд, определяющий стоимость товаров, включаются время и труд, необходимые для создания того капитала, который применяется в производстве (стр. 16) [стр. 42]. Учитывается также труд, необходимый для доставки товаров на рынок (стр. 18) [стр. 43—44]. С прогрессом общества стоимость товаров значительно изменяется вместе с изменением того количества труда, которое воплощено в капитале (там же). «Экономия в применении труда всегда понижает относительную стоимость товара, все равно, касается ли она труда, необходимого для изготовления самого товара, или же капитала, с помощью которого производится товар» (стр. 19—20) [стр. 44]. Привнесение сюда такой меры, как золото, ничего не меняет в этом принципе (стр. 23) [стр. 46—47].
«Принцип, согласно которому количество труда, затраченного на производство товаров, регулирует их относительную стоимость, видоизменяется в значительной степени вследствие применения машин и другого основного и долговечного капитала» (стр. 25) [стр. 49] 11в. Во-первых, различная долговечность основного капитала, во-вторых, различное соотношение, в котором капитал расходуется на содержание труда и на машины, инструменты, здания. Оба эти обстоятельства обусловливают то, что помимо рабочего времени, необходимого для производства товаров, на стоимость товаров влияет также повышение или падение стоимости труда (стр. 25—26) [стр. 49]. В зависимости от того, насколько быстрее или медленнее капитал расходуется, а значит насколько более или менее часто он должен быть воспроизведен в течение данного времени, он называется оборотным или основным капиталом (стр. 26) [стр. 49—50]. Далее, капитал «оборачивается или возвращается к своему владельцу в весьма неодинаковые промежутки времени». Например, «пшеница, купленная фермером для посева, есть основной капитал в сравнении с пшеницей, купленной булочником для приготовления из нее хлеба» (стр. 26—27) [стр. 50]. «Таким образом, в двух отраслях может применяться равновеликий капитал, однако весьма различным образом разделенный на основную и оборотную доли» (стр. 27) [стр. 50]. Повышение заработной платы, естественно, не в одинаковой степени затрагивает два таких капитала, из которых один почти целиком авансирован на заработную плату, а другой почти целиком вложен в машины (там же). Два фабриканта могут применять одинаковое количество основного капитала, но различной долговечности (там же). Кроме того, здесь присоединяется прибыль на основной капитал для того товара, который произведен с применением машин, прибыль же, которая выручается при продаже товаров, произведенных с применением почти исключительно оборотного капитала, уже вслед за самой продажей их расходуется на личные нужды... Или также «компенсация за больший промежуток времени, который должен пройти, прежде чем более дорогой из обоих товаров может быть доставлен на рынок» (стр. 29—30) [стр. 50—51]. (А именно: фабрикант, который, например, расходует 5000 ф. ст. на содержание труда и 5000 ф. ст. на машины [при прибыли, равной 10%], имеет [в конце первого года]
86
К. МАРКС
5 500 ф. ст. в виде стоимости своих товаров, а значит, за второй год он должен получить на 550 ф. ст. больше за счет прибыли на 5 500 ф. ст., вложенных в машины 11?. Прибыль на основной капитал опять присоединяется [к авансированному капиталу].) Если стоимость товаров определяется сравнительным количеством труда, затраченного на их производство, то, следовательно, друг на друга обмениваются такие товары, в которых заключено одинаковое рабочее время. Прибыль и заработная плата представляют собой лишь те доли, в которых [ VIII — 20] оба класса — капиталистов и рабочих — участвуют в разделе первоначально произведенного товара, а значит, также и товара, полученного в обмен на первый. Поэтому относительная стоимость товара не затрагивается соотношением между прибылью и заработной платой (стр. 21) [стр. 46]. Никакое изменение в заработной плате не может вызвать какого-либо изменения в относительной стоимости товара. Если заработная плата повышается, то отсюда не следует, что для изготовления товара требуется больше рабочего времени; зто означает только, что то же самое рабочее время оплачивается дороже. Если на атом основании один из капиталистов захотел бы повысить цену своего товара, то другой капиталист выступит с такими же притязаниями и относительное положение предпринимателей в различных отраслях промышленности останется тем же самым, как до, так и после повышения заработной платы. Заработная плата может повыситься на 20%, а прибыль — упасть на столько же, не вызывая ни малейшего изменения в относительной стоимости товаров (стр. 23) [стр. 47—48]. Таким образом, если повышается заработная плата, то прибыль падает. Но, как и прежде, товар, произведенный с применением главным образом оборотного капитала, будет продаваться по той же самой цене. Упадет лишь прибыль, например у фермера, который авансировал 5 000 ф. ст. Фабрикант тех товаров, для производства которых требуются «машины или дорогие здания или длительные промежутки времени, прежде чем они могут быть доставлены на рынок», начисляет, таким образом, меньшую прибыль на свой основной капитал, так как его норма прибыли падает также и в целом, и таким образом относительная стоимость его товаров падает по сравнению с товарами, произведенными с применением главным образом труда.
Здесь в различных отраслях производства предполагается одинаковая норма прибыли.
...Впрочем, эта причина действует лишь слабо, [понижая относи тельные цены товаров] самое большее на 6—7%, ибо «прибыли не выдер жали бы, вероятно, более значительного общего и постоянного понижения» (стр. 32-33) [стр. 52-53].
(Следует заметить, что Рикардо мог развить этот вопрос также иначе: предположим, что один товар производится с применением только оборотного, а другой — только основного капитала. Оба [фабриканта] применяют капитал в 5000 ф. ст. Если теперь заработная плата возрастает на 10% и если первый фабрикант расходовал 3000 ф. ст. на сырые материалы и т. д. и 2 000 ф. ст. на заработную плату, то выплачиваемая им заработная плата увеличивается до 2 200 ф. ст. Если раньше он продавал свой товар с прибылью в 10% за 5500 ф. ст., то теперь он продает его за 5 700 ф. ст. ш Его прибыль по-прежнему
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 87
остается равной 10%. Тогда [второй] фабрикант может продавать свой товар аа 5 500 ф. ст. Его прибыль остается точно так же равной 10%. Но стоимость его товара упала по сравнению с товаром первого фабриканта, хотя рабочее время, затраченное на производство обоих товаров, осталось тем же самым. Или же, если цена товара первого фабриканта остается той же самой, то второй фабрикант должен понизить цену своего товара. Это соотношение правильно в среднем. Но так как такое выравнивание не происходит немедленно, то со стороны капиталистов проявляется настойчивое стремление к введению машин.)
«Сколько-нибудь значительное изменение в постоянной норме прибыли является следствием причин, действие которых сказывается только через ряд лет, между тем как изменения в количестве труда, необходимом для производства товаров, совершаются повседневно... Поэтому все крупные изменения в относительной стоимости товаров» вызываются изменениями величины рабочего времени, требуемого для их производства (стр. 33—34) [стр. 53].
«Относительная стоимость ш товаров, на производство которых затрачено одинаковое количество труда, изменяется, если они не могут быть доставлены на рынок в одно и то же время...». Также и при большем основном капитале «более высокая стоимость 12° одного из товаров обусловлена большей продолжительностью времени, которое должно пройти, прежде чем он может быть доставлен на рынок... Различие в стоимости в обоих случаях проистекает из того, что прибыли накопляются как капитал, и является лишь справедливой компенсацией за то время, в течение которого прибыли не были реализованы» (стр. 34—35) [стр. 54].
Таким образом, повышение заработной платы вызывает падение цены тех товаров, которые произведены с применением главным образом основного капитала, и «тем большее падение, чем большую долю составляет основной капитал* (стр. 35) [стр. 54].
(Следует заметить, что это — чисто номинальное явление. Во-первых. Поскольку капитал, большая часть которого состоит из основного или более долговечного капитала или товары которого требуют более длительного времени для их доставки на рынок, продает свои товары дороже, то это происходит, как говорит сам Рикардо, лишь вследствие того, что прибыли накопляются как капитал. Это то же самое, как если бы при менялся больший капитал. Во-вторых. Повышение заработной платы оказывает обратное обесценивающее действие на основной капитал. Совершенный, мертвый труд определяется живым трудом, а значит, так же определяется и приносимая первым прибыль. Таким образом, здесь в цене проявляется то, чего в первом случае ш не видно. Фермер продает по той же самой цене, но норма его прибыли понизилась. Фабрикант продает по более низкой цене. Например, его основной капитал составляет 1 000 ф. ст. Этот капитал в соединении с трудом производит
88
К. МАРКС
товаров на 2 000 ф. ст. Если бы теперь на 10% повысилась заработная плата или упала прибыль, то фабриканту пришлось бы продавать свои товары по-прежнему за 2 000 ф.ст. 122; при этом мы принимаем, что на заработную плату [первоначально] расходуются 500 ф. ст., т. е. [норма прибыли составляет] 331/3%. Если теперь заработная плата повышается на 10%, то она повышается на 50 ф. ст., следовательно, до 550 ф. ст. Значит теперь [ VIII — 21] у капиталиста остается прибыль только в 450 ф. ст., так как, хотя он все еще продает свои товары за 2 000 ф. ст., оказывается, что на его долю приходятся только 1 450 ф. ст., а на долю труда — 550 ф. ст. Стало быть, теперь прибыль капиталиста составляет приблизительно только 30%, а его 1 000 ф. ст. возрастают уже не до 1 333, а всего лишь до 1 300 ф. ст. 123 Это обнаружилось бы, если бы фабрикант вовсе не применял оборотный капитал в форме непосредственного труда. Но теперь, раз уж здесь 1 000 ф. ст. были израсходованы на определенный труд, этот вычет из его прибыли выступает как вычет из цены товаров, так как по отношению к этому созданному капиталу, по отношению к совершенному труду такой вычет более не может, не изменяя стоимости товара, проявляться как повышение заработной платы и соответствующее этому падение прибыли. Таким образом, это явление представляет собой не что иное, как обратное действие определения стоимости на совершенный труд; это проявляется еще и иным образом.)
Только что предполагалось, что в двух отраслях производства соотношение между основным и оборотным капиталом неодинаково. Теперь предположим, что это соотношение одинаково в обеих отраслях, но долговечность основного капитала неодинакова. «Чем менее долговечен основной капитал, тем более он приближается по своему характеру к оборотному капиталу. Он будет потребляться, а его стоимость с целью сохранения капитала фабриканта будет воспроизводиться в более короткий срок... Если основной капитал недолговечен, то ежегодно требуется боль-. шое количество труда, для того чтобы сохранить первоначальный уровень его эффективности; но затраченный таким образом труд может считаться действительно затраченным на произведенный товар, на который должна поэтому переходить пропорциональная этому труду стоимость». — «Если для содержания моей машины в исправном состоянии мне требуется ежегодно 50 человек, то я должен требовать за свои товары добавочную цену, равную той, какую получил бы всякий другой фабрикант, который занимал бы 50 человек в производстве других товаров и вовсе не применял бы машин. Повышение заработной платы неодинаково отразится на товарах, производимых с помощью быстро изнашивающихся машин, и на товарах, производимых с помощью медленно изнашивающихся машин. В производстве первых на производимый товар постоянно переносится значительное количество труда, в производстве других таким путем переносится очень малое количество. Поэтому всякое повышение заработной платы, или, что одно и то же, всякое падение прибыли понизило бы относительную стой-
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 89
мость тех товаров, которые производятся с помощью долговечного капитала, и соответствующим образом повысило бы стоимость тех товаров, которые производятся с помощью быстрее изнашивающегося капитала. Падение заработной платы оказало бы диаметрально противоположное действие» (стр. 36—38) [стр. 55—56]. Поэтому старые страны постоянно вынуждены прибегать к применению машин, а новые страны применяют труд. С каждым новым затруднением в обеспечении людей средствами существования «[стоимость] труда с необходимостью повышается, а с каждым повышением цены труда налицо новое побуждение к применению машин. Эта трудность в обеспечении содержания людей постоянно существует в старых странах, в новых же может иметь место большой прирост населения без повышения заработной платы. Здесь бывает так же легко снабдить средствами существования седьмой, восьмой, девятый миллион людей, как и второй, третий, четвертый» (стр. 39, примечание) [стр. 57]. «Эти немые агенты», машины, «всегда являются продуктом гораздо меньшего труда, чем тот, который они замещают, даже если они имеют ту же денежную стоимость. Благодаря их влиянию повышение цен на продукты питания затрагивает меньшее число лиц; эта экономия сказывается в уменьшенной цене» машин 124 (стр. 40) [стр. 57]. «Таким образом, на ранних ступенях общественного развития, когда применяется мало машин или долговечного капитала, товары, производимые с помощью равных капиталов, имеют почти равные стоимости, которые повышаются или падают по отношению друг к другу в зависимости от того, больше или меньше труда затрачивается на их производство. Однако после введения этих дорогих орудий товары, произведенные с применением одинаковых капиталов, имеют весьма неодинаковые стоимости; и хотя по отношению друг к другу они по-прежнему продолжают [повышаться или] падать в зависимости от увеличения или уменьшения количества труда, необходимого для их производства, они подвержены еще и другим, меньшим изменениям вследствие повышения или падения прибыли и заработной платы» (стр. 40—41) [стр. 57—58]. Таким образом, повышение цены труда ведет к падению цены товаров, которые произведены главным образом с применением машин, а падение цены труда ведет к повышению цены этих товаров, но к падению цены тех товаров, которые произведены главным образом с применением труда (стр. 45) [стр. 60—61].
Цены ш двух товаров, из которых на производство одного употреблен труд в 1 000 ф. ст., а другого — в 2 000 ф. ст., соотносятся как 1 : 2. Но тем самым не сказано, что эти товары продаются соответственно за 1 000 и 2 000. Существо дела, соотношение остается тем же самым, если они продаются также за 1 100 и 2 200 или за 1 500 и 3 000 (стр. 46) [стр. 61]. [ VIII - 21] 12в
[ VIII — 29] «Судить о повышении или падении ренты, прибыли и заработной платы следует лишь в соответствии с разделением совокуп ного продукта какой-либо фермы между тремя классами, земельным собственником, капиталистом и наемным рабочим, а не в соответствии со стоимостью продукта, которая может оцениваться в некой изменчивой мере» (деньгах). Норма прибыли, ренты и заработной платы определяется не абсолютным количеством продукта, которое получает какой-либо из этих классов, а необходимым для производства этого продукта количеством труда. Благодаря усовершенствованиям в земледелии и промышленности этот совокупный продукт может удвоиться. Если при этом в равной мере, удваиваются рента, прибыль и заработная плата, то они не претерпят никакого изменения по отношению друг к другу. Но если одна из этих трех величин участвует в указанном увеличении не равномерно ш, [а в меньшей степени,] то она уменьшается, несмотря на абсолютное
90
К. МАРКС
увеличение своей количественной доли (стр. 48—49) [стр. 62—63]. Рассмат риваемые с точки зрения их нормы, рента, прибыль и заработная плата изменяются только в результате изменения их доли в совокупном продукте (стр. 52) [стр. 64].
II) О РЕНТЕ
Рикардо исследует ренту, чтобы выяснить, правильно ли мнение А. Смита о том, что
«обращение земли в собственность и созидание вследствие этого ренты вызывают некое изменение в относительной стоимости товаров, независимо от количества труда, необходимого для их производства» (стр. 53) [стр. 65].
«Рента — это та часть продукта земли, которая уплачивается земельному собственнику за пользование первоначальными и неразрушимыми силами почвы». Ренту следует отличать от процента и прибыли на капитал, которые выплачиваются земельному собственнику за пользование вложенным в землю капиталом (стр. 53—54) [стр. 65]. «При первом заселении страны, в которой имеется в изобилии богатая и плодородная земля, никакой ренты не платят... Точно так же, как и за воздух и воду... Если бы вся земля имела одинаковые свойства, если бы она имелась в неограниченном количестве и была однородна по качеству, то за пользование ею ничего не платили бы, за исключением тех случаев, когда она отличается особенно выгодным местоположением. Рента платится за поль зование землей только потому, что по мере роста населения в обработку вовлекается земля худшего качества или расположенная менее удобно... Каждый новый прирост населения, который заставляет страну прибегать к земле худшего качества, повышает ренту с более плодородной земли»... Первоначально «весь чистый продукт принадлежит земледельцу и составляет прибыль на вложенный им капитал»... Такой же случай имеет место, когда на одной и той же земле применяется равная [первоначальной] дополнительная доля капитала, приносящая меньший продукт... «Рента всегда является разницей в продукте, полученном в результате применения двух одинаковых количеств капитала и труда... Причина: не может быть двух различных норм прибыли». Если первая доля капитала в 1 000 ф. ст. приносит арендатору 100 квартеров пшеницы, а вторая доля в 1 000 ф. ст. — только 85, то собственник земли по истечении срока аренды потребует 15 квартеров ренты. Арендатор не стал бы применять 1 000 ф. ст., приносящие 85 квартеров, если бы смог найти им более при быльное применение. «В указанной пропорции заключалась бы общая норма прибыли, и если бы первый арендатор отказался, то нашелся бы кто-нибудь другой, согласный отдать собственнику земли весь излишек прибыли сверх этой нормы... В обоих случаях» (применение одинаковых капиталов на неодинаково плодородных землях или применение двух одинаковых капиталов на одной и той же земле, приносящее неодинаковый продукт) «примененный последним капитал не платит никакой ренты... Рента неизменно проистекает из того, что применение дополнительного количества труда приносит соответственно меньший доход»... Когда в обработку вовлекается земля худшего качества, меновая стоимость (цена) ее продукта повышается, потому что на его производство требуется больше труда. «Меновая стоимость всех товаров — промышленных изделий и продуктов рудников или земли — никогда не регулируется наименьшим количеством труда, достаточным для их производства при
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 91
особо благоприятных условиях, составляющих исключительный удел тех, кто пользуется особенными возможностями для производства. Напротив, она регулируется наибольшим количеством труда, по необходимости затрачиваемым на производство товаров теми, кто не пользуется такими условиями; теми, кто продолжает производить эти товары при самых неблагоприятных условиях; под самыми неблагоприятными условиями понимаются такие, при которых необходимо вести производство, для того чтобы было создано требуемое количество продукта... На самой лучшей земле тот же продукт, как и раньше, получается при прежней затрате труда, но его стоимость повышается, так как те, кто применяет новый труд и капитал на менее плодородной земле, получают меньше продукта... Преимущества плодородной земли перед неплодородной не утрачиваются, а переходят от земледельца, или потребителя, к собственнику земли. Но так как для обработки худшей земли требуется больше труда и так как только с этой земли мы можем получить необходимое добавочное количество сырого продукта, то [ VIII — 30] сравнительная стоимость этого продукта остается постоянно выше ее прежнего уровня... Таким образом, причиной повышения [стоимости] продукта является не рента, уплачиваемая собственнику земли, а возросшее количество труда, затраченного на производство последней полученной доли продукта. Цена 128 хлеба регулируется количеством труда, затраченным на производство его на той земле, которая не платит никакой ренты. Хлеб дорог не потому, что платится рента, а рента платится потому, что хлеб дорог... Тот избыток, который земля приносит в форме ренты», представляет собой не преимущество, а недостаток земли, ее убывающую силу... Земля отличается только ограниченностью своей [производительной] силы... вновь созданные машины не являются менее производительными, чем старые; в противном случае последние приносили бы ренту... «В сельском хозяйстве труд природы оплачивается не потому, что она делает много, а потому, что она делает мало»... Человек вынужден трудиться больше в поте лица своего, а природа — меньше... «По мере того как природа становится скупее на свои дары, она требует большую цену за свою работу. Там же, где она щедро расточает свои дары, она работает даром»... В противоположность мнению А. Смита природа очень много делает для человека «в промышленности. Силы ветра и воды приводят в движение наши машины и содействуют судоходству. Давление атмосферы и упругость пара, позволяющие нам пускать в ход самые изумительные двигатели, являются дарами природы, не говоря уже о действии тепла при размягчении и плавлении металлов, о разлагающем действии атмосферы в процессах крашения и брожения. В любой отрасли промышленности природа оказывает человеку помощь, и притом даровую... Рост ренты является результатом возрастающего богатства страны и трудности снабжения продуктами питания ее населения. Это — симптом, но отнюдь не причина богатства». Богатство может возрастать быстро, а 1М «рента остается неизменной или падает. Рента растет всего быстрее, когда уменьшаются производительные силы имеющейся в распоряжении земли. Богатство всего быстрее возрастает в тех странах, где имеющаяся в распоряжении земля всего плодороднее, ввоз наименее ограничен, и где благодаря усовершенствованиям в земледелии количество продуктов может быть увеличено без соответственного увеличения количества труда, и где поэтому рента растет медленно... Рента, следовательно, не образует составной части цены»... Все, что «делает последнюю долю капитала» и труда lso «более производительной, уменьшает ренту*... Так действует уменьшение капитала в какой-либо стране, потому что за ним последовало бы уменьшение населения, а значит, и спроса на хлеб, в результате чего
92
К. МАРКС
произошло бы падение цены и сокращение обрабатываемой земли... «Так же действует возрастание капитала и населения, если оно сопровождается такими усовершенствованиями в земледелии», которые уменьшают необходимость возделывать более бедные земли или избавляют от необходимости затрачивать то же самое количество капитала на возделывание более богатой земли... Во всяком случае по истечении некоторого периода падение цены сырого продукта [привело бы к] росту прибылей и накопления, а значит — к увеличению занятости рабочих, росту населения, повышению спроса на хлеб и в конечном счете снова к повышению ренты до ее прежнего уровня или над ним 181.., «Усовершенствования в земледелии бывают двух родов: одни увеличивают производительные силы земли, другие позволяют нам йутем усовершенствования машин получать» тот же самый ш «продукт с помощью меньшего количества труда»... К усовершенствованиям первого рода «относятся, например, более рациональный севооборот или лучший выбор удобрений. Эти усовершенствования позволяют нам получать тот же самый продукт с меньшей площади земли... Но для того чтобы уменьшить ренту, нет необходимости выводить землю из обработки. Для этого достаточно, чтобы последовательные доли капитала прилагались к одной и той же земле с различными результатами и чтобы обратно была извлечена та доля, которая дает наименьший результат... Усовершенствования в земледелии позволяют возделывать более бедную землю с меньшими издержками 133>>... Усовершенствования второго рода «направлены скорее на формирование прилагаемого к земле капитала, чем на обработку самой земли... К земле [благодаря им] прилагается меньше капитала, иными словами, меньше труда, но для получения того же продукта нужно возделывать землю той же площади... Эти усовершенствования могут понизить» меновую 134 «стоимость продукта, не уменьшая хлебной ренты, хотя они и уменьшают денежную ренту». Уменьшают ли они «хлебную ренту, зависит от того, возрастает, остается без изменения или же уменьшается разница в продукте, получаемом от применения различных долей капитала... Если усовершенствования позволяют целиком сберечь ту долю капитала, которая прилагается наименее производительно, то хлебная рента тотчас же упала бы, потому что уменьшилась бы разница между наиболее производительным и наименее производительным капиталом, а эта разница образует ренту»... Таким образом, «все, что уменьшает разницу в продукте, [ VIII — 31] получаемом от последовательных долей капитала, прилагаемых к одной и той же или к новой земле, имеет тенденцию понижать ренту, а все, что увеличивает эту разницу, с необходимостью производит противоположное действие и имеет тенденцию повышать ренту... Земельный собственник получает двойную выгоду благодаря трудности производства. Во-первых, он получает более значительную долю, а, во-вторых, товар, которым она ему уплачивается, имеет более значительную стоимость» (стр. 55—74) [стр. 65—77]. Рента с рудников регулируется теми же факторами, что и рента с земли (стр. 76—79) [стр. 78—80]. «Рента всегда падает на потребителя и никогда не падает на арендатора» (стр. ИЗ) [стр. 101]. «Налог на ренту всецело падает на ренту, на собственника земли и не может быть переложен на какой-нибудь класс потребителей... Налог на ренту не уменьшает стимула к обработке новой земли, потому что такая земля не платит ренты, а значит, не облагается этим налогом... Он уменьшил бы стимул к обработке земли, так как был бы одновременно налогом на прибыль земельного собственника... Этот налог, поскольку он падает на вознаграждение, которое собственник земли получает за пользование его капиталом, затраченным на ферму, падает в прогрессирующей стране на потребителя сырого продукта»... Капитал, затраченный
О КНИГЕ Д . РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 93
на строения и прочие сооружения и т. д., должен давать обычную прибыль на капитал; но он перестал бы давать эту прибыль, если бы этот налог 136 не падал на арендатора, а тогда этот последний в свою очередь не получал бы обычной прибыли на свой капитал, если бы не мог переложить налог на потребителя (стр. 191—194) [стр. 146—147]. «Десятина есть налог на валовой продукт земли. Она падает на землю, не затрагиваемую налогом на ренту, и повышает цену сырого продукта, которую не может изменить налог на ренту. Десятиной облагается вся земля пропорционально количеству производимого ею продукта. Следовательно, десятина является равномерным налогом»... При стационарном состоянии общества, когда цена хлеба не изменяется, этот налог также не изменяется. В этом случае он подобен налогу на сырой продукт. При регрессирующем состоянии общества или при прогрессирующем состоянии, когда в земледелии происходят улучшения, денежная стоимость десятины уменьшается. При прогрессирующем состоянии общества без значительных улучшений [в земледелии], когда цена хлеба повышается, десятина становится тяжелым налогом по своей денежной стоимости... «Налог, который растет вместе с валовым доходом, но падает на чистый доход, является невыносимым. Десятина составляет Vio от валового, а не от чистого продукта земли. Следовательно, по мере прогрессирующего развития богатства общества, десятина, хотя она находится в той же самой пропорции к валовому продукту, должна составлять все большую и большую долю чистого продукта» (стр. 195—198) [стр. 148—150]. «Земельный налог. Если он взимается пропорционально земельной ренте и изменяется с каждым изменением ренты, то является не чем иным, как налогом на земельную ренту... В таком случае он не затрагивает цену сырого продукта, а целиком падает на земельного собственника... Но если земельным налогом облагается вся возделываемая земля, то он оказывается налогом на продукт и потому повышает цену» хлеба... Земля, последней вступающая в обработку, не принесет арендатору обычной прибыли без повышения цены продукта... «Налог не может падать на земельного собственника, потому что в предположенном случае тот не получает никакой ренты. Такой налог может соразмеряться с качеством земли и с изобилием ее продукта, и тогда он не отличается от десятины, или он может быть твердым налогом с акра на всю обрабатываемую землю, каково бы ни было ее качество»... Тогда этот налог «повышает цену хлеба пропорционально налогу, который уплачивает тот, кто возделывает землю самого худшего качества... Следовательно, потребитель хлеба обкладывается налогом, для того чтобы не только удовлетворять требования государства, но и платить арендатору лучшей земли, например, 100 ф. ст. в год» (если самая худшая земля приносит 1 000 квартеров, то налог в 100 ф. ст. приведет к повышению цены хлеба на 2 шилл. за квартер. Равновеликий капитал на лучшей земле производит 2 000 квартеров, следовательно, это повышает [цену] его продукта на 200 ф. ст., хотя он платит, как и первый капитал, только 100 ф. ст. [налога]) «в течение срока его аренды, а затем повысить на эту сумму ренту, выплачиваемую земельному собственнику». Таким путем «из карманов народа берется больше, чем поступает в казну государства. Такого рода налогом была талия во Франции до революции»... Этот налог взимается с каждого акра земли не пропорционально его действительному продукту, а пропорционально продукту с акра наименее производительной земли (стр. 201—204) [стр. 152-153].
К. МАРКС
НАЛОГИ НА СЫРОЙ ПРОДУКТ
Налог на сырой продукт увеличивает издержки производства на той земле, которая не приносит никакой ренты, следовательно, повышает цену этого продукта... Таким образом, он падает во всем своем объеме на потребителя... «В той пропорции, в какой сырой продукт входит в состав других товаров, повышается также и их стоимость... Налог на сырой продукт приводит к повышению заработной платы, а пропорционально ее повышению происходит падение прибыли»... Вследствие этого налог затрагивает прибыль, но не затрагивает ренту и дивиденды на капитал... «Товары, в состав которых не входит сырой продукт, такие, как металлические и гончарные изделия, падают в цене»... Так как вообще сырой продукт входит в состав различных товаров в весьма различных пропорциях, «налог на сырой продукт действует на стоимость товаров самым различным образом. Поскольку это действие оказывается, оно усиливает или задерживает вывоз отдельных товаров и, как и всякое налогообложение, несет с собой те же неудобства: оно нарушает есте ственное соотношение между стоимостями товаров. А это мешает наилучшему распределению капитала всего мира» (стр. 169—190) [стр. 133—145].
[VIII — 32] «Премии за вывоз хлеба понижают его цену для иностранного потребителя, но не оказывают постоянного действия на цену хлеба на внутреннем рынке»... Они позволяют фермерам продавать «хлеб за границей ниже издержек производства [в этих странах]. Поэтому за границей возрастает спрос на британский хлеб, а спрос на собственный хлеб падает. Этот возросший спрос на британский хлеб временно повышает его цену на внутреннем рынке, а также препятствует в течение этого времени падению его цены на внешнем рынке до того уровня, к какому стремится его свести вывозная премия»... Следовательно, прибыли фермеров поднялись бы выше среднего уровня... Таким образом, «премия действует как поощрение земледелия, и капитал извлекается из обрабатывающей промышленности для того, чтобы быть вложенным в земледелие; это происходит до тех пор, пока не оказывается удовлетворенным увеличившийся спрос со стороны внешнего рынка», в результате чего цена и прибыль на внутреннем рынке опять понижаются. «Возросшее предложение зерна, оказывая свое действие на внешний рынок, понизит также цену зерна в той стране, в которую оно вывозится, и ограничит, следовательно, прибыли экспортера самой низкой нормой, при которой он только согласится продолжать торговлю»... В конечном счете цена хлеба для иностранцев понижается на всю сумму премии, «если она прежде не была ниже на внешнем рынке, чем на внутреннем, и понижается в меньшей степени, если цена хлеба на внутреннем рынке была выше его цены на внешнем рынке» (стр. 354—356) [стр. 248—249]. «При постоянной премии за вывоз хлеба создавалась бы тенденция к постоянному повышению его цены», а значит, к повышению ренты, поскольку в обработку вовлекалась бы худшая земля (стр. 368—369) [стр. 257]. Ни фермеры, ни фабриканты, «хотя они и заинтересованы в том, чтобы рыночная цена их продукта была выше естественной», не заинтересованы в повышении естественной цены своих товаров. В этом заинтересован земельный собственник, потому что таким путем создается рента... «Премии за вывоз и запрещение ввоза хлеба увеличивают спрос и заставляют нас переходить к обработке более бедных земель, что неминуемо влечет за собой возрастание трудности производства» (стр. 370) [стр. 258].
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 95
РЕНТА (ПРОТИВ УЧЕНИЯ А. СМИТА О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЕ)
По отношению к рудникам А. Смит признает, что получение с них ренты зависит от их относительной продуктивности и от их местополо жения (стр. 391 и след.) [стр. 270—271]. Тем не менее он считает, что наиболее богатая, а не наименее богатая — угольная шахта, например, — регулирует цену продукта всех шахт.
Рикардо замечает по этому поводу:
«Если старые шахты не могут доставить требуемого количества угля, то его цена повысится и будет продолжать повышаться до тех пор, пока собственник новой и более бедной шахты не найдет, что, разрабатывая ее, он сможет получить обычную прибыль на капитал. Если его шахта принадлежит к числу умеренно продуктивных, то указанное повышение не будет особенно значительным, прежде чем он нашел выгодным затратить свой капитал на ее разработку. Но если шахта не принадлежит к числу умеренно продуктивных, то, очевидно, цена должна повышаться до тех пор, пока она даст ему возможность покрыть свои расходы» (стр. 393) [стр. 271].
Таким образом, здесь Рикардо признает, что сперва повышается цена, а затем менее плодородная земля вовлекается в обработку и что вовлечение этой земли в обработку зависит от повышения цены. Следовательно, не увеличение издержек производства, которое вызывает повышение цены [продукта] также и на более плодородной земле, а повышение цены [про дукта] на плодородной земле делает возможной обработку земли при увеличении издержек производства. Следовательно, повышение рыночной цены над реальной ценой является здесь предшествующим, а когда окажется, что разница между ними достаточно велика и является следствием постоянного спроса, [возросшая] рыночная цена прочно устанавливается благодаря обработке худшей земли. Рикардо признает также, что теперь вопрос состоит еще и в том, действительно ли необходимо прибегнуть к обработке худшей земли и не упадут ли цены хлеба снова на их прежний уровень:
«Именно таким образом происходит всегда расширение земледелия и удовлетворяются возросшие нужды рынка. Возрастает фонд на содержа ние труда и поднимается заработная плата. Благоприятное положение рабочих стимулирует браки, население увеличивается, и спрос на хлеб поднимает его цену в сравнении с другими товарами. Растет капитал, выгодно применяемый в земледелии; он продолжает приливать сюда до тех пор, пока предложение не сравняется со спросом, тогда цены опять понижаются, и прибыль в земледелии сравнивается с прибылью в промышленности» (стр. 361) [стр. 252].
Таким образом, Рикардо полагает, что всякий избыток рыночной цены продуктов земледелия над их реальной ценой достается фермеру в качестве прибыли только до тех пор, пока
96
К. МАРКС
этот избыток возникает из увеличившегося спроса, а не из увеличившейся трудности в обработке земли. Однако все это весьма сомнительно.
[ VIII — 33] «Если бы картофель стал таким же обычным и всеобщим продуктом питания народа, каким является рис в некоторых странах, то, так как [согласно А. Смиту] один акр земли под картофелем дает втрое больше продуктов питания, чем один акр под пшеницей, 1 /i или V2 находящейся в обработке земли была бы тотчас же заброшена, ибо население не могло бы в течение обозримого промежутка времени возрастать так сильно, чтобы потребить все то количество картофеля, которое могло бы быть получено с земель, прежде засевавшихся пшеницей. Поэтому рента упала бы, и лишь после того как население удвоилось или утроилось, можно было бы снова обрабатывать такое же количество земли и выплачивать прежнюю ренту» (стр. 395) [стр. 272—273]. «В первую очередь всеми выгодами такого увеличения производства воспользовались бы рабочие, капиталисты и потребители, но с возрастанием населения эти выгоды были бы постепенно перенесены на собственников земли. Независимо от этих усовершенствованийш, в которых общество заинтересовано непосредственно, а земельный собственник — в перспективе на будущее, интерес собственника земли всегда противоположен интересу потребителя и фабриканта» (стр. 399) [стр. 275]. «Сделки между земельным собственником и потребителями не имеют никакого сходства с торговыми сделками, в которых, так сказать, одинаково выгадывает как продавец, так и покупатель; напротив, в первых весь убыток падает на одну сторону, а вся выгода достается другой стороне» (стр. 400) [стр. 275].
РЕНТА (ПРОТИВ ВЗГЛЯДОВ МАЛЬТУСА НА РЕНТУ)
«Рента является созданием стоимости, но не является созданием богатства... Эта стоимость является чисто номинальной, так как она ничего не прибавляет к предметам необходимости, удобства и удовольствия, принадлежащих обществу»... Один миллион квартеров хлеба, который стоил 4 миллиона ф. ст., теперь стоит 5, потому что цена одного квартера стала 5 ф. ст. вместо 4. «Результатом этого является перенесение части стоимости хлеба и [других] товаров от их прежних владельцев к собственникам земли... Рента ничего не прибавляет к ресурсам страны... Она является всего лишь перенесением стоимости, выгодным только для земельного собственника и соответственно убыточным для потребителя» (стр. 485-486) [стр. 329-330].
«Под высокой ценой хлеба» следует подразумевать «не цену за квартер или. бушель, а избыток цены, по которой продается весь продукт, над издержками его»производства... 150 квартеров хлеба по 3 ф. ст. 10 шилл. за квартер дают более значительную ренту, чем 100 квартеров по 4 ф. ст. при условии, что издержки производства остаются теми же самыми» (стр. 487) [стр. 330]. «Рента пропорциональна не абсолютному плодородию обрабатываемой земли, а ее относительному плодородию» (стр. 490) [стр. 332]. «Возросшее плодородие земли делает ее» лишь «способной в будущем платить более высокую ренту... Действительная рента может быть ниже на чрезвычайно плодородной земле, чем на такой земле, которая приносит лишь умеренный доход... Рента пропорциональна стоимости продукта, а не его изобилию» (стр. 491) [стр. 333]. «Каковы бы ни были свойства земли, высокая рента должна зависеть от высокой цены продукта; но если высокая цена дана, то высота ренты должна быть пропорциональна изо-
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 97
билию, а не редкости продукта» (стр. 492) [стр. 334]. «Мальтус полагает, «что продукты питания сами создают для себя спрос», что обеспечение населения продуктами питания стимулирует браки, вместо того чтобы принять во внимание то, что общее возрастание населения вызывается ростом капитала, последующим спросом на труд и повышением заработной платы и что производство продуктов питания является только результатом этого спроса» (стр. 493) [стр. 334]. Мальтус полагает: «Если бы жизненные средства, наиболее важные продукты земли не имели свойства создавать увеличение спроса, пропорциональное их возросшему количеству, то это возросшее количество вызвало бы падение их меновой стоимости».
Рикардо делает в связи с этим справедливое замечание:
«О паком возросшем количестве говорит г-н Мальтус? Кто производит его? У кого может явиться побуждение производить его прежде, чем на это добавочное количество имеется спрос?» (стр. 495) [стр. 335]. «Усовершенствования в земледелии и в разделении труда являются общими для всей земли; они увеличивают абсолютное количество сырого продукта, получаемого с каждого участка, но, по всей вероятности, не нарушают сколько-нибудь значительно соотношение, прежде существо вавшее между ними» (стр. 501—502) [стр. 339—340] 137. «На количество производимого хлеба оказывает влияние не та цена, по которой он может быть произведен, а та, по которой он может быть продан. Капитал привлекается к земле или отвлекается от нее сообразно тому, насколько цена хлеба ниже или выше издержек производства. Если этот избыток таков, что примененный в земледелии капитал приносит более высокую прибыль, чем обычная, то капитал будет привлекаться к земле», и наоборот (стр. 505) [стр. 342]. «Не подлежит никакому сомнению, что держатель государственных бумаг также выигрывает при большом падении стоимости хлеба» (стр. 516) [стр. 349].
ВЛИЯНИЕ ВВОЗА ХЛЕБА НА ЗЕМЕЛЬНУЮ РЕНТУ И ПРИБЫЛЬ ФЕРМЕРА
[ VIII — 34] «Так как'рента есть следствие высокой цены хлеба, то потеря ренты есть следствие низкой цены его. Иностранный хлеб никогда не вступает в конкуренцию с хлебом внутреннего производства, приносящим ренту. Падение цены неизменно приносит земельному собственнику убыток, пока, наконец, не поглощает всю его ренту. Если цена упадет еще ниже, то она не доставит даже обычной прибыли на капитал. Последний оставит тогда землю ради какого-нибудь другого занятия, а хлеб, который прежде производился на этой земле, будет заменен привозным хлебом только тогда, но не раньше» (стр. 519) [стр. 351].
ВЛИЯНИЕ СВОБОДНОГО ВВОЗА ХЛЕБА НА ПРИБЫЛИ И КАПИТАЛ ФЕРМЕРА
«При всяком возрастании количества предлагаемого хлеба и падении вследствие этого его цены капитал извлекается из более бедной земли, и новой мерой, регулирующей естественную цену хлеба, стала бы более плодородная земля, которая теперь больше не платит ренту... Однако говорят, что капитал не может быть извлечен из земли, так как он затрачивается в таких формах (удобрение, дренаж, огораживание и т. д.),
98
К. МАРКС
в которых он не может быть извлечен. Отчасти это верно; но капитал, который воплощается в рогатом скоте, овцах, в амбарах для хлеба и сена, телегах и т. д., может быть извлечен», продан и перенесен в какую-либо другую отрасль... Но если ни одна часть капитала не может быть извлечена из земли, то фермер продолжает производить хлеб, и притом в как можно большем количестве 138, какова бы пи была цена, по которой он может продать его... Иначе «он не получит вовсе никакого дохода со своего капитала. Хлеб нельзя было бы ввозить» (?)... Эта низкая цена хлеба затронула бы только обычную прибыль на капитал, который не приносит ренты, «а рента с лучшей земли упала бы; упала бы также заработная плата, а прибыль бы возросла»... Эта выгода от относительно низкой цены хлеба всегда такова, что «больше достается на долю производительного класса в форме прибыли и меньше — на долю непроизводительного класса под названием ренты... Но если значительная часть капитала может быть извлечена из земли, то она будет извлечена только в том случае, если она принесет больший доход» в другой отрасли производства... Собственник капитала бросает ту часть капитала, которая срослась с землей, потому что с оставшейся частью он может получить большую прибыль, чем если бы он не проделал это. Здесь дело обстоит так же, как с дорогими машинами, которые впоследствии вытесняются машинами, улучшенными в результате изобретений, так что производимые ими товары сильно понижаются в цене. Фабриканту следует в этом случае решить, должен ли он отказаться от старых машин и ввести улучшенные, теряя всю стоимость старых, или же продолжать производство со старыми машинами. «Кто при таких обстоятельствах стал бы увещевать его отказаться от применения лучших машин, потому что оно ведет к уменьшению или уничтожению стоимости старых? Именно таковы доводы тех, кто хотел бы запретить ввоз хлеба, так как он ведет к уменьшению или уничтожению той части капитала фермера, которая навсегда срослась с землей» (стр. 314—318) [стр. 222—224].
ВТОРАЯ ЧАСТЬ РЕНТЫ, НЕ ПРОИСТЕКАЮЩАЯ ИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ
Выше мы отметили «различие между собственно рентой и тем вознаграждением, которое под названием ренты уплачивается собственнику земли за те выгоды, которые затрата его капитала доставила его арендатору». Между тем это различие не есть нечто постоянное. «Так как часть этого капитала, однажды затраченная на улучшение фермы, неразрывно срослась с землей и направлена на увеличение производительных сил последней, то вознаграждение, уплачиваемое земельному собственнику, в точности соответствует природе ренты и подчиняется всем законам ренты. Сделаны ли эти улучшения за счет собственника земли или арендатора, они прежде всего были бы введены только в том случае, если бы существовала большая вероятность, что доход» окажется на среднем уровне прибыли на капитал. «Но раз это улучшение сделано, то полученный доход будет всецело соответствовать природе ренты и подвергаться всем изменениям, свойственным ренте. Некоторые из этих затрат улучшают землю только на определенный период и увеличивают ее производительные силы не навсегда. Так, если они израсходованы на здания и другие улучшения преходящего характера, они должны постоянно возобновляться и поэтому не доставляют земельному собственнику какой-либо постоянной прибавки к его действительной ренте» (стр. 306, примечание) [стр. 216—217],
О КНИГЕ Д . РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 99
Рикардо здесь признает, что естественное плодородие лишь временно можно отделить от искусственно созданного. Однако следует заметить, что некоторая часть улучшений земли служит приобретением для целой эпохи и никому не оплачивается. Например, никому не оплачивают разницу между участком земли, обработанным современными средствами, и участком земли VIII века. Даже необработанная земля причастна к этому приобретению, ибо она причастна к современным средствам, которые десятикратно облегчают обработку земли, освоение целины. Это научное приобретение сделалось всеобщей мерой.
«Какая бы часть капитала ни была закреплена в земле, по истечении срока аренды она должна принадлежать собственнику земли, а не аренда тору. Какое бы вознаграждение ни получал земельный собственник за этот капитал, вновь сдавая эту землю в аренду, оно выступает в форме ренты; но никто не платил бы ренты, если бы с помощью данного капи тала можно было бы получить из-за границы больше хлеба, чем вырастить на этой земле внутри страны... Это не представляет никакой невыгоды, как бы ни был велик затраченный на этой земле капитал. Этот [ VIII — 35] капитал был затрачен только для того, чтобы увеличить количество продукта: такова была цель. И разве для общества не все равно, если половина его капитала понизилась в стоимости или даже уничтожена совсем, раз оно может получить большее количество годового продукта? Те, кто в этом случае оплакивает потерю капитала, приносят цель в жертву средству» (стр. 315, примечание) [стр. 223].
111)0 ЕСТЕСТВЕННОЙ И РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
Соответствующее количество товаров, которое определяется рабочим временем, необходимым для их производства, и которое дается в обмен за какой-нибудь товар, составляет естественную цену последнего. Наряду С нею существует рыночная цена. Случайные и временные отклонения рыноч ной цен» от естественной. Предложение не соответствует в точности потребностям и желаниям человечества... «Как раз вследствие этих изменений капитал точно распределяется на производство различных то варов. С повышением и падением цен прибыли поднимаются выше или [падают] ниже своего общего уровня, и поощряется прилив или отлив капитала в отдельных отраслях промышленности... Это неугомонное стремление всех капиталистов оставлять менее прибыльное дело ради более прибыльного создает сильную тенденцию приводить прибыль всех к одинаковой норме или устанавливать между ними такую пропорцию, которая по расчету заинтересованных сторон уравновешивает действительные или кажущиеся преимущества одних перед другими. Это изменение про исходит не посредством полной перемены фабрикантом своего дела, а лишь посредством уменьшения им того количества капитала, которое он при меняет в своем деле. Во всех богатых странах имеется так называемый денежный класс, который не занят ни в какой отрасли производства, а живет на проценты со своего капитала, употребляя его на учет векселей или на предоставление ссуд более предприимчивой части общества.
100
К. МАРКС
Банкиры также употребляют большой капитал на подобного рода операции. Употребляемый таким образом капитал составляет обращающийся капитал значительного размера, и им пользуются в большей или меньшей пропорции все различные отрасли производства в стране. Нет, пожалуй, такого фабриканта, который, как бы богат он ни был, ограничивал бы свое дело теми размерами, какие допускают его собственные средства. У него всегда находится некоторая доля этого текучего капитала, которая возрастает или уменьшается в соответствии с интенсивностью спроса на его товары. Если увеличивается спрос на шелк и уменьшается спрос на сукно, то суконщик не переводит свой капитал в шелковую промышленность, а рассчитывает часть своих рабочих и сокращает спрос на займы у банкиров и денежных людей. Фабрикант шелка, наоборот, занимает больше, и таким образом капитал переносится из одной отрасли в другую без необходимости для фабриканта прекращать свое обычное дело»... Этим обеспечивается пропорциональное снабжение товарами больших городов... Фиксируются различия в норме прибыли для компенсации действительных или воображаемых преимуществ, таких, например, как надежность, легкость, опрятность и т. д. ... Теперь, поело окончания великой войны 13в, «столь сильно нарушившего 14° существовавшее прежде в Европе разделение сфер предпринимательской деятельности, каждый капиталист все еще не нашел своего места при новом разделении, которое стало необходимым теперь... Именно эта конкуренция» (между капиталистами) «так устанавливает меновую стоимость товаров, что после выдачи заработной платы за необходимый для их производства труд и покрытия всех прочих расходов, требующихся для того, чтобы вернуть применяемый капитал на первоначальный уровень производительности, остаток стоимости, или избыток ее, будет в каждой отрасли пропорционален стоимости применяемого капитала» (стр. 80—84) [стр. 81—83].
Если перемена моды (и т. д. и т. п.) увеличит спрос на один товар и уменьшит его на другой, причем сравнительное количество рабочего времени, необходимое для производства этих товаров, не изменится, то рыночная цена одного товара возрастает, а другого падает; прибыли в одной отрасли поднимаются выше общего уровня, а в другой падают ниже этого уровня. То же самое происходит с заработной платой в этих двух различных отраслях... Затем опять наступит выравнивание (стр. 83— 84) [стр. 83].
«После того как я только что признал», говорит Рикардо, «те временные влияния, которые случайные причины могут оказывать на цены товаров, а также на заработную плату и прибыль на капитал в различных сферах его применения и которые не затрагивают общего уровня цены товаров, заработной платы или прибыли, так как эти влияния одинаково действуют на всех стадиях развития общества, мы теперь намерены совершенно не принимать их во внимание, трактуя о законах, управляющих естественными ценами, естественной заработной платой и естественной прибылью — явлениями, совершенно не зависящими от этих случайных причин» (стр. 85) [стр. 84].
Рикардо абстрагируется от того, что он рассматривает как случайное. Иное дело — изображать действительный процесс, в котором как то, что он называет случайным движением, но что. есть устойчивое и действительное, так и его закон, среднее отношение — оба являются одинаково существенными.
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 101
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ (ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦЕНОЙ) И БОГАТСТВОМ
«Стоимость и богатство существенно различаются. Богатство зависит от изобилия, а стоимость — от легкости или трудности производства. Труд одного миллиона человек на фабриках всегда произведет одну и ту же стоимость, но он не произведет всегда одно и то же богатство».
(Но как же растет стоимость? Если отвлечься от ренты, то очевидно: когда вместо одного работают два миллиона человек. Следовательно, в результате роста населения, в результате умножения той же самой производительной деятельности. Для этого не нужно, чтобы продукт стоил большего количества труда, чем прежде. Для этого требуются только: рост населения. Рост капитала, который дает занятие населению. Увеличение числа отраслей труда.)
...«Человек богат или беден в зависимости от изобилия предметов необходимости и роскоши, находящихся в его распоряжении. И как бы ни была высока или низка их меновая стоимость по отношению к деньгам, хлебу или труду, все они в одинаковой мере удовлетворяют потребности их владельца. Вследствие смешения понятий стоимости и богатства пришли к утверждению, что богатство может быть увеличено путем уменьшения количества товаров... Индивид, который, вследствие того, что он владеет редким товаром, может распоряжаться большим количеством предметов необходимости» и т. д., является более богатым, но только благодаря соответствующему уменьшению долей других индивидов... Если благодаря некоему изобретению можно, применяя то же самое количество капитала и труда, удвоить производство всех товаров в стране, включая золото, то богатство удваивается, но стоимость остается той же самой... «Таким образом, богатство страны может [ VIII — 36] быть увеличено двояким путем: путем употребления более значительной части дохода на содержание производительного труда, — а это увеличит не только количество, но и стоимость всей массы товаров; или же оно может быть увеличено без затраты дополнительного количества труда, путем увеличения производительности того же самого количества труда, — а это увеличит только изобилие, но не стоимость товаров... Если мельницу приводят в движение 10 человек и будет открыто, что с помощью воздуха или воды можно сберечь труд этих 10 человек, то стоимость муки, которая частично является продуктом работы мельницы, немедленно упадет в соответствии с количеством сбереженного труда. Общество же стало бы богаче на то количество товаров, которое мог бы произвести труд 10 человек; фонд, предназначенный на их содержание, нисколько не уменьшится... Сэй необоснованно упрекает А. Смита в том, что последний не заметил той стоимости, которая придается товарам природными факторами и машинами, так как стоимость всех вещей он выводит из человеческого труда... А. Смит не недооценивает этих услуг, но он обоснованно отмечает, что хотя они увеличивают потребительную стоимость — тем, что увеличивают изобилие продуктов и делают человека богаче, — но ничего не прибавляют к меновой стоимости, так как за пользование воздухом, теплотой и водой ничего не платят, потому что они выполняют свою работу даром» (стр. 320— 337) [стр. 226-236].
102
К. МАРКС
(Проводя различие между стоимостью и богатством только в понятии, Рикардо не устраняет затруднения. Буржуазное богатство и цель всего буржуазного производства есть меновая стоимость, а не удовлетворение потребностей. Чтобы увеличить эту меновую стоимость, нет иного средства — если отвлечься от взаимных надувательств, — кроме одного: умножать количество продуктов, производить больше. Чтобы достигнуть такого увеличения производства, необходимо увеличивать про изводительные силы. Но в той же самой пропорции, в какой возрастает производительная сила данного количества труда — данной суммы капитала и труда, — падает меновая стоимость продуктов, и удвоенное количество продуктов имеет ту же самую стоимость, какую прежде имела половина этого количества. Мы совершенно не говорим об обесценении, к рассмотрению которого придем позднее. Если бы это [возрастание продукта] происходило равномерно, то стоимость никогда не изменялась бы, а следовательно, отпал бы всякий стимул буржуазного производства. Поскольку же это происходит неравномерно, имеют место все коллизии, но одновременно и буржуазный прогресс. Возрастание производства товаров ни когда не является целью буржуазного производства, его целью является возрастание производства стоимостей. Имеющее место в действительности увеличение производительной силы и производства товаров происходит вопреки цели буржуазного производства, и противоречие, вытекающее из этого возрастания стоимостей, которое упраздняет самое себя в собственном движении, переходя в возрастание продукта, лежит в основе всех кризисов и т. д. Это такое противоречие, в котором постоянно вращается буржуазное производство.)
Рикардо говорит о капитале:
«Капитал представляет собой ту часть богатства страны, которая затрачивается в целях будущего производства и может быть увеличена тем же способом, что и богатство. Добавочный капитал будет столь же эффективным в производстве будущего богатства независимо от того, получается ли он путем повышения мастерства и улучшения машин, или путем производительного использования большей части дохода. Богатство ведь всегда зависит от количества произведенных товаров, безотносительно к той легкости, с которой могут быть произведены применяемые в производстве орудия. Определенное количество предметов одежды и продуктов питания будет содержать и давать занятие тому же числу людей и вследствие этого обеспечивать выполнение того же объема работы независимо от того, произведены ли эти предметы трудом 100 или 200 человек; однако их стоимость будет вдвое больше, если на их производство был затрачен труд 200 человек» (стр. 327—328) [стр. 230—231].
Во-первых. Предположим теперь, что 100 рабочих произвели столько же товаров, сколько прежде производили 200.
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 103
Следовательно, труд этих 100 мог бы выполнить работу 200 рабочих. Будет ли продукт этих 200 рабочих, которые теперь работают, иметь в два раза большую стоимость, чем продукт вышеуказанных 100, на том основании, что он является продуктом 200, тогда как тот был продуктом лишь 100 рабочих?
Во-вторых. Рикардо смешивает здесь капитал с тем материалом, из которого состоит капитал. Богатство является лишь материей капитала. Капитал всегда есть сумма стоимостей, которая снова предназначена для производства; он не является лишь суммой продуктов и равным образом предназначен для производства не продуктов, а стоимостей. Если посредством машин и т. д. производится дополнительное количество товаров, благодаря которым могут быть приведены в движение дополнительные рабочие, то таким путем не создается никакого дополнительного капитала, а лишь увеличивается производительная сила прежнего капитала. Никакой капиталист не скажет, что он обладает дополнительным капиталом, если с помощью тех же самых 100 талеров он может привести в движение большее число рабочих. В этом случае его капитал увеличивается, [ VIII — 37] потому что норма прибыли поднимается по отношению к заработной плате и таким образом большая доля прежнего капитала воспроизводится в форме капитала, вместо того чтобы воспроизводиться в форме расходов рабочих. Эта выгода реализуется лишь до тех пор, пока конкуренция со стороны капиталов, обладающих такой же производительностью, не приведет к выравниванию этой избыточной прибыли. В противном случае это следовало бы характеризовать как увеличение богатства, но не как увеличение капитала. После этого выравнивания потребительная стоимость остается, правда, увеличенной, но капитал перестает увеличиваться в той же самой мере. Если капитал становится более производительным, то он не увеличился бы в том случае, если бы все капиталы в той же самой и во всех других отраслях производства в равной мере сделались более производительными. Капитал страны остался бы тем же самым, но стал бы производить большее богатство в рикардовском понимании, больше предметов необходимости и т. д. Так как увеличение производительной силы капитала всегда является односторонним, значит,, прежде всего оно представляет собой также увеличение стоимостей (здесь самая лучшая машина точно так же участвует в цене [продукта] среднепроизводительной машины, как и самая худшая земля — в цене [продукта] самой лучшей земли, и, как и в случае ренты, здесь имеет место создание стоимости), так
104
К. МАРКС
как, далее, капиталист тем же самым капиталом приводит в движение больше рабочих, он увеличивает, следовательно, количество труда, например, заставляет работать два миллиона рабочих вместо одного миллиона работавших прежде, и таким образом также увеличивает стоимости.
У Рикардо вообще никогда нельзя понять, как могут быть увеличены стоимости, а значит, также и капитал, чтобы при этом у одного не изымалось то, что получает другой, как это имеет место в случае ренты. Для этого необходимо, помимо роста населения, увеличения производительной силы капитала, т. е. уменьшения относительной заработной платы рабочего, сбе режения уже совершенного труда, прежде всего также пропор циональное увеличение способов применения труда. Больше стоимостей создается: 1) тем, что приводится в движение больше рабочих рук в какой-нибудь отрасли производства и 2) это вызывает к жизни соответствующий труд в других отраслях, с которыми осуществляется обмен. Английские хлопчатобумажные фабрики не создавали бы больше стоимостей, если бы труд, с которым они могут обмениваться, не вызвал к жизни 1000 рынков сбыта внутри и вне страны. Рикардо совершенно упускает из виду эту обмениваемость и создание эквивалента. В другом месте Рикардо говорит:
«Можно принять как всеобщий, неизменно справедливый принцип, что только превышение рыночной ценой ш товара его естественной, или необходимой, стоимости является единственным стимулом к увеличению его производства» (стр. 504) [стр. 341].
Таким образом, здесь Рикардо признает, что дело заклю чается не в производстве «богатства» в его понимании, а в производстве «стоимостей». «Естественная цена» утверждает себя по отношению к рыночной цене, но это происходит в такой борьбе, которая не имеет ничего общего с рикардовским простым вы равниванием. В начальный период развития промышленности, когда спрос по большей части соответствует предложению, конкуренция была ограниченной, следовательно, во всех отраслях промышленности имели место монопольные цены, постоянно происходило обкрадывание земельной собственности со стороны промышленной собственности (также и в форме раскола на [земледельческие и промышленные] страны), поэтому обогащение на одной и обнищание на другой стороне, следовательно, борьба между рыночной и реальной ценой не приводила к тому же самому явлению и не велась с таким же разма хом, как в современном обществе. Превышение рыночной ценой реальной цены было тогда постоянным.
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 105
О ВЛИЯНИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЦЕНЫ
(Согласно тому, что мы слышали до сих пор, конкуренция между капиталистами за наиболее прибыльное приложение капиталов постоянно понижает рыночную цену до уровня естественной цены — пропорциональное приложение капиталов к различным отраслям производства. Но эта конкуренция капиталистов в свою очередь определяется изменением спроса. Таким образом, определение цены рабочим временем реализуется именно в рамках спроса и предложения, определяющих те соотношения, в которых различные капиталы распределяются между различными отраслями производства. С другой стороны, предложение, так же как и спрос, определяется самим производством.)
«Соотношение между спросом и предложением затрагивает рыночную цену ш товара только временно, до тех пор пока он не будет предложен в большем или меньшем количество соответственно возрастанию или уменьшению спроса. Уменьшите издержки производства шляп, и цена их в конце концов упадет до размеров их новой естественной цены, хотя бы спрос на них удвоился, утроился или учетверился»... Если бы [стоимость] золота упала на половину издержек его производства, то цена товаров, выраженная в золоте, поднялась бы на 100%, хотя спрос на них не увели чился бы, только потому, что их стоимость, определяемая рабочим временем, повысилась по отношению к золоту, или относительная стоимость золота упала на Va ... 8 обстоятельств Лодерделя, в силу которых меновая стоимость товаров может увеличиваться или уменьшаться; например, А по отношению кйипо отношению к С (деньги). Если количество А уменьшается, то [его стоимость] по отношению к В увеличивается; если количество А увеличивается, то [его стоимость] по отношению к В уменьшается; если [количество] А остается тем же самым, а [количество] В уменьшается, то [стоимость] А [по отношению к В] уменьшается; если [количество] А остается тем же самым, а [количество] В увеличивается, то [стоимость] А [по отношению к В] увеличивается, и таковы же 4 случая отношений между А и С... «Это», говорит Рикардо, «верно [ VIII — 38] по отношению к монополизированным товарам, а по отношению ко всем другим товарам — в течение ограниченного периода».
(Разумеется, все время предполагается, что количество [товара] увеличивается или уменьшается при неизменном спросе или же количество остается тем же самым, но спрос увеличивается или уменьшается.)
...Если издержки производства какого-либо товара уменьшились, то он не будет в силу этого предлагаться в большем количестве, если спрос на него не растет; ибо «товар предлагается не потому только, что он может быть произведен, но потому, что на него существует спрос... Цены тех товаров, которые подвержены действию конкуренции и количество которых может быть увеличено в умеренной степени, зависят в конечном счете не от соотношения спроса и предложения, а от увеличения или уменьшения издержек их производства» (стр. 460—465) [стр. 314—317].
106
К. МАРКС
ПРОИЗВОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
НЕ ИЗДЕРЖКАМИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, Т. Е. ИХ РЕАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ, А ИХ РЫНОЧНОЙ ЦЕНОЙ
(Реальная цена — это та цена, по которой товар может быть произведен; рыночная цена — это та, по которой он может быть продан.)
«На производимое количество хлеба оказывает влияние не та цена, по которой он может быть произведен, а та цена, по которой он может быть продан. Капитал привлекается к земле или отталкивается от нее, смотря по тому, насколько цена хлеба выше или нише издержек производства. Если такое превышение настолько велико, что капитал, вложенный в земледелие, приносит более высокую прибыль, чем общая, то капитал будет привлекаться к земле, а если он приносит менее высокую прибыль, то он будет извлечен из земледелия» (стр. 505) [стр. 342].
ОБЕСЦЕНИВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ И МАШИНАХ
«Все усовершенствования в земледелии и промышленности и все изобретения машин... в момент их введения непременно уменьшают или уничтожают стоимость части наличного капитала фермеров или фабрикантов» (стр. 318) [стр. 224—225].
«Предположим, что труд определенного числа людей производит при помощи данного капитала 1 000 пар чулок и что вследствие" изобретений машин то же самое число людей может произвести 2 000 пар или 1 000 пар чулок и 500 шляп. В этом случае стоимость 2 000 пар чулок или 1 000 пар чулок и 500 шляп будет не больше, чем стоимость 1000 пар чулок до введения машин, так как они будут продуктом того же самого количества труда. Но стоимость общей массы товаров тем не менее уменьшится, ибо... скажется воздействие на ту часть еще не потребленных товаров, которые были произведены до усовершенствования; стоимость этих товаров уменьшится, поскольку она должна упасть до уровня стоимости точно такого же количества товаров, произведенных уже со всеми преимуществами усовершенствования: и общество, несмотря на возросшее количество товаров... будет располагать меньшей суммой стоимостей. Увеличивая непрестанно легкость производства, мы постоянно уменьшаем стоимость некоторых из прежде произведенных товаров, хотя этим же путем мы увеличиваем не только национальное богатство, но и производительные силы будущего» (стр. 320—322) [стр. 226—227].
ЦЕНА ХЛЕБА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ ЦЕНЫ ДРУГИХ ТОВАРОВ ыз
Абстрагируемся от употребления денег. «Может ли при таких обстоятельствах меновая стоимость хлеба ш подняться по отношению к другим предметам? Если может, то тогда неверно, что стоимость хлеба регулирует стоимость всех других товаров, так как в противном случае его относительная стоимость не должна была бы изменяться по сравнению с ними. Если не может, то тогда» необходимо доказать 145, «что, независимо от того, получается ли хлеб с богатой или бедной земли, при помощи
О КНИГЕ Д . РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 107
большого или малого количества труда, при помощи машин или без них, он всегда будет обмениваться на одно и то же количество других товаров» (стр. 364—365) [стр. 254].
(У Рикардо важно то, что, в то время как даже А. Смит и Сэй все еще принимают за регулятор [стоимости] некий определенный продукт труда, он повсюду берет [в качестве регулятора] труд, деятельность, само производство — не продукт, а производство, акт создания. С этим связана целая эпоха буржуазного производства. У А. Смита деятельность еще не освобождена, не свободна, не оторвана от естественных уз, от предмета.) (У Рикардо человек повсюду имеет дело со своей собственной производительностью, у А. Смита он еще преклоняется перед своим собственным творением, речь идет еще о некоем определенном предмете, о предмете вне его деятельности.)
[ VIII — 39] (Этим объясняется полемика Рикардо против [определения] хлеба [в качестве регулятора стоимости всех других товаров] и цены труда, заработной платы, которая, разумеется, пе есть самый труд.) (Точно так же и его полемика против [определения] денег.)
«Реальная цена, в противоположность некоторым утверждениям, не зависит от стоимости денег; не зависит она также и от отношения стои мости к хлебу, труду или какому-либо другому товару, взятому в отдельности, или ко всем товарам, взятым вместе» (стр. 499) [стр. 338],
([Реальная цена| вообще не зависит от какого бы то ни было товара, но от деятельности, производящей товары. Стало быть, она не зависит также от труда в той мере, в какой он оплачивается, но от труда, поскольку он является производительным, не в той мере, в какой он сам является товаром, а поскольку он создает товары.)
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ
«Так как стоимость всех иностранных товаров измеряется количеством [продукта] нашей земли и труда, которое отдается в обмен на них, то мы не будем иметь большей стоимости, если вследствие открытия новых рынков будем получать удвоенное количество иностранных товаров в обмен на данное количество наших. Если посредством продажи ш английских товаров на 1 000 ф. ст. купец может получить за них такое количе ство иностранных товаров, которое он может продать на английском рынке за 1 200 ф. ст., то путем такого применения своего капитала он полу чит 20% прибыли; однако ни его барыш, ни стоимость ввезенных им товаров не увеличатся и не уменьшатся вследствие увеличения или умень шения количества полученных им иностранных товаров. Ввозит ли он 25 или 50 бочек вина, на его барышах это может не отразиться, если он продает в первом случае 25, а во втором — 50 бочек за 1 200 ф. ст. В обоих случаях его прибыль ограничена 200 ф. ст., или 20% на его капитал, И и обоих случаях в Апглию ввозится одинаковая стоимость, Если 50 бочек
5 м, и э., т. 44
108
К. МАРКС
будут проданы больше, чем за 1 200 ф. ст., то прибыль данного купца будет превышать среднюю норму прибыли, и капиталы будут притекать в эту выгодную отрасль торговли, пока падение цены вина не восстановит прежнее положение вещей» (стр. 131—132) [стр. 112].
Для того чтобы доказать, что стоимость иностранных товаров измеряется количеством [продукта] отечественной земли и труда, Рикардо говорит следующее:
«На покупку иностранных товаров употребляется или та же самая, или большая, или меньшая часть [продукта] земли и труда», например Англии. «Если употребляется та же самая часть, то на» отечественные товары «существует такой же спрос, а на их производство употребляется такая же часть капитала, как и прежде. Если употребляется меньшая часть вследствие удешевления цепы иностранного продукта, то» тогда большая часть его может быть использована для удовлетворения спроса на отечественные товары. Если употребляется большая часть, то тогда меньше капитала применяется в производстве отечественных товаров и меньше спрос на них. Так «высвобождается капитал для покупки иностранных товаров, и, следовательно, во всех случаях спрос на иностранные и отечественные товары, вместе взятые, поскольку это касается стоимости, ограничивается доходом и капиталом страны. Если спрос на один вид товаров увеличивается, то спрос на товары другого вида должен уменьшаться» (стр. 133—134) [стр. 113—114].
(Это верно: например, стоимость [продукта] земли и труда составляет 1000 ф. ст.; значит, если употребить 800 ф. ст. на покупку иностранных товаров, то можно будет употребить только 200 ф. ст. на покупку отечественных товаров; если употребляются 800 ф. ст. на отечественные, то только 200 ф. ст. — на иностранные товары и т. д. Это не означает ничего иного, кроме следующего: мы можем обменивать только наш труд, продукты нашего труда. Так как это есть некоторая данная сумма, то если мы употребим такую-то ее часть в одной из обеих отраслей торговли, мы сможем употребить в другой только остаток этой суммы. Но это не доказывает, что в обмен мы не можем получить больше стоимостей. Рикардо полагает эдесь, что стоимость, которую мы получаем в обмен, немедленно должна быть израсходована, обменена внутри самой страны, а следовательно, она ограничена теми стоимостями, которые находятся в стране. Но подобно тому как это делали все торговые нации, мы накопляем и откладываем про запас, например золото, если не находим непосредственного эквивалента за те большие стоимости, которые получаем в обмен. Ведь в противном случае было бы правильно также следующее общее поло жение: мы не можем создать никакой новой стоимости, а только лишь потребительную стоимость, так как новая стоимость определяется уже имеющимися в наличии продуктами труда и трудом, измеряется уже имеющейся в наличии стоимостью,
О- КНИГ1 Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 109
на которую она должна обменяться. Таким образом, имеющаяся в наличии стоимость никогда не могла бы быть увеличена. Но разве мы не можем вызвать к жизни новый труд? И разве деньги находятся в отношении только к уже созданным стоимостям или [также и] к тем стоимостям, которые могут быть созданы? И разве одна нация не [ VIII — 40] может обкрадывать другую с таким же успехом, как один индивид другого?
Но Рикардо скажет: возможны только три случая.
Я ввожу извне либо товары,
либо деньги,
либо доход, так что в последнем случае я получаю в обмен годовой доход.
И то, и другое, и третье я должен обменять внутри страны. На что? На имеющийся в наличии [продукт] труда и земли. Стоимость всех трех измеряется, следовательно, стоимостью последнего. Выходит, что посредством внешней торговли стоимости никогда не могут быть увеличены.
Выходит, что первоначально бедная нация, например голландцы, посредством внешней торговли никогда не могла бы нажить меновые стоимости и сделаться богатой в буржуазном смысле. Такой парадокс выдвигает Рикардо.
Конечно, это было бы правильно, если новую стоимость, которую сам я приобрел вне страны, я обмениваю на старую стоимость. Но я могу:
с помощью новой стоимости вызвать к жизни новый труд, а посредством него новые стоимости, на которые я все снова и снова буду обменивать Новые стоимости, воспроизводя весь процесс;
придать стоимость тому, что прежде не имело никакой стоимости, сделав это предметом обмена;
снова вывезти часть [стоимости] за границу, а часть обменять на ту же самую стоимость, которую я с прибылью вывез за границу. Так может обогащаться торговая нация.
И, быть может, с точки зрения рабочего времени я ввожу больше, чем вывез.
Когда Рикардо справедливо утверждает, что товар производится с определенными издержками не потому, что он произведен с этими издержками, а потому, что он может быть продан Гв соответствии с ними] 147, то столь же верно и то, что товар обладает стоимостью не из-за издержек его производства, а по той причине, что он может быть обменен на определенные издержки производства [другого товара].
Если рабочее время есть мера стоимости, т. е. мера того количества товаров, которое дается в обмен на некую третью
б*
110 К. МАРКС
величину, то столь же верно, что сама мера стоимости не есть стоимость, не есть вещь, которая измеряется, и для того чтобы можно было измерять те количества, в которых товары обмениваются друг на друга, необходимо прежде всего, чтобы товары обменивались. Поэтому обменом открывается возможность реализации стоимости товара. Всякий новый предмет, который становится обмениваемым, есть в результате ео ipso * новая стоимость и приумножает число стоимостей. Поэтому в той мере, в какой открываются истопники обмена, умножается число стоимостей как во внутренней, так и во внешней торговле. И поэтому способность к обмену создает новый труд и вовлекает в обработку новую землю, а, стало быть, не измеряется ими. В противном случае это было бы равносильно утверждению, будто стоимость товара дана заключенным в нем рабочим временем, и товар есть стоимость, не будучи обмениваемым. Товары, которые не имели никакой стоимости, первоначально получают ее благодаря обмениваемое™. Сначала — просто в результате обмениваемости. Так как затем вскоре они оказываются потребленными, труд должен воспроизвести их, и если первоначально их стоимость была определена случайно, то теперь она определяется издержками их производства. Поэтому если источники обмена закрываются, то производство прекращается, а значит, перестает существовать и та мера, которой, согласно Рикардо, измеряется обмен: «годовой [продукт] эем-ли и годовой труд».)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНОВОЙ СТОИМОСТИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
«То правило, которое регулирует относительную стоимость това ров в какой-либо одной стране, не регулирует относительную стоимость товаров, обмениваемых между разными странами. При системе полной свободы торговли каждая страна затрачивает свой капитал и труд в таких отраслях производства, которые доставляют ей наибольшие выгоды... Это ведет к наиболее эффективному и наиболее экономичному разделению труда, поскольку, увеличивая общую массу продуктов, распространяет общее благополучие и связывает узами общей выгоды и сношений все нации цивилизованного мира во всемирное сообщество» (стр. 138—139) [стр. 116]. [ VIII - 40]
[ VIII — 43] 14в «В одной и той же стране уровень прибыли, вообще говоря, всегда одинаков. Различия же происходят только потому, что одно применение капитала более или менее безопасно и привлекательно, чем другое. По-иному это соотношение складывается между различными стра нами»... При возможной разнице прибылей капитал быстро переместится из Лондона в Йоркшир, «но если вследствие возрастания капитала и населения заработная плата повысится, а прибыль упадет, то капитал и население вовсе не обязательно переместятся из Англии в Голландию,
* — тем самым, сам по себе. Ред,
0 КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 111
или Испанию, или Россию, где прибыли могут быть выше»... Если в Португалии требуются 90 человек для производства данного количества сукна и 80 для производства данного количества вина, в то время как в Англии требовалось 100 человек для сукна и 120 для вина, то Португалия будет вывозить вино, а Англия — сукно... «То количество вина, которое Португалия отдает в обмен на английское сукно, не определяется соответственными количествами труда, затрачиваемого на производство того и другого, как это имело бы место, если бы оба товара изготовлялись в Англии или в Португалии ш... Этот обмен может иметь место, хотя ввозимые Португалией товары могли быть произведены там с меньшими затратами труда, чем в Англии. Хотя Португалия и могла бы изготовить сукно трудом 90 человек, она будет ввозить его из страны, где его производство требует труда 100 человек, потому что для нее скорее будет выгоднее употребить свой капитал на производство вина, за которое она получит из Англии больше сукна, чем она произвела бы сама, если бы переместила часть своего капитала из виноделия в производство сукна. Таким образом, Англия отдавала бы продукт труда 100 человек за продукт труда 80. Такой обмен не мог бы иметь места между индивидами одной и той же страны... Разница в этом отношении между какой-либо отдельной страной и многими легко объясняется, если мы примем во внимание трудность перемещения капитала из одной страны в другую в поисках более прибыльного применения, а с другой стороны, ту активность, с какой он неизменно перемещается из одной области в другую в пределах одной и той же страны. Отсюда следует, что страна, которая обладает большими преимуществами в машинах и мастерстве и поэтому в состоянии изготовлять товары путем гораздо меньших затрат труда, чем ее соседи, может ввозить в обмен на такие товары часть требующегося для ее потребления хлеба даже в том случае, если ее земли плодороднее и возделывание хлеба обходится на них дешевле, чем в вывозящей его стране. Если два человека изготовляют обувь и шляпы и один превосходит другого в обоих занятиях, но, изготовляя шляпы, он может превзойти своего конкурента на 20%, а изготовляя обувь, — на 33%, то не будет ли выгоднее для них обоих, чтобы более искусный занялся исключительно изготовлением обуви, а менее искусный — изготовлением шляп?.. Миграция капитала (из одной страны в другую) задерживается воображаемой или действительной ненадежностью вложения капитала, когда он уже не находится под непосредственным контролем своего владельца, в сочетании с естественным нерасположением всех людей покидать свою родину, рвать старые связи и вверять себя со всеми своими установившимися привычками чужестранному правительству и новым законам. Золото и серебро распределяются между различными странами мира в пропорциях, соответствующих такому естественному обмену, который имел бы место, если бы таких металлов не существовало вовсе и торговля между разными странами была чисто меновой... Усовершенствование производства в какой-либо стране стремится изменить распределение драгоценных металлов между нациями мира: оно стремится к умножению количества товаров и в то же время ведет к повышению средних цен в той стране, где имело место это усовершенствование» (стр. 139—149) [стр. 116—122]. «На долю каждой страны приходится лишь такое количество денег, которое необходимо для регулирования прибыльной меновой торговли» (стр. 147—148) [стр. 121].
(Согласно такому представлению оказывается, что мено вая торговля вызывает не только увеличение количества продуктов, но и повышение цен.)
112
К. МАРКС
ВЛИЯНИЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НА ЦЕНЫ
Ограничения, существующие для колонии, могут предоставить метрополии особые выгоды (стр. 404) [стр. 277—278]. «А. Смит сам соглашается с тем, что убыток, причиняемый невыгодным распределением труда между двумя странами, может быть выгоден для одной из них, тогда как другая от него страдает. Но это доказывает, что мера, могущая нанести колонии большой ущерб, может оказаться частично выгодной для метрополии» (стр. 405) [стр. 278]. «А. Смит сам говорит о торговых договорах, которые обязывают какую-либо страну или разрешать ввоз известных товаров из одной страны, ввоз которых из всех остальных стран она запрещает, или освобождать товары одной страны от пошлин, которыми она облагает товары всех остальных стран: «промышленники и купцы этой столь бла-гоприятствуемой страны получают большие выгоды; они пользуются своего рода монополией в стране», связанной таким договором. «Эта страна становится и более обширным, и более выгодным рынком сбыта для их товаров; более обширным потому, что вследствие устранения или обложения более тяжелыми пошлинами товаров других наций она поглощает большее количество товаров промышленников и купцов благоприятствуемой страны; более выгодным потому, что они пользуются своего рода монополией и часто могут продавать свои товары дороже, чем если бы они были подвержены свободной конкуренции со стороны других стран» 16°. Таким образом, если одна из двух стран является колонией, а другая метрополией, то последняя может извлекать выгоды, притесняя первую» (стр. 405—406) [стр. 278—279]. Конечно, с одной стороны, эта [монополия] подрывается конкуренцией между купцами самой [ VIII — 44] метрополии (если торговля не монополизирована одной компанией)... Но даже и в этом случае колония могла бы покупать какие-нибудь товары самое большее по их естественной цене в метрополии, «тогда как при свободной торговле она, вероятно, могла бы купить их по гораздо более низкой естественной цене в других странах» (стр. 406—407) [стр. 279].
«Следовательно, это обусловливает невыгодное распределение совокупного капитала, которое обременяет главным образом страну, обязанную по договору покупать товары» в наименее производительной стране ш (стр. 407) [стр. 279].
Выгода для метрополии «состоит в следующем: эти определенные товары не могли бы производиться в Англии для вывоза, если бы она не пользовалась привилегией обслуживания этого особого рынка; ибо конкуренция тех стран, где естественная цена была ниже, лишила бы Англию всякой возможности продавать эти товары. Это не имело бы важного значения, если бы Англия имела полную возможность продать на такую же сумму какие-либо другие товары, которые она может производить, будь то на французском рынке, будь то на каком-нибудь другом с одинаковой выгодой». Например, Англия хочет купить французских вин на 5 000 ф. ст., за это она хочет продать своих товаров тоже на сумму в 5 000 ф. ст. «Если Франция предоставляет ей монополию на рынке сукна, то Англия будет тотчас же вывозить сукно, но если бы торговля была свободна, то при конкуренции других стран естественная цена сукна в Англии могла бы не оказаться достаточно низкой, для того чтобы получить за свое сукно 5 000 ф. ст. Английской промышленности пришлось бы, следовательно, переключиться на производство какого-нибудь другого товара, но при этом могло бы случиться, что при существующей стоимости денег она не в состоянии была бы продавать ни одного из своих товаров по их естественной цене в других странах. Поэтому 5 000 ф. ст. деньгами вывозятся во Францию за вино, Вследствие этого_стоимость денег повышается в Анг-
О КНИГЕ Д . РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 113
лил и понижается в других странах, и таким образом понизится естественная цена всех товаров, производимых британской промышленностью. Теперь для получения 5 000 ф. ст. можно будет вывозить товары, так как при их пониженной естественной цене они могут теперь конкурировать с товарами других стран. Впрочем, теперь придется продать больше товаров по низким ценам, для того чтобы получить требуемые 5 000 ф. ст., которые уже не могут доставить то же самое количество вина, потому что во Франции увеличение количества денег привело к повышению естественной цены товаров [и в том числе] вина. Следовательно, в Англию при полной свободе торговли в обмен на ее товары ввозилось бы меньше вина», чем если бы ее торговля была обусловлена торговыми договорами. Выгода для Франции и убыток для Англии состоят, соответственно, в том, что первая получает большее, а вторая меньшее количество товаров другой страны (стр. 407—409) [стр. 279—280].
«Таким образом, внешняя торговля регулируется — какова бы ни была сравнительная трудность производства в различных странах — путем изменения естественной цены, а не естественной стоимости, по которой товары могут производиться в этих странах. А изменение естественной цены вызывается изменением распределения драгоценных металлов» (стр. 409) [стр. 281].
(Таким образом, Рикардо различает здесь естественную цену и естественную стоимость. Первая может изменяться, в то время как вторая не изменяется. Естественная цена представляет собой естественную стоимость, выраженную в денежной мере, и это выражение может изменяться в зависимости от изменения стоимости денег.)
Таким образом, колониальная торговля, если она связана [торговыми договорами], «может быть более выгодна для метрополии, чем совершенно свободная торговля. Как отдельному потребителю невыгодно, если он вынужден производить все свои покупки только в одной лавке, так и целой нации потребителей невыгодно, если она вынуждена покупать только в одной стране» (стр. 410) [стр. 281].
ВЛИЯНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕНОВУЮ СТОИМОСТЬ
«Увеличение издержек производства какого-либо товара, являющегося предметом первой необходимости, не обязательно ведет к уменьшению его потребления, ибо, хотя общая покупательная способность потребителей уменьшается вследствие повышения цены любого товара, тем не менее они могут отказаться от потребления какого-нибудь другого товара, издержки производства которого не увеличились. В этом случае как предлагаемое количество, так и требуемое количество остаются такими же, как прежде, увеличиваются только издержки производства; однако цена поднимется, да и должна подняться, для того чтобы прибыль производителя товара с повысившимися издержками производства находилась» на среднем уровне (стр. 410—411) [стр. 281].
Так как цены товаров определяются издержками их производства, то применение усовершенствованных машин ведет к понижению цен и позволяет продавать товары на внешних рынках дещевле. Если одна страна отказывается от применения маши^ в то время как все другие
114
К. МАРКС
страны их применяют, то она оказывается вынужденной вывозить деньги вместо товаров до тех пор, пока не снизит естественные цены своих товаров до уровня цен других стран. Но тогда эта страна может оказаться вынужденной отдавать два дня труда за один день труда, выполненного за границей 1ба (стр. 481) [стр. 327]. Это происходит потому, говорит Рикардо, что данная страна не проявила того благоразумия, которое проявили ее соседи, введя машины (стр. 481—482) [стр. 327].
Не следует ли отсюда, что какая-либо [ VIII — 45] страна поступает благоразумно, прежде всего вводя у себя машины с помощью покровительственных пошлин, для того чтобы не быть вынужденной постоянно продавать два дня своего труда за один какой-либо другой страны? 163
Общее замечание. Рассматривая регулирование цены, Рикардо обращает слишком мало внимания на количество, точно так же как при рассмотрении регулирования ренты он всегда имеет в виду лишь цепу одного квартера. Но ведь цена, по которой может быть продан [товар], зависит в то же время и от того, сколько можно продать из данного количества. Ибо х, совокупная цена продуктов какой-либо фабрики, остается той же самой независимо от того, имеется ли возможность продать 1000 аршин по 4 шилл. или 2000 аршин, произведенных таким же [количеством] труда, по 2 шилл. Но в обоих случаях необходимо, чтобы фабрикант продал в одном случае 1 000, а в другом — 2 000 аршин. Совокупная цена товара определяется ценой его единицы (мера, аршин, квартер и т. д.), умноженной на то количество, которое продается.
IV ) О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
«Как и все другие предметы, которые покупаются и продаются и количество которых может быть увеличено или уменьшено, труд имеет свою естественную и свою рыночную цену» (стр. 86) [стр. 85].
«Естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы рабочие в среднем имели возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их численности. Способность рабочего содержать себя и свою семью зависит не от количества денег, которое он получает в виде заработной платы, а от количества продуктов питания, предметов необходимости и удобств, которые можно купить за эти деньги. Поэтому естественная цена труда зависит от цены продуктов питания, предметов необходимости и удобств... Поэтому с повышением цены продуктов питания и предметов необходимости естественная цена труда возрастает, а с падением их цены — падает. С прогрессом общества естественная цена труда имеет тенденцию возрастать, потому что один из главных товаров, которым регулируется естественная цена труда, имеет тенденцию становиться дороже в связи с возрастающей трудностью его производства. Однако усовершенствования в земледелии», ввоз извне могут даже привести к падению цены продуктов питания и задержать ее повышение, Такое же воздействие оказывается на естественную цену
О КНИГЕ Д . РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 115
труда. «Естественная цена всех товаров, за исключением сырого продукта и труда, имеет тенденцию падать». Правда, сырой материал, входящий в состав товаров, повышает их цену 164, однако «это повышение более чем уравновешивается усовершенствованиями в машинах, лучшим разделением и распределением труда и растущей сноровкой производителей в познаниях и ремесле» (стр. 86—87) [стр. 85—86].
«Рыночная цена труда есть та цена, которая действительно платится за него в силу естественного воздействия соотношения между спросом и предложением. Труд дорог, когда он редок, и дешев, когда имеется в изобилии. Когда рыночная цена труда превышает его естественную цену, положение рабочего счастливо... Но если вследствие поощрения населения к размножению, вызываемого высокой заработной платой, число рабочих возрастает, то заработная плата опять падает до своего естественного уровня, а» часто 155 «в силу реакции ниже его. В последнем случае положение рабочего наиболее несчастливо... Лишь после того как лишения сократят численность рабочих или спрос на труд увеличится, его рыночная цена опять поднимается до его естественного уровня»... В прогрессирующей стране рыночная цена [труда] может быть выше его естественной цены в течение неопределенного периода: «вслед за импульсом, который рост капитала дал новому спросу на труд, может идти по пятам новый рост капитала с тем же самым импульсом; и, таким образом, если рост капитала происходит постепенно и постоянно, то спрос на труд может давать непрерывный импульс росту населения» (стр. 87—88) [стр. 86].
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ И КОЛИЧЕСТВОМ ТРУДА, ЗАТРАЧЕННЫМ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРА
«Если бы вознаграждение рабочего было всегда пропорционально тому, сколько он произвел, то количество труда, затраченное на товар, и количество труда, которое за этот товар можно купить, были бы равны ...но последнее подвержено столь же многим колебаниям, как и стоимость сравниваемого с ним товара» (стр. 5) [стр. 35—36]. «В одной и той же стране для производства данного количества продуктов питания и предметов необходимости может потребоваться вдвое больше труда, чем в другой, прошедший период; однако вознаграждение рабочего может уменьшиться лишь немного» ... так как то количество продуктов питания и предметов необходимости, которое он получает, по всей вероятности, необходимо для поддержания его существования, а значит, должно быть ему предоставлено, несмотря на то что стоимость этого количества и возросла... Таково же соотношение между двумя или большим числом стран. «В Америке и Польше на земле, поступившей в обработку последней, годичный труд данного числа людей произведет гораздо больше хлеба, чем на такой же земле в Англии. Предполагая теперь, что все прочие предметы необходимости одинаково дешевы в этих трех странах, было бы большой ошибкой заключить, что достающееся рабочему количество хлеба будет в каждой из этих стран пропорционально легкости его производства. Если бы благодаря улучшению машин обувь и одежда рабочего могли быть произведены с V« тех затрат труда, которые необходимы теперь, они, вероятно, упали бы [по стоимости] на 75%, но из этого не следует, что рабочий будет получать 4 пары обуви или 4 предмета одежды вместо одного. Более вероятно, что вскоре его заработная плата под влиянием конкуренции и стимулирования роста населения будет приведена в соответствие с новой стоимостью предметов необходимости, на которые она расходуется. Если бы такие улучшения распространились [ VIII — 46]
116
К. МАРКС
на все предметы потребления рабочего, то мы, вероятно, нашли бы, что по истечении немногих лет он получит — если вообще получит — лишь небольшую прибавку к количеству потребляемых им благ» (стр. 7—8) [стр. 36—37]. «Уменьшите расходы на средства существования людей путем уменьшения естественной цены предметов питания и одежды, служащих для поддержания жизни, и заработная плата в конце концов упадет, несмотря на то что спрос на рабочих может очень сильно возрасти» (стр. 460) 1стр. 314].
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАНИЯ КАПИТАЛА НА РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕСТЕСТВЕННУЮ [ЦЕПУ ТРУДА]
«Капитал есть та часть богатства страны, которая употребляется в производство и состоит из предметов питания, одежды, орудий, сырого материала, машин и т. д., необходимых для того, чтобы привести в движение труд. Количество капитала может возрастать одновременно с повышением его стоимости. Но капитал может также возрастать без увеличения его стоимости или даже при» постоянном 15в «уменьшении ее». Первое имеет место, когда для производства добавочного количества предметов питания и одежды требуется больше труда; второе — когда для этого требуется то же самое или — с помощью машин — меньшее количество труда. «В первом случае естественная цена труда возрастает, во втором — остается неизменной или падает; в обоих случаях возрастает рыночная цена заработной платы, потому что пропорционально росту капитала растет и спрос на труд. Пропорционально работе, которую надо выполнить, будет расти и спрос на тех, кто должен выполнять ее. В обоих случаях рыночная цена будет иметь тенденцию сообразовываться с естественной ценой, но быстрее это осуществится в первом случае, потому что возросшая цена на продовольствие и предметы необходимости поглотит значительную долю возросшей заработной платы рабочего. Поэтому небольшое предложение труда или незначительное увеличение населения сведет рыночную цену труда к его естественной цене, которая в этом случае возрастает. Во втором случае положение рабочего весьма улучшится... И только после значительного увеличения населения рыночная цена труда опять понизится до его естественной цены... Но длительность повышения рыночной цены труда зависит от повышения естественной цены предметов необходимости, на которые расходуется заработная плата» (стр. 89—91) [стр. 86—88].
ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦЕНЫ ТРУДА
«Естественная цена труда, даже если она измеряется в продуктах питания и [других] предметах необходимости, не является абсолютно неподвижной и постоянной. Она изменяется в разные периоды в одной и той же стране и очень существенно различается в разных странах. Она существенно зависит от нравов и обычаев народа... Многие из удобств, которыми теперь пользуются в каком-нибудь английском коттедже, считались бы роскошью в более ранний период нашей истории» (стр. 91) [стр. 88]. «Так как вместе с развитием общества [естественная цена] промышленных товаров постоянно падает, а сырого продукта — постоянно повышается, то создается такое несоответствие в относительной стоимости этих товаров, что в богатых странах рабочий, пожертвовав лишь небольшим количеством пищи, может свободно удовлетворить все свои прочие потребности» (стр. 92) [стр. 88].
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 117
(Следовательно, поскольку, например, свободная торговля уничтожает это несоответствие, она уничтожает тот источник, из которого рабочий может «свободно удовлетворить все свои прочие потребности». Выше (стр. 89—91) [стр. 87—88] Рикардо представил повышение естественной цены труда как приносящее рабочему мало пользы, здесь же он представляет это повышение как главный источник расширения его потребления.)
«В тех странах, в которых трудящиеся классы имеют минимальные потребности и довольствуются самой дешевой пищей, населенно подвержено величайшим превратностям и пищете. Ему негде укрыться от бедствий; оно не может искать убежища в более низком уровне жизни, ибо последний ужо столь низок, что не может упасть еще ниже. При всяком недостатке в главном средстве его существования население может прибегнуть лишь к очепь немногим суррогатам, и дороговизна сопровождается для него почти всеми ужасами голода» (стр. 95) [стр. 90—91].
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И РЕНТА
Мы видели, как с ростом населения повышается цена хлеба, продуктов питания. Поэтому повышается также и выраженпая в деньгах заработная плата рабочего, но не пропорционально, а так, что «после повышения [цен] этих товаров рабочий не сможет купить столько же предметов удобств [и необходимости], как до этого. Если раньше его заработная плата составляла 24 ф. ст., или шесть квартеров хлеба в год при цене квартера в 4 ф. ст., то рабочий, вероятно, будет получать только 5 квартеров, если цена квартера поднимется до 5 ф. ст. Но эти 5 квартеров будут стоить 25 ф. ст.». Таким образом, увеличится его денежная заработная плата, но уменьшатся его хлебная заработная плата и его способности покупать другие товары, «прежде потреблявшиеся им и его семьей. Однако несмотря на то что рабочий realiter * оплачивается хуже, прибыли фабрикантов уменьшатся». Так оказывается, что одна и та же причина вызывает повышение заработной платы, и ренты. Однако у земельного собственника одновременно с денежной рентой повышается хлебная рента, «и каждая определенная мера этого хлеба обменивается на большее количество всех других товаров», цена U1 - «которых не возросла»; у рабочего же, несмотря на увеличение его денежной заработной платы, уменьшается его хлебная заработная плата, и ему становится труднее поддерживать рыночную цену своего труда над его естественной ценой... С уменьшившейся хлебной заработной платой рабочий, несмотря на увеличение меновой стоимости хлеба, не сможет покупать столько же товаров, как прежде, потому что [цена] других товаров, в состав которых входит сырой продукт, повысилась, а значит, ему пришлось бы платить за них больше «и, следовательно, его положение [ VIII — 47] ухудшилось бы» (стр. 96—99) [стр. 91—93].
ПОВЫШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦЕНЫ ТРУДА И ДЕНЕЖНАЯ ЦЕНА ТОВАРОВ
Безразлично, является ли золото или другой металл, из которого делаются деньги, продуктом той страны, в которой повышается заработная плата вследствие вздорожания продуктов питания, а следовательно,
• — в действительности. Ред.
118
К. МАРКС
одновременно повышается денежная цена заработной платы и продуктов питания... Если цена заработной платы «повышается, то это происходит, вообще говоря, потому, что возрастание богатства и капитала вызывает новый спрос на труд, что сопровождается увеличением производства товаров. Для обращения этого возросшего количества товаров, хотя бы по тем же ценам, что и раньше, требуется больше денег; для того чтобы пустить эти товары в обращение, требуется большее количество того иностранного товара, из которого делаются деньги и который может быть получен только путем ввоза 168. Если товар требуется в большем количестве, чем прежде, то его относительная стоимость повышается в сравнении с теми товарами, за которые он покупается». Следовательно, если требуется больше золота, то [цена] золота повышается но сравнению с теми товарами, за которые оно покупается.
(Что плохо согласуется с тем, что спрос может возрастать без повышения цены.)
«Но сказать в предположенном случае, что [цены] товаров растут, потому что растет заработная плата, значит впадать в явное противоречие: ибо, с одной стороны, мы говорим, что вследствие спроса повысится относительная стоимость золота, а с другой стороны, что его относительная стоимость упадет, потому что повышаются цены, — два совершенно несовместимых друг с другом результата. Сказать, что повышаются цены товаров, — то же самое, что сказать, что понизилась относительная стоимость денег, ибо относительная стоимость золота оценивается в товарах. Следовательно, если бы повысились цены всех товаров, то золото не могло бы притекать из-за границы для покупки этих дорогих товаров. Оно, наоборот, вывозилось бы из страны, для того чтобы покупать сравнительно более дешевые иностранные товары. Поэтому повышение заработной платы не в состоянии повысить товарные цены, все равно, производится ли [денежный] металл внутри страны или за границей. [Цены] всех товаров не могут подняться в одно и то же время без добавочного количества денег. Но это последнее не может быть получено... Ввоз золота и повышение цен всех отечественных товаров, на которые покупается или которыми оплачивается золото, — абсолютно несовместимые результаты. Широкое употребление бумажных денег не изменяет дела, потому что бумажные деньги должны соответствовать стоимости золота», а следовательно, их стоимость возрастает в силу тех же самых обстоятельств, которые вызывают повышение стоимости золота (стр. 99—101) 1стр. 93—94].
Поэтому независимо от повышения и падения денежной заработной платы вследствие изменений в стоимости денег «заработная плата повышается или падает вследствие двух причин: 1) предложение и спрос на рабочих; 2) цена товаров, на которые расходуется заработная плата» (стр. 92) [стр. 88].
НАСЕЛЕНИЕ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
«На разных стадиях развития общества накопление капитала, или средств применения труда, происходит с большей или меньшей быстротой и должно во всех случаях зависеть от производительных сил труда. Последние выше всего тогда, когда имеется в изобилии плодородная земля, и в такие периоды накопление часто идет так быстро, что рост предложения рабочих отстает от роста предложения капитала. При благоприятных
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 119
условиях население может удвоиться за 25 лет, но при столь же благоприятных условиях капитал какой-либо страны мог бы удвоиться за более короткий период. В этом случае заработная плата возрастала бы, потому что спрос на рабочих возрастал бы еще быстрее, чем их предложение». В ходе развития это продолжается, естественно, недолго. «Производительность понижается по мере последовательного, менее производительного приложения к земле капитала, тогда как способность населения [к росту] остается прежней. Таким образом,, в тех странах, где имеется в изобилии плодородная земля, но» царит нужда «вследствие невежества, лености и варварства жителей и где», как говорит Мальтус 159, «население давит на средства существования, требуется только» развитие культуры, улучшение формы правления и т. д., для того чтобы обеспечить более быстрый рост капитала по сравнению с ростом населения, и в этом случае «население никогда но сможет возрастать слишком быстро». В старых странах, напротив, «население растет быстрее средств, необходимых для его содержания. Всякий рост производства, если оп не сопровождается уменьшением прироста населения, только увеличивает зло, ибо производство не может поспевать за населением». Не остается ничего другого, кроме сокращения населения (стр. 92—94) [стр. 89—90].
«В условиях естественного прогресса общества заработная плата, в той мере, в какой она регулируется предложением и спросом, имеет тенденцию к падению, потому что предложение рабочих будет продолжать возрастать одинаковыми темпами, тогда как спрос на них растет медленнее. Если бы, например, заработная плата регулировалась ежегодным приростом капитала, составляющим 2%, то она упала бы, если бы это накопление составило только 1У2%». И так продолжалось бы с каждым следующим падением нормы накопления «до тех пор, пока капитал, а следовательно, и заработная плата не станут неизменными, и заработная плата будет достаточна лишь для сохранения численности существующего населения» (стр. 95—96) [стр. 91].
[ VIII — 48] «Подобно всем другим договорным соглашениям, установление размеров заработной платы должно быть предоставлено честной и свободной рыночной конкуренции и никогда ne должно контролироваться вмешательством законодательства. Ясная и прямая тенденция законов о бедных 1в0 прямо противоречит этим очевидным принципам: эти законы ведут не к улучшению положения бедных, что являлось целью благожелательных законодателей, а к ухудшению положения и богатых, и бедных. Вместо того чтобы сделать бедных богатыми, они рассчитаны на то, чтобы сделать богатых бедными. И поэтому коль скоро нынешние законы остаются в силе, вполне естественно, что фонд для содержания бедных будет прогрессивно расти до тех пор, пока он не ноглотит весь чистый доход страны» (стр. 101—102) [стр. 95].
ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ СЫРОГО ПРОДУКТА НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
При различных обстоятельствах повышение цены сырого продукта оказывает весьма различное влияние на заработную плату. В одних случаях повышение цены хлеба не вызывает никакого повышения заработной платы; «в других — повышению цены хлеба предшествует повышение заработной платы; в одних случаях воздействие на заработную плату сказывается медленно, в других — быстро. Высокая цена продуктов питания может быть следствием четырех причин: 1) недостаточного пред-
120
К. МАРКС
ложения; 2) постепенно усиливающегося спроса, сопровождаемого в конце концов увеличением издержек производства; 3) падения стоимости денег; 4) введения налогов на предметы необходимости. Плохой урожай вызывает вздорожание предметов питания, и это — единственное средство заставить потребление сообразоваться с уровнем предложения. Если бы все потребители были богаты, то цена [на хлеб] могла бы повышаться до тех пор, пока наименее богатые не были бы вынуждены отказаться от потребления некоторой части того количества, которое они обычно потребляли, так как только путем сокращения потребления спрос мог бы быть понижен до границ предложения. При таких обстоятельствах нет ничего более нелепого, чем принудительное регулирование денежной заработной платы посредством цены продуктов питания... Такая мера не дает реального облегчения рабочему, потому что ее результатом является еще большее вздорожание хлеба, и в конце концов рабочий все же вынужден ограничить свое потребление в соответствии с уменьшившимся предложением. Повышение заработной платы является лишь номинальным для тех, кто ее получает; оно усиливает конкуренцию на хлебном рынке, и его конечным результатом является рост прибылей сельских хозяев и хлеботорговцев»... Следовательно, в этом случае «при естественном ходе дел не происходит никакого повышения заработной платы... нужда рабочих неизбежна. Законодательство может помочь лишь посредством ввоза дополнительного количества продовольствия или замены его наиболее пригодными суррогатами. Если высокая цена хлеба является результатом возросшего спроса, то ей предшествует возрастание заработной платы, потому что спрос не может возрасти без увеличения у народа средств оплаты того, на что он предъявляет спрос... Возросшая заработная плата не всегда тратится непосредственно на продукты питания; сначала она расходуется на приобретение других предметов комфорта. Однако улучшение положения рабочего» приводит его к браку, брак — к семье, а семья — к увеличению спроса на продукты питания... «Прибыли фермеров поднимаются выше общего уровня до тех пор, пока на производство хлеба не будет затрачено требуемое количество капитала». Если вновь вовлеченная в обработку земля столь же плодородна [как и та, которая была введена в обработку последней], то «цена хлеба упадет до своего прежнего уровня; если эта земля беднее, то цена хлеба постоянно остается выше этого уровня». От указанного состояния земледелия зависит, понизится ли заработная плата до своего прежнего уровня, как только будет достигнуто требуемое предложение рабочих, или же будет оставаться выше этого уровня... «Когда дан стимул росту населения, результат оказывается сильнее, чем это требовалось в данном случае: население в этом случае обычно возрастает настолько, что, несмотря на увеличение спроса на труд, оно будет больше по отношению к фондам, предназначенным для содержания рабочих, чем до увеличения капитала. Тогда наступает реакция, заработная плата падает ниже своего естественного уровня и остается в таком положении до тех пор, пока не восстановится обычное соотношение между предложением и спросом». Наконец, если цена хлеба повышается вследствие падения стоимости денег или обложения налогом сырого продукта, то, так как оба эти фактора не изменяют производимого количества [продуктов] и числа рабочих, денежная оплата труда возрастет; на реальную стоимость ш это не окажет влияния... Обложение налогом [сырого продукта] подвергает рабочего ш точно такому же риску, как всякое иное налогообложение: «налог может затронуть фонды, предназначенные для содержания труда, и тем самым задержать или понизить спрос на него» (стр. 176—181. Последнее из приведенных мест о влиянии налога находится на стр. 183) [стр. 136—141].
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 121
«Нетрудно понять, почему при нерегулярном возрастании капитала какой-либо страны заработная плата повышается, в то время как цена хлеба остается неизменной или повышается в меньшей степени, и почему при уменьшении капитала какой-либо страны заработная плата падает, в то время как цена хлеба остается неизменной или же падает в гораздо меньшей степени и притом в течение длительного времени. Причина заключается в том, что труд — ато такой товар, количество которого не может быть увеличено или уменьшено по желанию». Если возрастает спрос на шляпы, цена их поднимается, но [ VIII — 49] ненадолго, потому что быстро обеспечивается соответствующее предложение. Не так обстоит дело с рабочими: нельзя увеличить или уменьшить их число в случае возрастания или уменьшения капитала... «Поэтому, в то время как фонды, предназначенные для содержания труда, возрастают быстро, необходим значительный промежуток времени, прежде чем цена труда будет точно регулироваться ценой хлеба и других жизненных средств» (стр. 181—182) [стр. 140].
(Увеличение [числа рабочих] может произойти «очень быстро» благодаря применению машин, которое ведет к относительному увеличению их числа.)
«Если бы рабочий не потреблял ничего, кроме хлеба, и если бы его доля хлоба была минимальной, то мы имели бы некоторые основания предполагать, что количество, уплачиваемое рабочему, ни при каких условиях но может быть уменьшено. Но на самом деле денежная оплата труда» часто 1Ю «совсем не повышается и никогда не повышается пропорционально денежной цене хлеба, потому что хлеб составляет хотя и важную, но все же только некоторую часть потребления рабочего. Предположим, что половина заработной платы рабочего тратится на хлеб, а другая половина — на мыло, свечи, топливо, чай, сахар, одежду и т. д., т. е. на такие товары, [цена] которых не повысилась; тогда рабочий будет одинаково оплачиваться, получая 1V2 бушеля пшеницы при цене ее в 16 шилл. за бушель или 2 бушеля при цене в 8 шилл. за бушель, получая деньгами 24 шилл. или, как прежде, 16 шиллингов. Его заработная плата возросла бы только на 50%, в то время как цена хлеба увеличилась бы на 100%» (стр. 360-361) [стр. 251-252].
(Это следует принять ad not am *, особенно в отношении налогов, а именно: Рикардо сам признает, что заработную плату можно постоянно понижать. И даже ту ее часть, которая состоит из хлеба, хотя она и составляет минимум, можно понизить еще больше посредством замены хлеба картофелем или, как в Шотландии, пшеницы рожью и т. д.)
ВЛИЯНИЕ МАШИН НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
Рикардо говорит, что сначала его прежние взгляды были таковы:
Благодаря введению машин товары дешевеют. Следовательно, класс рабочих получает тем самым возможность «покупать больше товаров на
* — к сведению. Ред,
122
К. МАРКС
ту же самую денежную заработную плату. Последняя не падает, потому что капиталист в состоянии предъявлять спрос на то же самое количество труда и применять его, как и прежде, хотя он мог бы быть при этом вынужден использовать этот труд для производства нового или, по крайней мере, несколько видоизмененного товара. Если благодаря применению 1М машин можно было бы при том же количестве труда произвести в 4 раза больше чулок, чем прежде, тогда как спрос на чулки увеличился бы только вдвое, то часть рабочих по необходимости была бы уволена из чулочного производства. Но так как дававший им занятие капитал продолжал бы существовать и в интересах его владельцев было бы употребить его производительно, то мне казалось, что он был бы затрачен на производство какого-нибудь другого полезного товара, на который непременно был бы предъявлен спрос». Следовательно, тот же самый спрос на труд, стало быть, та же самая заработная плата и уменьшившаяся цена товаров, произведенных с применением машин (стр. 467—468) [стр. 319]. «Но теперь я убедился в том, что замена человеческого труда машинами часто наносит очень большой ущерб интересу трудящегося класса» (стр. 468) [стр. 319]. «Моя ошибка вытекала из предположения, что при возрастании чистого дохода общества должен возрастать также и его валовой доход; но тот фонд, из которого извлекают свой доход земельные собственники и капиталисты, может возрастать, хотя другой фонд, от которого зависит трудящийся класс, уменьшается. Отсюда следует, что та же самая причина, которая вызывает возрастание чистого дохода страны, может в то же время сделать ее население излишним и ухудшить положение рабочих» (стр. 469) [стр. 319—320].
Теперь же [Рикардо] доказывает,
что посредством машин прежде всего может быть произведено меньше валового продукта, от которого зависит содержание рабочих, и что то же самое число рабочих лишь в том случае снова сможет найти работу, если «увеличение производства даст в форме чистого продукта такое же количество продовольствия и предметов необходимости, какое раньше существовало в форме валового продукта» (стр. 471—472) [стр. 321]. После введения машин фабриканту достаточно производить меньше продукта, чем до этого; «ибо часть того количества, которая прежде предназначалась для оплаты большего числа рабочих, теперь уже не требуется их нанимателю» (стр. 472—473) [стр. 322]. «Мнение, которого придерживается трудящийся класс и согласно которому применение машин часто наносит ущерб его интересам, не основано на предрассудке или заблуждении, а соответствует точным принципам политической экономии... Если бы усовершенствованные в результате применения машин средства производства увеличили чистый продукт страны в такой степени, что уменьшения валового продукта не поелгдовало бы, то положение всех классов улучшается... положение трудящегося класса улучшится значительно: 1) вследствие увеличения спроса на домашнюю прислугу; 2) вследствие того, что указанное изобилие чистого продукта создает стимул к сбережениям за счет дохода; 3) вследствие низкой цены всех предметов потребления, на которые расходуется его заработная плата» (стр. 474—475) [стр. 323]. «Война, которая ведется за счет дохода, а не капитала страны, содействует росту населения, поскольку увеличивает спрос на людей» (стр. 477) [стр. 324]. После окончания войны эти люди вступают в конкуренцию с другими рабочими. Вследствие этого происходит «падение заработной платы и весьма существенное ухудшение положения трудящихся классов» (там же) [стр. 324-325]. [ VIII - 49] ш
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 123
[ VIII — 53] «Если бы я нанимал для своей фермы 100 человек и нашел, что продукты питания, предназначенные для содержания 50 из них, могли бы пойти на содержание лошадей и дать мне после уплаты процентов на капитал, затраченный на покупку лошадей, большее количество сырого продукта, то мне было бы выгодно заменить людей лошадьми, и я так и поступил бы. Но это было бы не в интересах рабочих, и если только мой доход [не] возрос бы до такой степени, чтобы дать мне возможность» содержать как лошадей, так и людей, «то очевидно, что появилось бы излишнее население и положение рабочих ухудшилось бы во всеобщем масштабе» (стр. 478) [стр. 325]. Однако «изобретения» усовершенствованных машин «совершаются постепенно и действуют скорее как фактор, определяющий сберегаемый и накопляемый капитал, чем как фактор, отвлекающий капитал от его текущего применения» (там же). «При всяком возрастании капитала и населения [цена] продуктов питания, как правило, увеличивается вследствие возросшей трудности их производства. Следствием повышения [цены] продуктов питания является повышение заработной платы, а всякое повышение заработной платы имеет тенденцию в еще большей степени, чем прежде, бросать сбереженный капитал на применение машин. Машины и труд находятся в постоянной конкуренции между собой, и первые часто могут быть применены лишь после того, как поднимется [цена] труда. В Америке и во многих других странах, где продукты питания человека добываются легко, нет такого искушения применять машины, как в Англии, где продукты питания дороги и для их производства требуется много труда. Та причина, которая повышает [цену] труда, не увеличивает стоимость машин, и, следовательно, при каждом увеличении капитала более значительная его часть затрачивается на машины. Спрос на труд продолжает [возрастать] по мере возрастания капитала, но не в той же пропорции, как последний; соотношение между ними неизбежно уменьшается» (стр. 478—479) [стр. 325—326] ш. «Рост чистого дохода, измеряемого в товарах, который всегда является следствием усовершенствования машин, влечет за собой новые сбережения и накопления. Эти сбережения имеют место ежегодно и должны скоро создать фонд, гораздо более значительный, чем валовой доход, первоначально утраченный вследствие изобретения машин. Тогда спрос на труд будет так же велик, как и прежде» (стр. 480) [стр. 326].
НАЛОГИ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
«Налоги на заработную плату повышают ее и потому уменьшают» прибыль с капитала. «Налог на предметы необходимости неизбежно сопровождается повышением их цены, а налог на заработную плату — нет. Поэтому налог на заработную плату совершенно не затрагивает ни земельного собственника, ни денежного капиталиста, ни какой-либо другой класс, за исключением тех, кто применяет наемный [труд]. Налог на заработную плату является целиком налогом на прибыль, налог на предметы необходимости — отчасти налогом на прибыль, отчасти налогом на богатых потребителей. Вот почему последствия, к которым в конце концов приводит налог на заработную плату, вполне тождественны последствиям прямого налога на прибыль» (стр. 245) [стр. 180]. «Естественная цена товаров, которая всегда, в конце концов, определяет их рыночную цену, зависит от легкости производства, но произведенное количество непропорционально этой легкости» (стр. 248) [стр. 182]. ««Цена труда безусловно выражает потребности общества по отношению к населению»
124
К. МАРКС
(говорит Мальтус)... Но если заработная плата рабочего была до сих пор лишь достаточной для содержания требуемого населения, то после введения налога на заработную плату она оказывается недостаточной» для покрытия этого фонда... «Поэтому только лишь вследствие повышения заработной платы предложение труда не прекратится» (стр. 250—251) [стр. 183—184]. «Верно, что цена облагаемого налогом товара не повышается пропорционально налогу, если спрос на товар уменьшается, а его количество не может быть уменьшено... Та же самая причина часто влияет на заработную плату. Число рабочих не может быть быстро увеличено или уменьшено пропорционально увеличению или уменьшению фонда, предназначенного на наем их, но в предположенном случае уменьшение спроса на труд не является необходимым, а если он и уменьшается, то непропорционально налогу. Средства, собираемые путем обложения, употребляются правительством также на содержание рабочих» (стр. 252) [стр. 184].
«Сами рабочие уплачивают лишь незначительную часть налогов вследствие уменьшения спроса на труд, тенденция к чему порождается налогообложением всякого рода» (стр. 269) [стр. 194—195].
(Здесь, как и везде, Рикардо всегда говорит о некотором постоянном капитале, который, будучи извлечен из одного предприятия, бросается в другое. Так, например, Рикардо полагает, что
если во Франции налог на соль привел к уменьшению производства соли наполовину, то, следовательно, на ее добывание нужно было затрачивать тоже только половину капитала по сравнению с прежним, а другую половину — на производство других товаров ш.
Но именно в такой стране, как Франция, капитал в значи тельной своей части состоит из небольшого недвижимого имущества крестьян вместе с их трудом. Следовательно, если какой-либо налог, вроде налога на соль, уменьшает ее производство, то капитал уничтожается, но отнюдь не высвобождается для какого-нибудь другого применения.)
ЕЩЕ ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ ПРИБЫЛЬЮ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ
Пожалуй, могут сказать, что денежная заработная плата не возрастает вместе с повышением цены сырого продукта, «так как рабочий может ограничиться меньшим количеством удовольствий. Действительно, заработная плата, вероятно, раньше стояла на высоком уровне и вследствие этого может вынести некоторое понижение. В этом случае падение прибыли задерживается, но невозможно представить, чтобы денежная цена заработной платы падала или оставалась неизменной в условиях постепенного повышения цены предметов необходимости» (стр. 117—118) [стр. 104] [ VIII — 5311в8.
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 125
V) О ПРИБЫЛИ
НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМЫ ПРИБЫЛИ.
ДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПРОДУКТА
МЕЖДУ КАПИТАЛИСТАМИ И РАБОЧИМИ
[ VIII — 56] «Совокупная стоимость товаров фермера, обрабатывающего ту землю, которая регулирует цену [хлеба], и фабриканта, производящего [промышленные] товары, делится только на две части: одна составляет прибыль на капитал, а другая — оплату труда» (стр. 107) [стр. 98]. «Если бы хлеб и промышленные товары всегда продавались по одним и тем же ценам, то прибыль была бы высока или низка пропорционально тому, низка или высока заработная плата. Если теперь цена хлеба возрастает вследствие того, что для его производства требуется большее количество труда, то заработная плата повысится, а прибыль упадет». Если фабрикант продает свои товары за 1 000 ф. ст., то его прибыль зависит от того, составляет ли заработная плата 800 или только 600 ф. ст. Повышение [цены] сырого продукта точно так же затрагивает и прибыль фермера... Ибо за это «ему либо приходится платить ренту, либо нанимать добавочное число рабочих, для того чтобы получить такой же продукт», причем повышенная цена сырого продукта соответствует лишь одному из этих двух добавочных расходов, но «но компенсирует ему повышение заработной платыш» (стр. 108) [стр. 98—99]. «Составляет ли принадлежащий фермеру продукт 180, 170, 160 или 150 квартеров, он всегда выручает» — как сначала за 180, так позднее за 170 квартеров и т. д, — «720 ф. ст. 17°, так как цена хлеба возрастает обратно пропорционально его количеству» (стр. 112— 113) [стр. 101]. «Прибыль никогда не может подняться так высоко, чтобы из 720 ф. ст. осталось недостаточно для снабжения рабочих предметами абсолютной необходимости; но и заработная плата никогда не может подняться так высоко, чтобы из этой суммы ничего не осталось для прибыли» (стр. ИЗ) [стр. 102]. «Мы оставляем без рассмотрения случайные изменения, происходящие от хороших или плохих урожаев или от увеличения или уменьшения спроса вследствие каких-либо внезапных перемен в состоянии населения. Мы говорим о естественной и постоянной цене хлеба» (стр. 114, примечание) [стр. 102]. «Следовательно, фермер весьма заинтересован в том, чтобы поддерживать естественную цену сырого продукта на низком уровне. С одной стороны, как потребитель, а с другой», как применяющий [наемный] труд (стр. 114) [стр. 102].
«Повышение [цены] сырого продукта не отражается лишь на цене немногих товаров, потому что некоторая часть сырого материала» всегда входит в их состав. Их [цены] «поднимаются потому, что на сырой материал, из которого они изготовляются, затрачивается больше труда, а не потому, что фабриканты больше платят рабочим, которых они применяют. Во всех случаях [цены] товаров повышаются потому, что на них затрачивается больше труда, а не потому, что затрачиваемый на них труд имеет более высокую стоимость. [Цены] ювелирных изделий, изделий из железа, листового металла и меди не повышаются, потому что в их состав не входит никакой сырой продукт, получаемый с поверхности земли» (стр. 117) [стр. 104]. «Одинаковое или почти одинаковое действие на прибыль произвело бы повышение цен других предметов необходимости (помимо продовольствия), на которые расходуется заработная плата» (стр. 118) [стр. 104]. Если рыночная цена какого-нибудь товара превышает его естественную цену, то прибыль в этой особой отрасли производства, разумеется, поднимется выше общего уровня прибыли. «Но это лишь временный
126
К. МАРКС
результат» (стр. 118—119) [стр. 105]. «Прибыль зависит от высокой или низкой заработной платы, заработная плата — от цены предметов необходимости, а цена последних — главным образом от цены продуктов питания» (стр. 119) [стр. 105].
«Итак, прибыль имеет естественную тенденцию падать, потому что с прогрессом общества и богатства добавочное количество продуктов питания требует затраты все большего и большего труда. Эта тенденция, это тяготение прибыли, приостанавливается в повторяющиеся промежутки времени благодаря усовершенствованиям машин, связанных с производством предметов необходимости, а также открытиям в агрономической науке, которые» ведут к уменьшению издержек производства (стр. 120— 121) [стр. 106]. Вместе с возрастанием естественной цены продуктов питания «возрастает также цена других предметов необходимости вследствие увеличения стоимости сырого материала, из которого они сделаны, что ведет к дальнейшему повышению заработной платы и понижению прибыли» (стр. 122—123) [стр. 107].
«Фермер и фабрикант так же не могут жить без прибыли, как рабочий беа заработной плата. Их побуждение к накоплению будет уменьшаться с каждым уменьшением прибыли и совершенно прекратится, когда их прибыль не будет давать им надлежащего вознаграждения за их хлопоты и риск», связанный с производительным применением их капитала (стр. 123) [стр. 107—108]. Впрочем, норма прибыли падала бы гораздо быстрее, чем это указано выше, ибо если [стоимость] продукта сильно повышается, то значительно увеличивается и стоимость капитала фермера, так как он с необходимостью состоит из многих таких товаров, цена которых повысилась. Если прибыль фермера составляла 6% на его первоначальный капитал, то теперь она составляет уже только 3%. Например, если 3 000 ф. ст. при 6% дают 180 ф. ст., то 6 000 ф. ст. при 3% также дадут 180 ф. ст. [прибыли]. А при этих обстоятельствах «только на таких условиях новый фермер, имеющий в кармане 6 000 ф. ст., может заняться сельским хозяйством» (стр. 123—124) [стр. 108].
Часть фабрикантов также получает некоторое вознаграждение. Так, «пивовар, водочный заводчик, фабрикант сукон, фабрикант холста отчасти компенсируются за уменьшение их прибыли повышением стоимости их запасов [VIII — 57] сырого материала и конечного продукта»; но такого вознаграждения не получают фабриканты металлических, ювелирных изделий и т. д., а также те, чей капитал состоит только из денег (стр. 124) [стр. 108].
С другой стороны: «Как бы ни уменьшалась норма прибыли на капитал вследствие накопления капитала в земледелии и повышения заработной платы, все же общая сумма прибыли должна возрасти. Так, предполагая, что с накоплением каждых новых 100 000 ф. ст. норма прибыли падает с 20 до 19, 18, 17%, мы можем ожидать, что общая сумма прибыли, полученная всеми последовательными собственниками капитала, будет всегда прогрессировать; что она будет больше, когда капитал составит 200 000 ф. ст., чем когда он равнялся 100 000; еще больше, когда он достигнет 300 000; и так она возрастает далее, хотя и в уменьшающемся отношении, с каждым возрастанием капитала. Однако это возрастание действительно имеет место только в течение определенного времени: так, 19% с 200 000 ф. ст. больше, чем 20% со 100 000; 18% с 300 000—больше, чем 19% с 200 000; но, когда накопленный капитал достигнет больших размеров, а прибыль упадет, дальнейшее накопление уменьшает сумму прибыли. Так, предположим, что накопление достигло 1 000 000, а прибыль равна 7%, тогда общая сумма прибыли составит 70 000 ф. ст.; если теперь к 1 000 000 прибавится капитал в 100 000 ф. ст., а прибыль
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 127
понизится до 6%, то собственники капитала получат 66 000 ф. ст., или на 4 000 ф. ст. меньше, хотя сумма капитала возросла с 1 000 000 до 1 100 000 ф. ст.» (стр. 124—125) [стр. 108—109]. «Однако пока капитал ■дает прибыль, невозможно такое накопление капитала, которое не вызывало бы возрастания не только количества, но и стоимости продукта. Добавочная затрата 100 000 ф. ст. добавочного капитала не сделает менее производительной ни одну из частей прежнего капитала. Продукт земли и труда должен возрасти, а его стоимость — увеличиться не только на стоимость добавлений к прежнему количеству продуктов, но и на новую стоимость, которая прибавляется ко всему продукту земли вследствие увеличения трудности производства последней его доли. Однако когда накопление капитала станет очень большим, то, несмотря на это возрастание стоимости, он будет распределяться таким образом, что на долю прибыли достанется меньшая стоимость, чем прежде, в то время как на долю ренты и заработной платы — большая»... На определенном этапе «земельные собственники и рабочие будут получать больше, чем этот добавочный продукт, и будут даже по своему положению в состоянии захватить часть прежней прибыли капиталиста... Действительно выигравшими оказались бы одни только земельные собственники, так как они получили бы» больше продукта и больше стоимости за него... Возросшая заработная плата оказалась бы для рабочих лишь номинальной, а [реальная заработная плата] даже упала бы... «Хотя произведена более значительная стоимость, но зато и более значительная часть того, что остается от этой стоимости после уплаты ренты, потребляется производителями, а именно этим и только этим регулируется прибыль... Более значительная доля той части продукта, которая остается после уплаты ренты и подлежит разделу между капиталистами и наемными рабочими, достанется последним. Каждый рабочий сможет, вероятно, получить меньше, но так как больше рабочих будет занято по отношению к величине всего продукта, удерживаемого фермером, то стоимость большей доли всего продукта будет поглощена заработной платой, и, следовательно, для прибыли остается стоимость меньшей доли» (стр. 125—128) [стр. 109—110].
Таким образом, норма прибыли «зависит от количества труда, требующегося для» производства "1 «предметов необходимости на той земле "", которая не приносит никакой ренты. Поэтому результаты накопления различны в разных странах и зависят в особенности от плодородия земли» (стр. 128) [стр. 110—111].
Мы видели, «что денежная цена товаров не возрастает вследствие повышения заработной .платы», независимо от того, является ли золото продуктом самой страны или нет. Но предположим, что имеет место иное соотношение, что цены товаров повышаются вследствие повышения заработной платы, тогда повышение заработной платы все же привело бы к уменьшению прибыли. «Предположим, что шляпочник, чулочник и сапожник платят каждый на 10 ф. ст. больше заработной платы и что» [цены] их продуктов также возросли на 10 ф. ст., так что «их положение не стало лучше. Если чулочник продает свои чулки за НО ф. ст. вместо 100 ф. ст., то его прибыль составляет такую же сумму денег, как и раньше, однако в обмен» за эти НО ф. ст. «он получит на 1/и) меньше шляп, башмаков и всех других товаров, и так как при этом прежнем размере своих сбережений он вследствие повышения заработной платы сможет нанимать меньше рабочих, а вследствие повышения цен покупать меньше сырого материала, то он будет не в лучшем положении, чем если бы его денежная прибыль realiter * уменьшилась, но цены всех предметов остались на
• — на самом деле, Ред,
128
К. МАРКС
прежнем уровне... Фактически понизилась бы лишь стоимость того посредника, который служит для исчисления цен и прибылей» (стр. 129— 130) [стр. 111].
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРИБЫЛЬЮ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ
«(Заработная плата могла бы повыситься на 20%, а прибыль вследствие этого — упасть в большей или меньшей пропорции, не вызывая ни малейшего изменения в относительной стоимости» различных товаров (стр. 23) [стр. 48].
«Прибыль зависит от заработной платы, но не от номинальной, а от реальной заработной платы; не от числа фунтов стерлингов, уплачиваемых ежегодно рабочему, а от числа дней труда, необходимого для получения этих фунтов. Поэтому заработная плата может быть совершенно одинаковой в двух странах; [ VIII — 58] она может также находиться в одинаковом отношении к ренте и ко всему продукту, получаемому с земли, хотя бы в одной стране рабочий получал 10 шилл. в неделю, а в другой — 12» (стр. 152—153) [стр. 123].
«Чем меньше приходится на долю заработной платы, тем пропорционально больше приходится на долю прибыли, и vice versa *» (стр. 500) [стр. 338].
Большинство противников Рикардо — таких, как, например, Уэйкфилд 173 — утверждают, что он не может объяснить избытка [стоимости]. Так, например, фабрикант расходует 30 ф. ст. на сырой материал, 20 на машины, 50 на заработную плату — итого 100 ф. ст. Он продает свой товар за 110 ф. ст. Откуда происходят 10 ф. ст.? Предположим, что фабрикант расходует теперь 50 ф. ст. на машины, 30 на сырой материал, 20 на труд — итого 100 ф. ст. и продает свой товар, как и прежде, за 110 ф. ст. В какой связи с заработной платой находятся эти 10 ф. ст.? Ведь прибыль фабриканта зависит от того, за сколько он продает свои 100 ф. ст., а не от того, сколько стоит ему труд. Так, значит, она зависит от торговли? Но кто платит фабриканту 10 ф. ст.? Купец. А от кого этот купец получает в уплату эти 10 ф. ст.? От другого купца. А тот? В конечном счете от потребителя. Но кто этот потребитель? Это неизбежно земельный собственник, фабрикант или рабочий. Если это земельный собственник, то из чего он платит? Из своей ренты. Если фабрикант? Из своей прибыли. Если рабочий, то из своей заработной платы. Но рента и заработная плата сами представляют собой части стоимости продукта фабриканта. Таким образом, 10 ф. ст. сверх 100 уплачиваются ему в торговле только потому, что он или какой-либо другой фабрикант первоначально уже создали эти 10 ф. ст. в своем производстве. Это ясно. Купцы,
* — наоборот. Ред,
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 129
а в конечном счете и производители могут надувать друг друга. Если совокупный избыток составляет 100, то при обмене один может получить 20, второй 40, третий 10, четвертый 8, пятый 6, шестой 4, седьмой 2% от этого совокупного избытка и т. д. Но для того чтобы у кого-либо из них после возмещения им совокупного капитала остался некоторый избыток, последний сам по себе должен быть в наличии. Те относительные прибыли, которые они получают путем обманного дележа, представляют собой лишь неравное распределение совокупного избытка. Но для распределения должно быть в наличии нечто, подлежащее распределению: чтобы прибыль могла быть неравной, предполагается наличие самой прибыли. Поэтому избыток не объясняется посредством торговли, хотя из нее можно объяснить отдельную чрезвычайную прибыль. Такое объяснение отпадает с самого начала, если задаются вопросом об избытке у всего класса промышленных капиталистов. Ведь этот избы ток нельзя объяснить тем, что они обкрадывают самих себя как класс.
Точно так же [скажут, что] прибыль может постоянно воз растать в одной стране вследствие того, что один класс, промыш ленников, совершает надувательство по отношению к классу земельных собственников. Но предполагаемый доход каждого имущего класса должен происходить из производства, а значит, с самого начала он должен представлять собой вычет из прибыли или из заработной платы.
Или, быть может, скажут, что возрастает совокупный про дукт. Капиталист вкладывает в производство 100, а получает продукта на 110. После того как он возместит все свои расходы, у него, таким образом, сверх этого остается 10. Однако здесь речь идет о стоимости, а стоимость является величиной относительной: она представляет собой не количество, а его отношение к некоему третьему. Этим третьим может быть только рабочий класс. Для того чтобы стоимость прибыли повышалась, в наличии должно быть нечто третье, стоимость которого падает. Если говорят, что капиталист из 100 расходует 30 на сырой материал, 20 на машины, 50 на заработную плату, а затем продает эти 100 за 110, то при этом забывают, что если бы он был вынужден израсходовать на заработную плату 60, то при продажной цене в 110 он не получил бы вовсе никакой прибыли — ни 8, ни 2% и т. д. Он обменивает свой продукт на другой про дукт, стоимость которого определяется рабочим временем, затраченным на его производство. Он продал продукт, скажем, 20 рабочих дней и обменивает его на некий другой продукт. Избыток состоит не в этом обмене, хотя и реализуется только в нем.
130
К. МАРКС
Избыток состоит в том, что из этого продукта, который стоит 20 рабочих дней, рабочий получает только продукт 10 и т. д. рабочих дней. В той же самой мере, в какой увеличивается производительная сила труда, стоимость заработной платы уменьшается "*.
НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА
[ VIII — 59] «Когда население давит на средства существования, единственными средствами исцеления от зла являются или уменьшение населения, или более быстрое накопление капитала. В богатых странах, где вся плодородная земля уже поступила в обработку, последнее средство и не очень практично, и не очень желательно, потому что его результатом при слишком усердном применении будет одинаковая бедность всех классов. Но в бедных странах — это единственное средство для устранения зла» (стр. 94—95) [стр. 90].
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВЛИ НА ПРИБЫЛЬ
Влияние внешней торговли.
«Капитал можно накоплять двояким способом. Он может сберегаться вследствие увеличения дохода или уменьшения потребления. Если моя прибыль повысится с 1 000 до 1 200, в то время как мои расходы останутся прежними, то ежегодно я буду накоплять на 200 ф. ст. больше, чем раньше. Если я сберегу 200 ф. ст. на своих расходах, в то время как моя прибыль останется прежней, то результат будет тем же самым: к моему капиталу будет прибавляться по 200 ф. ст. в год... Если вследствие применения машин [стоимость] совокупности товаров, на которые тратился мой доход, упадет на 20%, то я могу делать сбережения столь же успешно, как если бы мой доход повысился на 20%; но в одном случае норма прибыли остается без изменения, в другом она повышается на 20%. Если благодаря ввозу» иностранного хлеба 175 «я могу сберечь 20% на своих расходах, результат будет совершенно таким же, как если бы машины понизили издержки его производства, но прибыль не повысилась бы. Поэтому норма прибыли повышается не вследствие расширения рынка, хотя такое расширение также может содействовать увеличению массы товаров и тем самым дать нам возможность увеличить фонды, предназначенные для содержания труда и [приобретения] материалов, к которым будет приложен труд... Если благодаря расширению внешней торговли — то же самое, что и усовершенствования в машинах,— продукты питания и предметы необходимости рабочего могут быть доставлены на рынок по пониженным ценам, то прибыль возрастет». В противном случае прибыль не возрастет... «Норма заработной платы не изменится также и в том случае, если вино, бархат, шелк и другие дорогие товары упадут в цене на 50%, и, следовательно, прибыль останется неизменной. Поэтому хотя внешняя торговля весьма полезна для страны тем, что увеличивает массу и разнообразие предметов, на которые может расходоваться доход, и создает благодаря обилию и дешевизне товаров стимулы к сбережению и накоплению капитала, однако она не имеет тенденции увеличивать, повышать прибыль» (т. е. норму прибыли) «с капитала, если только ввозимые товары не принадлежат к категории тех, на которые расходуется заработная плата» (стр, 135-138) [стр, 114^1161.
О КНИГЕ Д . РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 131
Сэй говорит: ««Торговля дает нам возможность получать товар в том месте, где он производится, и доставлять его в другое место, где он будет потреблен. Она поэтому дает нам возможность увеличить стоимость товара на всю величину разности между его ценой в одном месте и его ценой в другом». Верно, но каким образом товар получает эту добавочную стоимость? Путем прибавления к издержкам производства, во-первых, издержек по доставке, во-вторых, прибыли на капитал, авансированный торговцем. Данный товар стоит больше по той же самой причине, по которой каждый товар будет стоить больше, так как на его производство и доставку затрачено больше труда до того, как он был куплен потребителем. Это не следует считать одним из преимуществ торговли. Если мы исследуем этот предмет внимательнее, мы увидим, что все выгоды торговли сводятся к тому, что она дает нам средства приобрести не более ценные, а более полезные предметы» (стр. 309—310, примечание) [стр. 219].
Влияние внутренней торговли.
«Сказанное о внешней торговле приложимо и к внутренней. Норма прибыли никогда не повышается вследствие лучшего разделения труда, изобретения машин», улучшения путей сообщения «или каких-либо способов сокращения труда в производстве или при перевозке товаров. Эти причины влияют на цену и приносят весьма большую пользу потребителю»: он получает больше товаров за тот же самый труд или за стоимость [продукта] того же самого труда; «но они не оказывают никакого воздействия на прибыль. С другой стороны, всякое уменьшение заработной платы повышает прибыль»
(стало быть, [ VIII — 60] также и в тех случаях, когда это уменьшение происходит по иным причинам, нежели падение [цены] продуктов питания),
«но не оказывает никакого воздействия на цену товаров. Одно выгодно всем классам, потому что все классы являются потребителями; другое приносит пользу только производителям; они получают больше f ;>ибыли, но цена каждого товара остается без изменения» (стр. 138) I тр. 116].
ВНЕЗАПНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ХОДЕ ТОРГОВЛИ
«В богатых и могущественных странах, где огромные капиталы затрачены на машины, внезапное изменение в ходе торговли вызывает больше бедствий, чем в более бедных странах, где существует пропорционально меньшее количество основного и гораздо большее количество оборотного капитала и где, следовательно», преобладает ручной труд. Оборотный капитал легче переместить из одной сферы приложения в другую, чем основной. «Часто невозможно машины, созданные для одной цели, использовать для целей другого производства; но одежда, продовольствие и жилище рабочего, занятого в одной отрасли, могут хорошо служить для использования его в другой отрасли промышленности; иными словами, тот же самый рабочий может получить ту же самую пищу, одежду и жилище, несмотря на то что он переменил свое занятие. Это, однако, зло, которому с необходимостью подвержена богатая нация. Жаловаться на него было бы не более разумно, чем богатому купцу сетовать на то, что его корабль подвергается опасностям на море, тогда как домишко его бедного соседа избавлен от таких превратностей» (стр. 311) [стр. 220].
132
К. МАРКС
ВЛИЯНИЕ НАКОПЛЕНИЯ НА ПРИБЫЛЬ И ПРОЦЕНТ
«Никакое накопление капитала не ведет к постоянному понижению прибыли, если отсутствует причина, вызывающая повышение заработной платы... А. Смит приписывает падение» прибыли 176 «накоплению капитала и возникающей в результате этого конкуренции... Но если капитал увеличился, то и объем работы, подлежащей выполнению с помощью этого капитала, возрастает в той же самой пропорции... Нет такой суммы капитала, которую нельзя было бы применить в какой-нибудь стране только потому, что спрос ограничен производством... Совершая акт производства, производитель становится потребителем своих собственных товаров или покупателем и потребителем товаров других лиц»... В Голландии прибыль упала потому, что эта страна «была вынуждена ввозить почти весь потребляемый ею хлеб», и, кроме того, заработная плата возросла вследствие «обложения тяжелыми налогами предметов необходимости, потребляемых рабочими» (стр. 338—340) [стр. 238—239].
( (Рикардо упускает здесь из виду то, что мы заметили уже раньше, при рассмотрении его определения стоимости 177, а именно, что обмен является существенным условием ее определения. Конечно, капиталист может всегда обмениваться с рабочим. Но он обменивается с ним лишь до тех пор, пока он может обменивать продукт его труда с прибылью. Этот обмен ограничен средствами и потребностями других в каждом определенном товаре, который может быть произведен в пределах какой-либо страны и даже какого-либо данного рынка в составе мирового рынка. Именно отсутствие пропорциональности между рынком — обменивающимися — и капи талом, диспропорциональность производства в определенной стране толкает [капитал] на мировой рынок, а также с одного рынка на другой Пропорциональное — в буржуазных рамках, разумеется, — производство в условиях современной промышленности нуждается именно в мировом масштабе, для того чтобы посредством производства вызывать ответное производство и тем самым действительный спрос.)
Рикардо помогает себе против А. Смита тем, что [в ответ на его мнение:]
часть капитала [производит] «избыток, который необходимо послать за границу и обменять на нечто такое, на что имеется спрос внутри страны»,
говорит:
кто же вынуждает нас тогда «производить избыток хлеба, шерстяных и металлических товаров»? Ведь если применение какой-либо части капитала в их производстве оказывается невыгодным, то «капитал перемещается в некоторую^}
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 133
(в слове «некоторую» как раз и заключается суть вопроса)
«более выгодную сферу применения»... Переполнение рынка может иметь место только в отношении какого-либо отдельного товара, но никогда не может иметь места в отношении всех товаров... «Накопление капитала только в одном случае может сопровождаться падением прибыли», хотя бы продукты питания и были дешевы, «а именно: когда фонды для содержания труда растут быстрее, чем население,— тогда заработная плата будет высока, а прибыль низка... Если купцы вкладывают свои капиталы во внешнюю торговлю или в транспорт, то это всегда происходит по их выбору и никогда — в силу необходимости: только потому, что [ VIII — 61] в данной отрасли их прибыли будут несколько выше, чем во внутренней торговле» (стр. 341—344) [стр. 240—241].
(В высшей степени скудная реплика Рикардо с его «изготовлением некоторого другого вида товаров». Он говорит:
«Если бы мы нуждались в бархате»
(и были бы изолированы от внешней торговли),
«то разве мы не могли бы попытаться изготовлять бархат? И если бы нам это не удалось, то разве мы не могли бы изготовлять больше сукна или некоторого другого предмета, желательного для нас?» (стр. 346) [стр. 243].))
«Хотя норма процента всегда регулируется в конечном счете нормой прибыли, она подвержена временным колебаниям и в силу других причин... Если рыночная цена товаров падает вследствие роста предложения или уменьшения спроса либо вследствие повышения стоимости денег, то фабрикант накапливает у себя необычное количество готовых товаров, которые он не желает продавать по очень низким ценам. Для того чтобы произвести свои обычные платежи, в которых он обычно зависел от продажи своих товаров, он прибегает к кредиту и должен часто платить возросшую норму процента. Однако это только временное явление»... В течение определенного промежутка времени на процент действует также увеличение количества денег [вследствие] злоупотребления банков, хотя в конечном счете оно ведет к повышению цен товаров. «Курс государственных бумаг не является надежным критерием для нормы процента». Во время войны займы выпускаются один за другим настолько часто и ожидание политических событий оказывает такое влияние, что «курс ценных бумаг не имеет времени для стабилизации на справедливом уровне. Напротив, в мирное время операции фонда погашения и нежелание» разных лиц 178 «изъять свои средства из этой привычной для них сферы вложения денег,— которую они считают надежной и в которой им регулярно выплачиваются дивиденды,— приводят к повышению курса ценных бумаг и, следовательно, к падению процента на них ниже рыночного уровня». Кроме того, «правительство платит неодинаковый процент за разные ценные бумаги. Капитал в 100 ф. ст. в 5%-ных бумагах» часто «продается за 95 ф. ст., а билеты казначейства в 100 ф. ст., которые приносят процент, равный лишь 4 ф. ст. 11 шилл. 3 пенсам», часто 17в «продаются за 100 ф. ст. 5 шилл., потому что банкиры предъявляют спрос на определенную часть этих билетов казначейства как на надежное и легко реализуемое вложение денег» (стр. 349-351) [стр. 245-2461.
134
К. МАРКС
О ВАЛОВОМ И ЧИСТОМ ДОХОДЕ
«А. Смит постоянно превозносит те выгоды, которые страна извлекает из большого валового дохода, по сравнению с выгодами, доставляемыми большим чистым доходом»,
(а отсюда и выгоды применения большей части капитала или всего капитала в земледелии). (Против этого выступает теперь Рикардо.) (Отсюда также данное А. Смитом 180 расположение отраслей по степени их полезности: земледелие, мануфактура и в последнюю очередь капитал, применяемый во внешней торговле.)
«Совокупный продукт какой-либо страны делится на три части: одна часть определяет заработную плату, другая — прибыль, третья — ренту. Только из двух последних частей могут быть произведены вычеты на налоги или на сбережения. Для собственника капитала в 20 000 ф. ст., приносящего ему ежегодно 2 000 ф. ст. прибыли, безразлично, применяет ли его капитал 100 или 1 000 человек, продается ли произведенный товар за 10 000 или за 20 000 ф. ст. Не таков ли и реальный интерес целой нации? Если только ее чистый реальный доход, ее рента и прибыль оказываются неизменными, то безразлично, состоит ли эта нация из 10 или 12 миллионов жителей. Ее способность содержать армию и флот и всякого рода непроизводительный труд должна быть пропорциональна ее чистому, а не валовому доходу. Если 5 миллионов человек могли бы произвести столько предметов питания и одежды, сколько необходимо для 10 миллионов, то предметы питания и одежды для 5 миллионов составили бы чистый доход. Разве будет какая-либо выгода, если для производства такого же чистого дохода потребуется 7 миллионов, т. е. если 7 миллионов будут заняты только производством предметов питания и одежды для 12 миллионов?.. Применение большего числа людей не дало бы нам возможности ни увеличить численность армии и флота хотя бы на одного человека, ни внести хотя бы одну лишнюю гинею в виде налога» (стр. 415—417) [стр. 284—285]. «При распределении сфер предпринимательской деятельности между всеми странами капитал более бедных наций будет, естественно, применяться в таких сферах предпринимательства, которые дают возможность содержать большое количество труда внутри страны, так как в таких странах легко получить предметы питания и необходимости для растущего населения. Напротив, в богатых странах, где продовольствие дорого, капитал при свободе торговли будет, естественно, притекать в такие сферы, которые требуют содержания внутри страны минимального количества труда: в такие, как транспорт, внешняя торговля с отдаленными странами, а также в отрасли, требующие дорогостоящих машин; в отрасли, где прибыль пропорциональна не применяемому» ручному «труду, а применяемому капиталу» (стр. 418) [стр. 286].
[ VIII — 62] «Различие между валовым и чистым доходом важно потому, что все налоги должны уплачиваться из чистого дохода общества. Предположим, что все товары в стране (весь хлеб, сырой продукт, промышленные товары и т. д.), которые могут быть доставлены на рынок в течение года, имеют стоимость в 20 миллионов и что для получения этой стоимости необходим труд определенного числа людей, а удовлетворение самых насущных потребностей этих рабочих требует расхода в 10 миллионов. Валовой доход такого общества составляет 20, чистый доход — 10 миллионов, Из этого предположения не следует, что рабочие должны были бы
О КПИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 135
получить за свой труд только 10 миллионов; они могли бы получить 12, 14 или 15 миллионов [и в этом случае они получили бы 2, 4 или 5 миллионов] из чистого дохода. Остаток был бы разделен между земельными собственниками и капиталистами, но весь чистый доход не превышал бы 10 миллионов. Если такое общество платит 2 миллиона в виде налогов, то его чистый доход уменьшится до 8 миллионов» (стр. 512— 513) [стр. 346].
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
«Налоги на предметы роскоши падают только на их потребителей». Налоги на предметы необходимости, поскольку они ведут к повышению заработной платы, падают на предпринимателя по только как на потребителя, но затрагивают также норму прибыли (стр. 231) [стр. 172]. «Частичный налог на прибыль повышает цену того товара, на который он падает... Если бы налог, пропорциональный прибыли, был установлен во всех отраслях производства, то повысились бы цены всех товаров. Если бы рудник, доставляющий материал, из которого изготовляются наши деньги, также находился внутри страны и если бы налог падал также на прибыль владельцев этого рудника, то ни у какого товара но повысилась бы цена... Если бы деньги не были обложены налогом и поэтому сохраняли свою стоимость», то налог равномерно падал бы на одинаковые прибыли с одинаковых капиталов. «Если налог составляет 100 ф. ст., то стоимости шляп, сукна и хлеба возрастут каждая на 100 ф. ст. Если фабрикант шляп выручает за свои шляпы прибыль в 1 100 ф. ст. вместо 1 000 и платит правительству в виде налога 100 ф. ст., то у него остается 1 000 ф. ст. для расходов на собственное потребление. Но так как в силу той же самой причины повысятся цены сукна, хлеба и всех других товаров, то фабрикант шляп за свои 1 000 ф. ст. получает не больше, чем прежде за свои 910, и таким образом, уменьшая свои личные расходы, он будет участвовать в покрытии требований государства. Уплачивая налог, он, вместо того чтобы самому потребить некоторую часть продукта земли и труда страны, предоставляет ее в распоряжение правительства. Если, вместо того чтобы израсходовать 1 000 ф. ст., он присоединит их к своему капиталу, то обнаружит, что это сбережение в 1 000 ф. ст. вследствие повышения заработной платы и возросших издержек на сырой материал и машины составляет теперь не больше, чем прежнее сбережение в 910 ф. ст.» (стр. 232—233) [стр. 172—173]. «Но хотя цены всех товаров повышаются даже при отсутствии налога на деньги, они повышаются не в одинаковой пропорции; после обложения налогом товары находились бы не в таком же [стоимостном] отношении друг к другу, как до обложения... Мы видели, что два фабриканта могут применять капиталы совершенно одинакового размера и поэтому получать совершенно одинаковую сумму прибыли, но их товары будут продаваться за весьма различные суммы денег, смотря по тому, быстро или медленно потребляются и воспроизводятся применяемые ими капиталы». Привнесение налогов изменяет здесь прежнее соотношение независимо от того, облагается ли налогом непосредственно доход или «сами товары облагаются налогом пропорционально капиталу, применяемому для их производства» (стр. 234—235) [стр. 174]. Отсюда следует, что в стране, где существует налогообложение, изменение в стоимости денег, вызываемое их недостатком или избытком, влияет на цены Всех товаров неравномерно... «Если бы в этом случае цены всех товаров повысились пропорционально падению стоимости денег, то прибыли Оказались бы неодинаковыми» (стр. 236—237) [стр. 175].
136
К. МАРКС
МАШИНЫ И НАЛОГИ. ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛЬ
«Изобретение машин, улучшающих отечественную промышленность, всегда имеет тенденцию повышать относительную стоимость денег, а следовательно, и поощрять их ввоз. Напротив, всякое налогообложение, всякое увеличение препятствий, которые ставятся предпринимателям в производстве промышленных или земледельческих товаров, имеют тенденцию понижать относительную стоимость денег, а стало быть, поощрять их вывоз» (стр. 243—244) [стр. 179].
НАЛОГИ НА ДРУГИЕ ТОВАРЫ, ПОМИМО СЫРОГО ПРОДУКТА
Цена всякого отдельного товара, который облагается налогом, повышается на сумму этого налога (стр. 281) [стр. 202]. Для покрытия военных расходов берутся внаймы, например, 20 миллионов. Эти деньги расходуются. Они «изымаются из производительного капитала страны». Ежегодные налоги в 1 миллион, взимаемые для уплаты процентов по этому долгу, [ VIII — 63] представляют собой лишь перемещение, «перенос от тех, кто их платит, тем, кто их получает, от плательщиков налогов» получателям налогов ш. «Реальный расход составляют эти 20 миллионов, а ш проценты, которые должны быть за них уплачены. От того, будет уплачен этот процент или нет, страна не станет ни богаче, ни беднее». Правительство могло бы также сразу истребовать эти 20 миллионов, для того чтобы выплатить их обратно. «Это ничего не меняет в природе сделки» (стр. 282-283) [стр. 203].
(Но таким образом оказывается, что те, кто предоставляет правительству деньги взаймы, ссужают не свои деньги, а деньги налогоплательщиков, сами же более или менее освобождены от уплаты налога, что, следовательно, вся сделка оказывается лишь видимостью. Но, скажут нам, налог падает на цену товаров и затрагивает каждого в той мере, в какой он является потребителем или предпринимателем. А одним из этих двух каждый имущий является наверняка. Но primo *: мы можем предположить, что предприниматели никогда не ссужают, а всегда берут в долг. Это общее правило. Как же в противном случае мог бы воспроизводиться капитал страны? А если часть предпринимателей, составляющая, быть может, 1/3 их общего числа, вместо того чтобы незанятый в производстве капитал превращать в производительный, применяет свой собственный капитал непроизводительно? Следовательно, случай 1-й — предприниматель — отпадает. Остается еще теперь только потребитель. Secundo **: если заимодавец скуп или потребляет свои дивиденды за границей, то в качестве потребителя он
* — во-первых. Ред. •* — Во-вторых, Рев,
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 137
покрывает лишь незначительную часть повышения цен или не покрывает вовсе никакой его части. Он просто вынудил других налогоплательщиков предоставить правительству взаймы 1 000, 2 000 ф. ст. и т. д., например для войны против рево люции, хотя они могут относиться к этой войне весьма недоброжелательно. Таким образом, заимодавец не должен платить ни одного сантима из тех денег, которые он предоставляет правительству взаймы. Он ссужает ему только деньги profanum vulgus *. A затем потребление этого субъекта не находится ни в каком отношении к той сумме годового продукта нации, которую он по собственному благоусмотрению предоставил в распоряжение правительства. Как распределяется эта сумма, на кого падает налог и как он в неодинаковой степени повышает цены, — все это чисто случайно и, как только дело касается массы [населения], должно распространяться на потребляемые ею товары, стало быть, как раз на те товары, в потреблении которых заимодавец ex professo ** принимает самое незначительное участие. Те люди, для которых предоставление денег взаймы является не предпринимательством, а средством существования, вовсе не принимаются здесь во внимание. Наконец: после какой-нибудь войны и т. д. все падает в цене — как хлеб, так и промышленные товары — по причинам, которые не подлежат здесь рассмотрению. Таким образом, налоговое обложение товара — что в условиях тяготеющего над всем налогового пресса и без того является чисто номинальным — переходит в свою противоположность. Денежная цена всех товаров падает. Таким образом, заимодавец не только ежегодно получает обратно предоставленный взаймы капитал (постоянный государственный долг возмещает ему больше, чем капитал с обычными процентами и прибылями), но и увеличивает свой капитал в равной мере и качественно, и количественно. Таким образом, государственный кредитор не только предоставляет взаймы деньги других, он ссужает эти деньги на самых выгодных для себя условиях, на которых другие никогда не могли бы ссудить их. Другие платят, а он получает деньги обратно. Он обложил нацию налогом, от которого освободил самого себя полностью или в наибольшей части и который превратил в источник своего дохода. Следовательно, с точки зрения буржуазного радикализма нация даже в политико-экономическом отношении не обязана платить государственный долг. А с революционной точки зрения «il n'en faut pas parler» ***.)
* — невежественной толпы. Ред. •• — по роду своих занятий, по профессии. Гед. "* — «об втом не следует и говорить». Ред.
138
К. МАРКС
[ VIII — 64] Правда, Рикардо полагает:
Если правительство потребовало от меня немедленно уплатить целиком 2 000 ф. ст., вместо того чтобы я выплачивал по 100 ф. ст. ежегодно, то я, пожалуй, буду вынужден, вместо того чтобы затронуть свой собственный производительный капитал, занять эти 2 000 ф. ст. в долг у част ного лица и ежегодно выплачивать ему по 100 ф. ст. в виде процентов (стр. 283—284) [стр. 203].
Плачу я эти деньги частному лицу или правительству — какая разница? Рикардо сам дает ответ:
«Страна беднеет именно вследствие расточительных расходов правительства и частных лиц, а также вследствие займов» (стр. 285—286) [стр. 204].
Однако, любезный, что дает Вам гарантию в том, что правительство, потребовав сразу, например, по тысяче франков с каждого индивида, преуспеет в этой операции? Кто же дает ему, стало быть, средства для «расточительных расходов», как не те самые биржевые и денежные спекулянты, которые знают заранее, что они не только ничего не проиграют при этом, но выиграют, предоставляя взаймы не принадлежащие им деньги остальной массы общества?
Конечно, государственные долги следует рассматривать также и с другой точки зрения.
«Никакой фонд погашения не может привести к уменьшению долга, если он не получен от превышения государственными доходами государст венных расходов» (стр. 288) [стр. 206]. «Капитал держателя государственных бумаг никогда не может быть сделан производительным — в действительности это вовсе не капитал»
(а значит, чистая фикция).
«Если он продает свои ценные бумаги, для того чтобы производительно употребить полученный за них капитал, то он мог бы сделать это, лишь отвлекая капитал покупателя его бумаг от производительного применения» (стр. 289 [примечание]) [стр. 207].
НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (стр. 457—459) [стр 312-313]
[Эта глава] не содержит ничего, кроме нескольких, не имеющих значения замечаний против Сэя и Сисмонди.
НАЛОГИ НА ДОМА
«Кроме золота существуют еще и другие товары, количество которых не может быть быстро уменьшено. Поэтому всякий налог на такие товары упадет на их собственника, если возрастание их цены приводит к уменьшению спроса. К налогам такого рода относятся налоги на дома: хотя
О КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» 139
они взимаются с арендаторов, они, вследствие уменьшения ренты, часто падают и на собственника земли. Продукт земли», так же как продукт промышленности, «потребляется и воспроизводится из года в год. То же самое происходит со многими другими товарами. И так как количество их вследствие этого можно быстро привести к одному уровню со спросом, то [цена] их не может долго превышать естественную цену. Но налог на дома можно рассматривать как дополнительную ренту, уплачиваемую арендатором. Этот налог имеет поэтому тенденцию уменьшать спрос на дома, доставляющие такую же годовую ренту, не уменьшая их предложения. Поэтому рента падает, и часть налога уплачивается собственником земли» (стр. 226) [стр. 168].
VI ) О НАЛОГАХ НАЛОГИ ПАДАЮТ НА КАПИТАЛ ИЛИ ДОХОД
«Налоги уплачиваются в конечном счете или из капитала, или из дохода страны... Если годовое производство данной страны превышает ее годовое потребление, то ее капитал возрастает; когда годовое потребление даже не покрывается годовым производством, ее капитал уменьшается. Поэтому капитал может увеличиваться или вследствие увеличения производства, или вследствие уменьшения непроизводительного потребления». От того, соответствует ли потреблению правительства увеличение производства или уменьшение потребления со стороны народа, зависит, падают ли налоги на доход и оставляют ли они национальный капитал незатронутым или же, в противном случае, падают ли налоги на капитал и таким образом уменьшают фонд, предназначенный для производительного потребления. «Все продукты страны потребляются, но существует величайшая разница между потреблением их» теми, кто их воспроизводит, и теми, кто [не] воспроизводит новую стоимость ш. «Когда мы говорим, что доход сберегается и прибавляется к капиталу, то подразумеваем, что он потребляется производительными рабочими вместо непроизводительных... В соответствии с уменьшением капитала страны уменьшается и ее производство, и поэтому если правительство и народ осуществляют непроизводительные расходы, а годовое производство постоянно уменьшается, то ресурсы идут на убыль» и т. д. «Громадные расходы английского правительства» в ходе контипентальной войны ш «более чем уравновешивались ростом национального производства... Все налоги имеют тенденцию сдерживать интенсивность [ VIII — 65] накопления... Если они падают на капитал, то» они непосредственно тормозят производительную деятельность. «Если же они падают на доход, то они либо уменьшают накопление, либо заставляют налогоплательщиков для покрытия их уменьшать на соответствующую величину свое прежнее непроизводительное потребление предметов необходимости и роскоши»... Также и налоги на капитал могут падать на доход, если я соответственно уменьшаю свои расходы (стр. 162—165) [стр. 129—131]. «Налогообложение в любой форме представляет собой лишь выбор из различных зол; если оно не влияет на прибыль или другие источники дохода, то оно должно влиять на расходы; и если предположить, что бремя его распределяется равномерно и не подавляет воспроизводство, то безразлично, на что падает налог... Скряга может уклониться от уплаты налогов на расход, но от уплаты налогов на прибыль, прямых или косвенных, он уклониться не может... Если я имею 1 000 ф. ст. годового дохода и должен уплатить налогов на сумму в 100 ф. ст., то для меня безразлично, плачу ли я их непосредственно из своего дохода,
6 М. и э., т. 44
140
К. МАРКС
оставляя себе только 900 ф. ст., или я^е плачу больше на 100 ф. ст. за свои земледельческие или промышленные товары» (стр. 184—185) [стр. 141—142]. «Все, что увеличивает меновую стоимость товаров, на которые существует наиболее повсеместный спрос, препятствует как обработке земли, так и производству. Но это зло неразрывно связано с налогообложением... Каждый новый налог превращается в новую тягость для производства и повышает естественную цену. Та часть труда страны, которой располагал прежде плательщик налога, теперь попадает в руки государства и поэтому не может быть применена производительно» (стр. 206) [стр. 155]. «Односторонний 184 налог на прибыль никогда не падает на ту отрасль, которая им обложена, так как предприниматель либо прекратит свою деятельность [в данной отрасли], либо возместит себе этот налог» (стр. 210) [стр. 157]. «Налоги никогда не могут быть распределены так равномерно, чтобы влиять в одном и том же отношении на стоимость всех товаров и по-прежнему сохранять их относительную стоимость на одном и том же уровне» (стр. 276) [стр. 199]. «Налоги на предметы необходимости не представляют никаких особенных неудобств. Прибыль действительно понижается, но только на сумму, равняющуюся доле рабочего в уплате налога, а эта доля должна быть уплачена во всяком случае либо предпринимателем, либо потребителем продукта труда рабочего» (стр. 384) [стр. 265—266].
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ ВСЛЕДСТВИЕ НАЛОГОВ
И ДЕНЬГИ
Не требуется «больше денег для обращения того же количества товаров, если цены их повысились вследствие налогообложения, а не вследствие увеличения трудности их производства». Если цена товаров повышается, то я проедаю за ту же самую цену меньшее количество. Остаток проедается правительством. Оно получает деньги, требуемые для покупки этих товаров, облагая налогом отдельные товары. Фабрикант или фермер получают этот налог от населения. Скрытый натуральный налог (примечание на стр. 242—243) [стр. 179].
VII ) ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ (НАЧАЛО КНИГИ)
«Продукт вемли — все, что получается о ее поверхности путем совмест ного приложения труда, машин и капитала,— распределяется между тремя классами общества, а именно: собственниками земли, владельцами капи тала, необходимого для ее обработки, и рабочими, трудом которых она обрабатывается. Но доли совокупного продукта земли, достающиеся каждому И8 этих трех классов под именем ренты, прибыли и заработной платы, весьма различны на разных ступенях развития общества в зависимости главным образом от существующего плодородия почвы, накопления капитала и роста населения, а также от мастерства и изобретательности работников и от орудий, применяемых в земледелии. Определить законы, которые регулируют это распределение, — главная задача политической экономию) (предисловие, начало) [стр. 30]. [ VIII — 65]185
[ 141
К. МАРКС
РАЗМЫШЛЕНИЯ 18«
[ VII —48] Различение торговли — между деловыми людьми [ dealers ], с одной стороны, и между деловыми людьми и потреби телями, с другой; первый вид представляет собой перемещение капитала, второй — обмен дохода на капитал; первый осу ществляется посредством своих собственных денег, а второй посредством своих монет — это проведенное А. Смитом различение является важным и отмечено как Туком, так и раньше, уже в отчете комитета по слиткам 187. Но что отсутствует, так это связь между обоими этими видами как торговли, так и денег.
1) Все кризисы фактически показывают, что торговля между деловыми людьми постоянно переходит тот предел, который ставится ей торговлей между деловыми людьми и потребителями. Все те рассуждения, в которых экономисты доказывают невозможность перепроизводства, по крайней мере всеобщего перепроизводства 188, относятся, как это уже, возражая Мак-Куллоху, правильно показал Сисмонди, только к торговле между деловыми людьми. Это станет тем яснее, если принять во внимание, что обмен между деловыми людьми и потребителями по меньшей мере на три четверти представляет собой обмен между рабочими и розничными торговцами, а также ремесленниками, но что этот обмен опять-таки зависит от обмена между рабочими и промышленными капиталистами, который, со своей стороны, снова обусловлен обменом между деловыми людьми — cercle vicieux *.
* — порочный круг, Ре9,
6*
142
К. МАРКС
2) Конечно, обмен между деловыми людьми, как говорит А. Смит, с необходимостью ограничен обменом между деловыми людьми и потребителями, так как цены, по которым покупает потребитель, являются окончательными ценами, которые должны задним числом, наряду с прибылями, вновь покрыть издержки производства, имевшие место в предшествовавших сделках. Между тем на основе указанного положения А. Смита вся политическая экономия оказалась глупо упрощен ной Прудоном ш и т. д. А дело обстоит не так просто. Прежде всего: торговля между деловыми людьми, например в Англии, отнюдь не ограничена торговлей между деловыми людьми и потребителями [только] в Англии, но также и в большей или меньшей степени торговлей между деловыми людьми и потреби телями на всем мировом рынке. Например, [Ост-] Индская компания или ост-индские купцы посылают индиго на лондонский рынок. Здесь происходит распродажа индиго. Это сделка между деловыми людьми. Покупатель индиго какую-то часть его про дает во Францию, в Германию и т. д., где его покупают соответ ствующие торговцы и фабриканты. Возместят ли они, в конце концов, цену индиго, зависит от продажи конечного продукта потребителю, который, может быть, живет на Ионических островах, или в Афганистане, или в Аделаиде. Следовательно, было бы неверно сказать, что торговля между деловыми людьми внутри какой-либо страны ограничена торговлей между деловыми людьми и потребителями внутри нее же. Если эта торговля [между деловыми людьми] является [ VII — 49] всемирной, то она ограничена торговлей между деловыми людьми и потребителями на мировом рынке, и тем в большей степени, чем крупнее масштаб самой торговли между деловыми людьми и чем значительнее положение данной страны на мировом рынке. Во-вторых. Так как рабочий класс составляет наибольшую часть потребителей, то можно было бы сказать, что уже в той мере, в какой уменьшается доход рабочего класса — не в одной стране, как полагает Прудон, а на мировом рынке, — возникает диспропорция между производством и потреблением, а следовательно, перепроизводство. Это во многом верно. Но это обстоятельство модифицируется возрастающей роскошью имущих классов. И было бы столь же неверно абсолютизировать это положение, как если бы хотели сказать, что торговля плантатора определяется потреблением его негров. В-третьих. Торговля между деловыми людьми в значительной части порождает торговлю между деловыми людьми и потребителями. Например, если фаб риканты получают очень большие заказы от спекулянтов, то. занятость рабочих велика, их заработная плата возрастает,
РАЗМЫШЛЕНИЯ
143
их потребление увеличивается; при спекуляциях в железнодо рожном строительстве создается очень большое конечное потребление, которое в конце концов оказывается чисто «непро изводительным». Мы обнаруживаем фактически также, что в большинстве случаев торговля между деловыми людьми и потребителями в конечном счете разбивается о торговлю между деловыми людьми. Кризис всегда наступает сначала в торговле между деловыми людьми и потребителями; часто, разумеется, уже после того как удовлетворение ограниченных способностей потребления обеспечено, но часто лишь в том слу чае, если предложение превышает предположительные оценки (например, при спекуляциях хлебом). В-четвертых. Перепроизводство обусловливается не только диспропорциональностью производства, но также и отношением между классом капиталистов и классом рабочих.
3) Что же касается денег, которые выступают в обеих различных формах торговли, — средств обращения в собственно торговле и средств обращения в обмене дохода на товары, т. е. на части капитала, — то недостаточно констатировать расхождение между ними, дело идет также и об их связи и взаимодействии. Деньги частных лиц, потребителей — во-первых, всех политических и идеологических сословий, во-вторых, получателей земельной ренты, в-третьих, так называемых капиталистов (непромышленных), государственных кредиторов и т. д., даже рабочих (в сберегательных банках) — короче, избыток доходов не занимающихся торговлей классов населения над их повседневными расходами и над той частью денег, которую они сами считают нужным всегда иметь в своем распоряжении, а значит, держать при себе в резерве (сберегать), этот избыток образует главный источник вкладов, которые, со своей стороны, снова образуют главную основу денег в торговле. Перемещения [капитала], кредитные операции, короче, все движение денег внутри этого мира торговли основывается на вкладах, принад лежащих в значительной части не занимающемуся торговлей населению. При * [...] недостатке кредита эти вклады изымаются из торговли. Капитал делается непроизводительным, так как средства распоряжения им, находящиеся в руках возглавляющих производство классов, оказываются уничтоженными. С другой стороны, в то время как эти классы нуждаются в деньгах для сделок между собой, а банкир больше не дает денег в долг ни лавочнику, ни фабриканту, в руках самих потребителей вместе с доходом уменьшается также и количество средств
* Следующее за этим олово расшифровать не удалось, Рев,
144
К. МАРКС
обращения, и таким образом жалобы на недостаток денег проникают из мира торговли в мир потребителей.
4) Неверно было бы сказать, что во времена кризиса недостаточный кредит — это все, а средства обращения — ничто. По указанной выше причине понятно само собой, что в такие времена количество средств обращения оказывается наимень шим ш именно потому, что, с одной стороны, уменьшилась их скорость, а с другой — потому, что наличные деньги потребовались для массы сделок, где они раньше не требовались. Но именно поэтому и обнаруживается большое расхождение между количеством денег и стоимостью тех сделок, которые совершаются посредством лишь относительно малого количества средств обращения. Таким образом, фактически недостает средств обращения, а не капитала. Капитал обесценивается и прежде всего оказывается неспособным реализовать свою стоимость. Но что означает здесь неспособность реализовать свою стои мость? Это означает неспособность превратиться в средства об ращения, а ведь именно в обмениваемости и состоит стоимость капитала. Но несмотря ни на что, капитал имеется в наличии. Дело проявляется главным образом в прекращении учета векселей, также и тех, которые основаны на bona fide * сделках. А вексель является деньгами торговли, [его] стоимость представляет торговые капиталы. Обратимость банкнот в золото оказывается наименьшей, обесценение банкнот лишь усугубляет торговые кризисы. Действительной трудностью является необратимость товаров, т. е. действительного капитала, в золото и банкноты, вследствие чего феноменам 1793, 1825 и 1847 гг. ш, там, где был действительный капитал, можно было помочь выпуском казначейских векселей и банкнот. [...] нельзя утверждать, что эти векселя и банкноты были капиталом наряду с товарами. Они были лишь средствами обращения. Кризис не прекратился, но прекратился денежный кризис. Поэтому ва кулисами обратимости банкнот находится обратимость ценных бумаг — не только в банковском деле, но также и в торговле. Но даже те ценные бумаги, которые считаются обратимыми по своему характеру, — государственные ценные бумаги и краткосрочные векселя — перестают быть обратимыми. Речь идет здесь, по-видимому, вовсе не о товарах, а об обратимости тех знаков стоимости, которые их представляют. Товары перестают быть деньгами, они необратимы в деньги. Это правило, разумеется, переносится на денежную систему, на некую особую ее форму. Все это покоится на существовании денежной системы, подобно
* — вобросовесшнх, Pii ,
РАЗМЫШЛЕНИЯ 145
тому как эта последняя основывается на нынешнем способе производства. Обратимость [ VII — 50] банкнот в золото необходима в конечном счете, так как необходима обратимость товаров в деньги; иными словами, — так как товары обладают меновой стоимостью, которая с необходимостью имеет особого заместителя, отличного от товаров; иными словами, — так как вообще имеет место система частного обмена. Обесценение денег и обесценение товаров находятся фактически даже в обратном отношении друг к другу. Но банкноты могут обесцениваться по отношению к золоту лишь потому, что товары могут обесцениваться по отношению к банкнотам. Что вообще означает обесценение банкнот? То, что товары, т. е. их стоимость, нельзя в любой момент заставить превращаться в золото и серебро, и всякий промежуточный член между товарами и золотом, или заместитель, так и остается лишь заместителем и поэтому не имеющим стоимости. Следовательно, главным вопросом остается всегда необратимость товаров, самого капитала. Абсурдно мнение некоторых лиц, говорящих: недостает не денег, а капитала, средства обращения же безразличны. Ибо именно здесь дело идет о различии между капиталом, т. е. товарами, и деньгами; дело идет о том, что одно не неизбежно приводит с собой в мир торговли другое в качестве своего представителя, как свою цену; что капитал перестает быть деньгами, теряет способность обращаться, быть стоимостью. И смешно изображать деньги как нечто побочное там, где как нечто побочное предстает капи тал. С другой стороны, еще большую нелепость допускают в ином аспекте: признают необратимость капитала и в то же время не принимают всерьез обратимость банкнот. Но они хотят устранить необратимость капитала посредством того или иного искусственного конструирования и модификации денежной системы, как если бы необратимость капитала не содержалась уже в бытии любой денежной системы, да к тому же еще и в бытии продуктов в форме капитала. Хотеть это изменить на такой основе, значит лишать деньги их свойств быть деньгами, не сооб щая капиталу свойства всегда оставаться обмениваемым, и притом по своей справедливой цене. В бытии денежной системы дана не только возможность, но уже и действительность отделения [товаров от денег], и то, что это имеет место, доказывает, что невозможность реализации стоимости капитала именно по той причине, что он соразмерен с деньгами, дана уже капиталом, а следовательно, всей организацией производства. Но столь же неверно было бы сказать, что это давление на денежный рынок вызвано всего лишь кредитными махинациями. Деньги как таковые, со своей стороны, опять-таки обусловливают креаитную
146
К. МАРКС
систему. Иными словами, одна и та же причина порождает и то, и другое. Конечно же, ослами являются бирмингемцы 192, которые хотят присущие деньгам неудобства устранить путем выпуска большого количества денег, или обесценения их меры. Ослами являются также Прудон, Грей и другие, которые хотят сохранить деньги, но таким образом, чтобы они не обладали свойствами денег. Так как всеобщий кризис разражается на денежном рынке, а полное возобновление буржуазного производ ства проявляется как симптомы, которые, разумеется случайно, снова становятся причиной [всеобщего кризиса], то нет ничего проще, чем то, что ограниченные, остающиеся на буржуазной почве реформаторы хотят реформировать деньги. Они сохраняют отделение продукта от его обмениваемое™, ибо они сох раняют стоимость и частный обмен. Но они хотят так упорядочить знак этого отделения, чтобы он выражал тождество 1вз. 5) Абсолютные простаки, т. е. добропорядочные невежественные демократы, знают деньги только в торговле между деловыми людьми и потребителями. Поэтому та сфера, в которой разыгрываются коллизии, буря, денежный кризис и крупные денежные сделки, им неизвестна. Поэтому дело представляется этим простакам — как и все им представляется — таким же простым и наивным, каковы они сами. В этой торговле между деловыми людьми и потребителями они видят мещански-добросовестный обмен стоимостей на стоимости, в котором сво бода отдельных индивидов получает свое высшее практическое подтверждение. О противоположности классов в этом обмене не может быть и речи. Один торговец противостоит другому, один владеющий деньгами индивид — другому. То, что каждый индивид должен владеть деньгами, для того чтобы покупать потребительские товары, т. е. чтобы иметь возможность жить, является, разумеется, такой предпосылкой, которая сама по себе обусловлена тем, что каждый индивид должен работать и, [ VII — 51] как говорит Штирнер, заставлять действовать свои способности ш. Прежде всего является историческим фактом, который никто не может отрицать, что при всех предшествующих общественных устройствах, основывающихся на различии и противоположности каст, племен, сословий, классов и т. д., деньги были существенной составной частью этой организации, а денежная система всякий раз являлась [выражением] ее упадка и ее расцвета. Таким образом, не нам требовалось бы доказы вать, что денежная система основывается на противоположности классов, а простакам нужно было бы доказать, что, вопреки всему предшествующему историческому опыту, денежная система имеет некий смысл также и без противоположности клао
РАЗМЫШЛЕНИЯ
147
сов, что одно это звено всего предшествующего общественного строя является способным продолжать свое существование при таких [общественных] порядках, которые отрицают весь предшествующий общественный строй. Но ставить такую задачу перед абсолютными простаками было бы слишком наивно. Ведь они решают все проблемы с помощью простых словосочетаний. В этом состоит их специфическое величие. В их глазах денежная система, да и вся нынешняя система, столь добропорядочна, столь глупа, как и они сами.
Но перенесемся снова в среду их излюбленной торговли между потребителями и деловыми людьми. За ее пределами они ничего не видят ни по сторонам, ни впереди, ни позади.
На что свободные индивиды покупают у лавочника? На эквивалент, или на знак стоимости, своего дохода. Таким способом рабочий обменивает заработную плату, фабрикант прибыль, капиталист процент, земельный собственник ренту, — превра щенные в золото и серебро и в банкноты, — [на товары] у лавоч ника, сапожника, мясника, пекаря и т. д. А что обменивают сапожник, лавочник и другие на превращенную в деньги заработную плату, земельную ренту, прибыль, процент? Свой капитал. Они возмещают, воспроизводят и увеличивают его в этом акте.
Следовательно, в этом, как кажется столь простом, акте выступают, во-первых, совокупные классовые отношения, предполагаются классы наемных рабочих, земельных собственников, промышленных и непромышленных капиталистов. С другой стороны, и прежде всего, предполагается существование опре деленных общественных отношений, что придает богатству характер капитала и отделяет капитал от дохода. Простота исчезает в результате превращения [дохода] в деньги.
И то, что рабочий получает свою заработную плату, так же как земельный собственник свою ренту, а фабрикант свою прибыль, выплачиваемыми в форме денег вместо натурального снабжения, натуральных поставок и меновой торговли, — это показывает лишь, что денежная система предполагает высокую ступень развития и большее разделение и отделение классов, чем отсутствие денежной системы, чем предшествовавшие деньгам ступени развития общества. Без денег нет наемного труда, а поэтому нет также прибыли и процента в этой другой форме [общества], поэтому нет также и земельной ренты, которая является лишь частью прибыли.
В форме денег, золота, серебра или банкнот, доход, конечно, уже не дает возможности усмотреть то, что он причитается ин дивиду только как принадлежащему к определенному классу,
148
К. МАРКС
только как классовому индивиду, если только индивид не выпросил его себе в виде милостыни или не украл его, следовательно, все-таки не изъял его из какого-нибудь дохода этого вида и не стал в результате довольно насильственной процедуры представителем того или другого классового индивида. Превращение [дохода] в золото или серебро стирает и маскирует его классо вый характер. Отсюда — если отвлечься от денег — кажущееся равенство в буржуазном обществе. Отсюда, с другой стороны, в обществе, в котором денежная система развита полностью, на самом деле существует действительное буржуазное равенство индивидов в той мере, в какой они владеют деньгами, каков бы ни был источник этого дохода. Здесь уже не только привилегированные лица могут обменивать то или иное, как это было в античном обществе, а все могут получить всё, каждый может предпринять любой обмен веществ соразмерно той массе денег, в которую может превратиться его доход. Продажные женщины, наука, покровительство, ордена, земельная рента, прихлебатели — все составляет статьи обмена, совсем как кофе, сахар и селедка. В рамках сословия потребление индивида, его обмен веществ зависят от определенного разделения труда, которому подчинен индивид. В рамках класса они зависят только от всеобщего средства обмена, которое он сумеет себе присвоить. В первом случае индивид как общественно ограниченный субъект вступает в обмен, ограниченный его общественным положением. Во втором — как собственник всеобщего средства обмена, он вступает в обмен со всем, что общество может дать за этого представителя всего. В обмене денег на товары, в этой торговле между деловыми людьми и потребителями, фабрикант, когда он покупает у лавочника, является таким же потребите лем, как и его рабочий, а слуга получает за ту же самую денежную стоимость тот же самый товар, что и господин. Таким образом, в акте этого обмена отпадает [ VII — 52] особый характер превращенного в деньги дохода, а все классовые индивиды сти раются и растворяются в категории покупателя, который про тивостоит здесь продавцу. Вот почему иллюзия в этом акте купли-продажи состоит в том, что видят не классового индивида, а просто покупающего индивида, лишенного классового харак тера.
Отвлечемся пока что от специфического характера дохода, который столь же мало проявляется в золоте и серебре, как запах мочи в налоге на публичные дома, о котором римский император Адриан 195 сказал: non olet! *. Этот характер вновь
♦ — не пахнет! Ред.
РАЗМЫШЛЕНИЯ
149
выступает в количестве денег, которыми можно распорядиться. В общем и целом круг покупок определяется характером самого дохода. Объем и ассортимент тех предметов, которые покупаются самым большим классом потребителей, рабочими, ограничен самой природой их дохода. Конечно, рабочий, вместо того чтобы покупать своим детям мясо и хлеб, может пропивать свою заработную плату, покупая водку, чего он не может делать, получая плату натурой. Тем самым его личная свобода расширяется, т. е. предоставляется большая возможность для усиления власти водки. С другой стороны, на то, что рабочий класс сберегает сверх необходимых жизненных средств, он может вместо мяса и хлеба покупать книги и оплачивать лекторов и митинги. Рабочий класс имеет большую возможность присваивать себе такие всеобщие силы общества, как его интеллектуальные силы. Там, где характер дохода все еще определяется характером самого его приобретения, не просто, как теперь, количеством всеобщего средства обмена, а качеством самого приобретения дохода, там связи, в которые рабочий может вступать с обще ством и которые он может присваивать себе, несравненно более узки, а общественная организация для вещественного обмена материальными и духовными продуктами общества заранее ограничена определенным способом и особым содержанием. Поэтому деньги как высшее выражение классовых противоположностей одновременно стирают религиозные, сословные, интеллектуальные и индивидуальные различия. Тщетно пытались феодалы — например, по отношению к буржуа, посредством ваконов о роскоши — политически стеснить и сломить эту все общую нивелирующую силу денег. Таким образом, в акте тор говли между потребителями и деловыми людьми качественное классовое различие исчезает в количественном различии, в большем или меньшем количестве денег, которым распоряжается покупатель, а внутри того же самого класса количественное различие образует различие качественное. Так [различаются] крупные буржуа, средние буржуа, мелкие буржуа. [ VII - 52]
Написано в марте 1851 а. Печатается по рукописи
Впервые опубликовано на русском языке Перевод с немецкого
в журнале «Коммунист», M 1, 1977
150 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
* КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ В XIX ВЕКЕ» 19в
П.-Ж. ПРУДОН. «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ В XIX ВЕКЕ.
ИЗБРАННЫЕ ЭТЮДЫ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРАКТИКЕ»
ПАРИЖ, БРАТЬЯ ГАРНЬЕ. 1851 •
1)
«Я буржуазии».
«Вы, буржуа, во все времена были наиболее отваж
ными, наиболее искусными революционерами...». Еще до нашествия вар
варов вы своими муниципальными федерациями, как саваном, окутали
Римскую империю в Галлии (стр.
I). С тех пор и
вплоть до сего времени
вы стояли во главе революции. Ни одна попытка свершить что-либо без
вас или против вас не увенчалась успехом; все, что вы предпринимали,
удавалось; все, что вы предпримете, удастся.
Эта тема излагается в стиле исторической декламации. —
В настоящий момент старые политические интриганы снова у кормила правления и относятся к вам как к революционерам (стр. V ). Ну что ж, принимайте титул, будьте революционерами]
2)
Переходим к делу.
Следуют 7 этюдов, дабы представить
развитие в следующих трех аспектах:
а) прежний порядок, Ь) партии в момент революции, с) разрешение, то есть революция в собственном смысле (стр. 1—2).
ПЕРВЫЙ ЭТЮД «РЕАКЦИЯ ОБУСЛАВЛИВАЕТ РЕВОЛЮЦИЮ»
Нельзя помешать никакой революции. Равным образом смехотворно и представление Дроза, который воображает, будто первую революцию w можно было предотвратить посредством уступок и тонких уловок, и представление Бланки, полагающего, что революция может быть сведена на нет жульническим фокусом (стр. 3—4).
• P. J. Proudhon. Idée générale de la Révolution au XIX- Siècle (Choix d'études sur la pratique révolutionnaire et industrielle). Paris, Garnier frères, 1851. PeÔ.
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 151
Французская монархия от Хлодвига до Ришелье была революционна ; в 1614 г., во время созыва последних Генеральных штатов, она сделалась реакционной, наказание — 21 января 1793 г.198. Революцию можно направлять, сдерживать, замедлять ее ход, и эта система уступок, шаг за шагом,— самая мудрая (стр. 5). Но остановить ее невозможно. Witness * тому — подавление заговоров 1822 и 1839 гг.199 и революций 1830 и 1848 годов. Однако «господствующие интересы и спесь правительства» постоянно противодействуют мирному ходу революции (стр. 8). Реакция всегда порождает революцию. Так было в 1789 г. и в последующие годы, так было и в 1848 году. В феврале пролетариат, вмешавшись в спор между буржуазией и короной, требовал только работы. Республиканцы обещали ему выполнить это требование, и он примкнул к ним (стр. 10—11). «Получить работу и заработать на хлеб — таково было требование рабочих в 1848 г., в этом состояла непоколебимая основа, созданная ими для республики, в этом была суть революции». [Провозглашение] республики было «актом меньшинства, более или менее... узурпаторского». «Революционный вопрос труда» представлял собой нечто совершенно иное. Республика была лишь «залогом революции» (стр. 11).
Временное правительство относилось серьезно к своим обещаниям, касающимся работы, но не могло их выполнить, так как для этого ему пришлось бы «переменить направление, изменить всю экономику общества». Однако, вместо того чтобы открыто признать трудности и апеллировать к публицистам, оно молчало, стало прямо реакционным, объявило себя противником социализма — «новое имя, которое приняла революция» (стр. 13). Оно толкнуло на восстание голодные массы в Париже и Руане и пыталось потопить в крови великую идею февраля — протест рабочих. С этого момента стало ясно, что республика 1848 г. и республика 1793 г.— две совершенно разные вощи и что последним словом республики 1848 г. был социализм.
Итак, теперь борьба происходит между всеми прежними оттенками революции, с одной стороны, и социализмом, с другой. И если сначала еще не знали, что такое социализм, то нас в этом отношении просветили действия реакции начиная с февраля 1848 г.— «революция определится именно благодаря реакции» (стр. 17).
Велеречивое описание того, как реакция и репрессии постепенно революционизировали большую часть нации и как сама буржуазия, «извечный друг порядка», оказалась под подозрением, а потому подверглась притеснениям и была таким образом загнана в объятия революции. Изложение доводится до нового избирательного закона г0°.
И вот, «когда народ доведен до потери рассудка», единственным целебным средством остается «сила» (стр. 26),—
а «сила» эта применительно к кризису 1852 г. 2М воплощается в такой серии мероприятий, завершающим звеном которой будет только полное восстановление феодального старого порядка.
Но это для вас невозможно, вы не отважитесь на это (стр. 31). Призыв к республиканцам стать теперь настоящими революционерами, дать «рево люции гарантии», «планы экономического обновления» (стр. 33, 34).
• — Свидетельство. Ред.
152
Ф. ЭНГЕЛЬС
ВТОРОЙ ЭТЮД
«СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДОСТАТОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕВОЛЮЦИИ В XIX ВЕКЕ?»
1. «Закон тенденции общества.
В 1789 г. революция сделала свое дело
только наполовину»
«Революции имеют своей побудительной причиной не столько лише-пия, испытываемые обществом в данный момент, сколько их затяжной характер, что ведет к устранению и уничтожению всякого блага» (стр. 36). Таким образом, причиной революции является тенденция общества. Народ — не оптимист и не пессимист; он не требует совершенного общественного строя, однако желает, «чтобы существовала тенденция к благополучию и добродетели»; он восстает, «когда перед ним возникает тенденция к нищете и разложению» (стр. 37).
Итак, какова в настоящее время тенденция общества?
1789 год только ниспроверг, но решительно ничего не воздвиг. Отсюда «тот невыносимый образ жизни, который вот уже 60 лет будоражит французское общество».
(Итак, в реальном буржуазном общественном строе нет ничего положительного, свободная конкуренция имеет только отрицательное значение, истинный же буржуазный строй, стало быть, еще нужно искать.)
Феодальная организация, уничтоженная 4 августа 1789 г., не была заменена новой «национальной экономикой и равновесием интересов». «Поскольку положение гражданина уже не определялось его рождением, поскольку один лишь труд сделался всем (?!), и сама собственность стала от него зависеть... было очевидно, что проблема революции заключалась... в повсеместном установлении... порядка, основанного на равенстве [le régime égalitaire], то есть промышленного порядка» (стр. 39).
(Как будто это, по мере возможности, не было осуществлено!)
Но этого не поняли и отдались исключительно политике. «Отсутствие экономических знаний, гувернаменталъная идея 2°2 [l'idée gouvernementale] *, недоверие, которое они испытывали к пролетариату»,— все это толкнуло революционеров на ложный путь (стр. 40). «Во всех умах политика снова приобрела первенствующее значение по сравнению с промышленностью; Руссо и Монтескье вытесняют Кенэ и Адама Смита» ( III ), потому-то новое общество и оставалось все время в эмбриональном состоянии (стр. 41).
* У Прудона: «гувернаментальный предрассудок» («le préjugé gouvernemen tal»). Ред.
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 153
2. «Анархия экономических сил. Тенденция общества к обнищанию»
«Экономическими силами я называю некоторые начала деятельности, а именно: разделение труда, конкуренцию, коллективную силу, обмен, кредит, собственность, которые по отношению к труду и богатству составляют то же, что различие в классах, представительная система, наследственная монархия, централизация управления
(недурное сопоставление!)
по отношению к государству. Если эти силы поддерживаются в равновесии и подчиняются законам, присущим им одним и никоим образом но зависящим от человеческого произвола, то труд можно считать организованным и всеобщее благополучие обеспеченным. Если же, напротив, эти силы лишены направления и противовеса
(против чего??),
тогда труд находится в состоянии полной анархии и тогда к полезному результату воздействия экономических сил примешивается равпая доля вредного воздействия; дефицит уравновешивает доход; общество, как средоточие, агент или субъект производства, обращения и потребления, оказывается в состоянии нарастающего недуга» (стр. 42—43).
До сих пор известны лишь две формы социального бытия *: «политическая форма и экономическая форма, между которыми вдобавок существуют антипатия и коренные противоречия».
«Анархия экономических сил, борьба, которую они ведут против гувернаментальной системы, этого единственного препятствия к их организации,— вот в чем истинная, глубокая причина недуга, который подтачивает французское общество».
(Таким образом, Прудон, как истый француз, смешивает французское бюрократическое правительство с нормальным состоянием буржуазии, управляющей как собой, так и пролетариатом) (стр. 43).
Примеры: 1) «Разделение труда». — Основной принцип современной промышленности и одновременно главная причина отупения рабочих и падения заработной платы. В Англии, например, вследствие разделения труда и введения машин число рабочих на одном и том же предприятии сократилось до V2, Vs и даже Ve прежнего состава, «а затем наблюдалось падение заработков в такой же пропорции, в среднем с 3 франков до 50 и 30 сантимов» [в день] (I !) (стр. 46).
Если не считать этих великолепных сведений (стр. 46), весьма плоско и ординарно.
2) Конкуренция. — «Она-то и является законом рынка, приправой к обмену, солью труда».
( Beautiful! **)
• У Прудона: «l'ordre dans une société» («порядка в обществе») (р, 43), Ред, •* — Восхитительно! Ред,
154
Ф. ЭНГЕЛЬС
«Но конкуренция, лишенная законных форм (!), высшего и регулирующего разумного начала, в свою очередь извращается». Рабочие отстранены от участия в конкуренции, за исключением конкуренции между собой, ведущей к снижению заработной платы. Конкуренция превратилась в монополию и создала новую аристократию.»
Весьма плоско.
«Недавно, когда префект полиции
(комплимент по адресу Карлье),
идя навстречу общему пожеланию, разрешил вольную продажу мяса а03, стало очевидным, насколько свободная конкуренция может способствовать благосостоянию народа и до какой степени в нашем обществе эта гарантия * еще является иллюзорной» (стр. 48).
О обыватель! Буржуазные мероприятия г-на Карлье являются социалистическими! Free trade ** — социалистична потому, что ее не существует во Франции!
Далее, кредит. Монополия французского банка. Эта монополия, по мнению Прудона, повинна в том, что «собственность обременена постепенно увеличивающимся ипотечным долгом на сумму 12 миллиардов, а государство — на сумму 6 миллиардов»; в том, что проценты и прочие связанные с этим долгом издержки достигают 1 200 миллионов в год
(все еще лишь 6а/3%)
и что, сверх того, от 700 до 800 миллионов подлежат ежегодной уплате по векселям, «за авансируемые фонды, за отсрочку платежей, в виде ко-мандитных акций, дивидендов, негарантированных облигаций, компенсаций за судебные издержки и т. д.»; она повинна в том, что квартирная плата и земельная рента вследствие всего этого возросли свыше всякой меры и что из 10 миллиардов годовой продукции 6 миллиардов идут на паразитическое потребление 204 (стр. 51—52).
Дальнейшие примеры или цитаты предназначены для доказательства того, что положение народа постоянно ухудшается, а доход его постоянно уменьшается в арифметической прогрессии, подобно той, которую выводит Мальтус, а именно:
65 сантимов, 60, 55... 15, 10, 5, 0, —5, —10, —15 (стр. 52).
После чего наступит якобы такое время, когда рабочий не только не будет получать определенного количества санти мов за свой дневной труд, но и сам должен будет еще платить впридачу 5, 10, 15 сантимов! А как же закон заработной платы! А конкуренция!!
Следуют примеры, которые должны показать, что положение народа со времени революции постоянно ухудшается.
* Несколькими строками выше у Прудона сказано: «конкуренция должна служить... гарантией чистосердечности в торговле», Ред, ** — Свободная торговля. Ред,
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 155
Сокращение потребления вина, мяса и т. п.; снижение «требований в отношении роста при наборе в армию» и увеличение числа непригодных к военной службе: 1830—1839 гг. — 4572%, 1839—1848 гг. — 50»/»%; несоответствие всеобщего обучения современному состоянию общества; рост преступности:
1827 г. —34 908 уголовных дел, 47 443 обвиняемых
1846 > —80 891 > » 101433 >
1847 > —95 914 » » 124159 > и для исправительных судов:
1829
г. —108 390 дел, 159 740 обвиняемых
1845 > —152 923
> 197 913
>
1847 > —184 922 > 239 291 >
3. «Аномалия правительства, тенденция к тирании и коррупции»
До 1848 г. на рабочих распространялись филантропические заботы даже со стороны правительства. С 1848 г. был сделан шаг вперед: становится известным, что только революция может здесь сделать что-то радикальное, и этим дело ограничилось.
Проценты по государственному долгу в 1814 г. составляли 63 миллиона, в настоящее время — 271 миллион. Бюджет 1802 г. равнялся 589 миллионам, бюджет 1848 г. — 1 692 миллионам; рост его не может быть объяснен глупостью и злонамеренностью правительств. С 1830 по 1848 г. общая сумма жалованья, выплачиваемого чиновникам, увеличилась на 65 миллионов. Причина та же.
(Во Франции 568 365 чиновников, на основании чего Пру дон вычисляет, что каждый девятый человек живет за счет бюджета, то есть получается, что во Франции всего 5 115 285 мужчин, между тем как в 1848 г. голосовало более 6V2 миллиона!) (стр. 62).
Это увеличение количества чиновников и рост военного бюджета свидетельствуют о возрастающей необходимости усиления карающей власти, а следовательно, о возрастании опасности для государства со стороны пролетариата *. Подобная тенденция государства поддерживать крупную земельную собственность и капитал прямо ведет к коррупции, которая является непосредственным следствием всякой централизации.
— Итак:
«в XIX в. существует достаточное основание для революции».
В этом втором этюде встречаются, между прочим, и следующие перлы:
1) «Действующая в настоящее время система обложения... задумана так, чтобы производитель платил все, а капиталист — ничего. В самом
* У Прудона: «des classes laborieuses» («трудящихся классов») (р. 63). Ред.
156
Ф. ЭНГЕЛЬС
деле, даже тогда, когда этот последний внесен в книгу налогового инспектора как плательщик какой-либо суммы или когда он оплачивает налоги, установленные фиском на предметы потребления, даже тогда очевидно, что его доход, складывающийся исключительно из предварительных поступлений с его капиталов, а не в результате обмена продуктов его производства, остается свободным от обложения, поскольку платит только тот, кто производит» (стр. 65).
В этом последнем «поскольку» содержится то самое поло жение, которое в первой фразе приведено как подлежащее дока зательству, и тем самым оно становится естественным образом доказанным. Такова тут решительная логика г-на Прудона. Это положение развивается им дальше:
«Итак, между капиталом и властью существует соглашение о том, чтобы взвалить уплату налогов исключительно на трудящегося, и секрет такого соглашения, как я уже об этом говорил, состоит просто во введении обложения продуктов вместо установления налога на капитал. При помощи этой подтасовки капиталист-собственник создает видимость того, что и он платит наравне со всеми остальными гражданами за свои земли, свой дом, свою движимость, свои сделки по передаче имущества, за свои путешествия и за удовлетворение своих потребностей. Таким образом, утверждает он, его доход, который до обложения был бы равен 3 000, 6 000, 10 000 или 20 000 франков, благодаря налогам становится но больше 2 500, 4 500, 8 000 или 15 000 франков. При этом он протестует против разбухания бюджета с еще большим негодованием, чем его квартиросъемщики. Чистая уловка! Капиталист ничего не платит: правительство в равном положении с ним, вот и все».
(Оно в равном положении и с производителем, когда отбирает у него часть его продуктов, а капиталист, dicitur potest *, также в равном положении с производителем.)
«Правительство и капиталист творят общее дело»
(о, Штирнер!).
«Какой трудящийся не счел бы за счастье быть внесенным в книгу налогоплательщиков как получатель 2 000 франков ренты, при единственном условии — отдавать ее четвертую долю в счет погашения налоговых обязательств?»!!] (стр. 65—66).
2) Земельная перепись производится таким образом, «будто бы целью законодателя ** было восстановление неотчуждаемости недвижимого имущества и будто этот законодатель стремился непрестанно напоминать освобожденному ночью 4 августа виллану 2№ о его прежнем рабском состоянии, о том, что право владеть землей принадлежало не ему и что каждый земледелец, если он не получил дарственной от суверена, с полным основанием считается долгосрочным арендатором и крепостным, который не имеет права располагать своим имуществом [emphytéote et mainmor-table]!» (стр. 66).
* — можно даже утверждать. Ред. *• У Прудона; «законодателя 1789 г,» (р, 66). Ред.
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 157
О, Штирнер! Как будто крупные владения не подлежат земельной переписи на одинаковых основаниях с мелкими, таким образом получается, что сам Луи-Филипп тоже был крепостным.
3)
Конструирование free
trade и разъяснение протекцио
низма.
Пошлины доставляют государству 160 миллионов. Допустим, что таможни уничтожены и иа французском рынке усилилась иностранная конкуренция. «Предположим, что правительство обратилось бы тогда к французским промышленникам со следующим запросом: что вы пред почтете для охраны ваших интересов — платить мне 160 миллионов или оставить эту сумму при себе? Думаете ли вы, что промышленники изберут первое предложение? А именно его навязывает им правительство. К обычным нашим расходам иа иностранные товары и собственные изделия, отправляемые за границу, государство присоединяет 160 миллионов, которые оно как взятку кладет себе — и только себе — в карман; вот что такое таможня» (стр. 68—69).
Если подобную нелепость можно еще оправдать безрассудным французским тарифом, то все же г-п Прудон хватает через край, когда он вообще применяет к протекционизму французскую мерку и выдает его за налог на фабрикантов.
4)
На стр. 73
и 74 Прудон цитирует речь Руайе-Коллара (палата де
путатов, ирония 19—24 января 1822 г.)
20в, в которой этот юрист выражает
свое сожаление по поводу
исчезновения независимых магистратур (парла
ментов)
207
и других «демократических учреждений»
— этих «мощных
средоточий частного права, настоящих
республик внутри монархии».
Они, дескать, во всем могли ставить
преграды верховной власти, в то
время как теперь правительственная
власть, хотя и разделена, ничем не
ограничена в своих действиях.
Эту реакционную реминисценцию старомодного юриста, который не может скрыть своей ненависти к административному порядку, г-н Прудон ошибочно принимает sa социально-революционную точку зрения.
«То, что г-н Руайе-Коллар говорил о монархии 1814 г., с еще большим основанием справедливо для республики 1848 года».
Г-на Прудона ввела в заблуждение запутанная фраза Руайе-Коллара:
«Итак, Хартия 208 должна была конституировать и правительство, и общество; об обществе, без сомнения, не 8абыли, им не пренебрегли, но им занялись не сразу...».
Что Руайе-Коллар понимает под обществом, видно из следующих его слов:
«Только учредив свободу печати как норму публичного права, Хартия возвратила общество себе самому» (стр. 75).
Таким образом, общество — это подданные, рассматриваемые с точки зрения их способности сопротивляться правительству.
158
Ф. ЭНГЕЛЬС
ТРЕТИЙ ЭТЮД
«О ПРИНЦИПЕ АССОЦИАЦИИ»
Сначала, прежде чем мы приступим к разрешению проблемы, «следует определить значимость теорий, предлагаемых на потребу народу, теорий, составляющих непременный багаж всех революций» (стр. 79). А подвергнув критике их принцип, мы разом покончим с ними всеми: с сен-симонистами, Фурье, Оуэном, Кабэ, Луи Бланом и другими. Этим принципом для всех систем служит ассоциация.
Ассоциация не означает «равновесия экономических сил», она вовсе даже и не «сила», она — «догма» (стр. 84). Последовательное развитие принципа ассоциации неизменно приводит к системе, и основанный на ней социализм с необходимостью, становится религией (стр. 84).
Ассоциация — не «экономическая сила». Торговля является таковой, ибо «независимо от услуг, оказываемых материальным фактом перевозок, она сама по себе является прямым побудителем к потреблению, а стало быть, одной из причин производства, первопричиной создания стоимости ( I ), метафизическим актом обмена, производителем — в такой же мере, как и труд,— реальных предметов и богатств, хотя она и создает их иначе, чем труд... Поэтому торговец, которого обогатили торговые операции, очищенные от всякого ажиотажа (!!), с полным правом пользуется приобретенным состоянием; оно столь же законпо, как то, которое добыто трудом».
(Этот буржуа забывает здесь, что, не обладая капиталом, я никак не могу заниматься торговлей и могу лишь только работать на другого, на капиталиста; вообще же эта апология торговца весьма примечательна.) Далее...
«обмен — это чисто моральная операция... является также созидательным актом» (стр. 85).
К экономическим силам принадлежит также коллективная сила,
— открытие которой, как льстит себя надеждой Прудон, было сделано им в книге «Что такое собственность»,
— а равным образом и конкуренция, разделение труда, собственность
и т. д.
То, что Прудон называет «экономическими силами», есть, попросту говоря, формы буржуазного способа производства и обмена [Verkehr] в том виде, в каком они пригодны ему, покуда имеют в его глазах либо одну хорошую сторону, либо одновре менно с дурной стороной также хотя бы одну ярко выраженную хорошую. Даже самые общие формы обмена и производства, которые, будучи однажды открытыми, применялись затем всюду в соответственно измененном виде каждым последующим поко лением и которые принадлежат к числу таких же благоприобре тений общества, как использование силы воды, представление о шарообразности земли, умение делить ее по градусам долготы и широты и т. п., — даже их Прудон воспринимает только
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 159
в их буржуазном обличий. Например, обмен, как мы видели выше, тут же растворяется у него в торговле. Если, по крайней мере, коллективная сила и выглядит как нечто вечное, то от этого она не перестает быть лишь попыткой превратить в экономическую силу само существование общества. Без общества, так же как без коллективной силы, не бывает никаких отношений между людьми, никакого обмена. Обмен, разделение труда, конкуренция, кредит суть проявления коллективной силы. Для всякого отношения нужны по меньшей мере двое, а там, где двое сотрудничают в каком-либо деле, которое не под силу одному, — там налицо коллективная сила. Достойно смеха, однако, когда все формы, в которых члены общества обмениваются и производят, нам сначала изображают как силы, а потом в заключение в качестве особой экономической силы нам пытаются еще навязать существование общества, общественного производства и общественного обмена. Впрочем, примитивная, неразвитая форма коллективной силы, с которой носится Прудон (массовый труд при постройке обелисков, пирамид и т. д.), давным-давно уже почти вытеснена машинами, лошадьми, разделением труда и т. п. и заменена совершенно другими формами.
Но если торговля, конкуренция, разделение труда и т. п. суть экономические силы, то нет никаких оснований не считать экономическими силами также, например, фабричную систему, банковскую систему, бумажные деньги, парцелляцию земельной собственности, крупную земельную собственность, наемный труд, капитал и ренту. Каждой из этих перечисленных сил нетрудно сложить панегирик в стиле тех дифирамбов, которые Прудон слагает по адресу первых. Но в этом-то и загвоздка.
Комично, что Прудон на стр. 88 эти отношения сил называет «по существу нематериальными» и, опираясь на их якобы нематериальный характер, затягивает свои песнопения, например, о том,
как экономисты своей теорией промышленных сил «доказали,— сами нимало не сомневаясь в ней,— основную догму христианской теологии: творение «d е nihilo»
(ex??) * (стр. 87), или выше [твердит]
о «чисто моральном» акте «торговли, которая у него является также созидательным актом» (стр. 86).
Затем следуют великолепные софизмы об ассоциации:
«Ассоциация по своей природе бесплодна, даже вредна, так как она сковывает свободу работника. Авторы, несущие ответственность за утопии
• У Прудона ошибочно: «de nihilo» — «без основания», «без причины» (р. 87). Энгельс исправляет «ex tnihllol» — «из ничего». Ред.
160
Ф. ЭНГЕЛЬС
братства... без всяких оснований и доказательств приписали договору о сообществе [contrat de société] достоинства и действенность, которые принадлежат лишь коллективной силе, разделению труда или обмену... Когда какое-нибудь сообщество, промышленное или торговое, ставит себе целью либо привести в действие одну из крупных экономических сил, либо эксплуатировать такой источник богатств [fonds], casta природа которого требует, чтобы он оставался неделимым, единой клиентурой, монополией, то сообщество, созданное ради такой цели, может получить благоприятный результат. Но оно достигнет его не в силу своего принципа, этим результатом оно будет обязано своим средствам. И это настолько верно, что все
(то бишь капиталисты)
предпочитают не вступать в ассоциацию всякий раз, когда тот же результат может быть достигнут и без нее» (стр. 88—89). Объединяются только тогда, когда в этом есть пужда.
Ассоциация означает солидарность, «совместную ответственность, слияние прав и обязанностей по отношению к третьим лицам».— «Уравнительная заработная плата — верховный закон ассоциации». Поэтому «можно сказать, что только для слабого или ленивого члена ассоциации — и только для него одного — последняя оказывается полезной».— «Солидарность неумелых и неспособных» (стр. 89, 90). Каждая процветающая ассоциация «обязана своим преуспеянием какой-либо объективной причине, чуждой ей и отнюдь не связанной с ее сущностью». Ассоциация пригодна лишь «при особых условиях» (стр. 91).
При этом во всех теперешних рабочих ассоциациях уравнительная заработная плата заменена piece - work * — как можно меньше солидарности, как можно больше независимости при объединении сил и капиталов,
то есть как можно меньше ассоциации и как можно больше средств.
«Ассоциация, образованная специально в силу семейных связей и закона самопожертвования независимо от каких-либо внешних экономических соображений и всяких преобладающих интересов, наконец, ассоциация как самоцель является актом чистой религиозности, сверхъестественной, лишенной положительной ценности связью, мифом».
Что касается ассоциаций парижских рабочих, то Прудон хладнокровно классифицирует их следующим образом:
«Многие из них продолжают держаться и даже дают надежду на рост в будущем. Причины известны. Одни ассоциации состоят из самых искусных работников своей профессии — это монополия таланта, благодаря которой они и существуют. Другие привлекают и удерживают клиентуру дешевыми ценами — в них вдохнула жизнь конкуренция... Наконец, как правило, во всех этих ассоциациях рабочие... должны затрачивать несколько больше труда и довольствоваться меньшим заработком. Здесь нет ничего, кроме самых обыкновенных в политической экономии явлений, которые могут быть получены.., без малейшей надобности в ассоциации» (стр. 96—97),
* — сдельной системой, Ред,
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 161
Ассоциации по убою скота — вовсе и не ассоциации. «Это — [объединения] для конкурентной борьбы, созданные на общие средства гражданами различного положения против монополии мясников. Это в некотором роде применение нового принципа, — чтобы не сказать
(почему бы нет?)
новой экономической силы, — принципа взаимности [réciprocité], который состоит в том, что участники обмена гарантируют безоговорочно друг другу свои продукты по себестоимости» 209.
(Сам г-н Прудон, разумеется, в роли первого изобретателя «принципа взаимности», см. его «Организацию кредита и обращения», Братья Гарнье, 1848 г., а также его «Народный банк») (стр. 97-98) 21°.
Далее идет восхваление г-на Прудона, каламбуры по поводу луиблановского «от каждого соответственно его способностям, каждому соответственно его потребностям» ш, а после этого следующее место:
из 36 миллионов французов 24 миллиона — крестьяне. «Их-то вам никогда не удастся ассоциировать. Земледельческий труд не нуждается в сообществе, где пляшут под одну дудку [ choreographic sociétaire], душа крестьянина испытывает к нему отвращение».
Ссылка на ярость крестьян против заподозренных в коммунизме июньских инсургентов. — Далее,
из остальных 12 миллионов по крайней мере половина — «фабриканты, ремесленники, служащие... которым ассоциация не нужна»; остается 6 миллионов, которых, пожалуй, можно было бы вовлечь в ассоциацию, но очень скоро и они сбросили бы с себя это иго большинства.
Судить о существующих рабочих ассоциациях нужно не по их сегодняшним результатам, а по их «скрытой тенденции к установлению социальной республики. Сознают это рабочие или нет, однако вовсе не в мелочных интересах их обществ состоит значение их дела... В будущем... компании трудящихся, отбросив в сторону модные товары и игрушки [bilboquets], должны будут обратиться к тем крупным отраслям промышленности, которые UO самой своей природе являются их естественным уделом» (стр. 107).
В заключение предъявляет требование Л. Блану,
«этому кузнечику революции» *, «чтобы тот внес свою дань воздержания и молчания в дело пролетариата, попавшего в один злополучный день в его хилые ручонки» (стр. 108).
Вся штука вот в чем: ассоциация, как таковая, in abstracto **, разумеется, в такой же степени зависит от условий, как и всякое другое общественное отношение. Там, где соответствующие условия отсутствуют, не поможет никакая экономическая сила.
* У Прудона: «Луи Блан считал себя пчелой революции, а был только ее кузнечиком» (р. 108). Ред.
** — взятая абстрактно. Ред,
162
Ф. ЭНГЕЛЬС
Конкуренция так же предполагает наличие средств, как и ассоциация. Разделение труда может быть применено так же некстати, как и ассоциация. Можно столь же скверно обмениваться, как и ассоциироваться. Взятая абстрактно, каждая экономическая сила является такой же догмой, как и ассоциация, — все определяется существующими отношениями. А для исследования этих отношений Прудон как раз ничего и не сделал; он принял за норму мелкую парижскую промышленность, вместо того чтобы в развитии крупной промышленности, машинного производства, разделения труда — в том виде как они развиваются в Англии — ив растущей в связи с этим централизации капитала разглядеть потребность в ассоциации, а также понять, что для удовлетворения этой потребности нужны совершенно иные формы объединения и централизации сил, чем те, которые свойственны парижским игрушечным ассоциациям [Bilboquet- Assoziation] и прудоновским компаньонажам 212.
четвертый этюд «О ПРИНЦИПЕ ВЛАСТИ»
Сначала дифирамбы в честь «анархии», открытой г-ном Прудоном.
1. «Традиционное отрицание [идеи] правительства. Возникновение идеи, идущей ей на смену» (стр. 116)
Всякое правительство возникло из патриархальной семьи. «Крайним пределом эволюции гувернаментализма [évolution gouvernementale] яв ляется демократия» (стр. 119); последний предел демократии — демократия прямого народоправства Консидерана, Риттингхаузена и других. Но оно последовательно привело бы прямо к императорской тирании, как это было в Греции и Риме (стр. 121).
«Отрицание правительства» ведет свое начало с Реформации. Принцип авторитета был тогда вытеснен из области религии свободой совести. Позднее это было перенесено также и на светскую область, в особенности благодаря Жюрье, который придумал самый термин «общественный до говор» (?). Идея договора, «царства договоров», примененная практически к общественной шизни, торговле и т. п., а не только к политике, вывела бы за рамки всего этого гувернаментального режима. Но Руссо, «который ничего не понял в общественном договоре», погубил все дело.
Общественный договор должен свободно обсуждаться и приниматься каждым заинтересованным лицом, иначе он недействителен
и тому подобные пояснения в духе штирнеровской морали (стр. 125-127).
В общественном же договоре Руссо: 1) нет никаких сведений о том, что должно служить предметом договора; 2) в нем не содержится ни прав, ни обязанностей, а только одни кары (стр. 128).
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 163
Подробно доказывает, как Руссо, взяв за исходный момент «широчайшие демократические основы» *, отбрасывает их одну за другой как неосуществимые [unpraktikabel], как он, признав невозможность сохранить равенство и демократическое правительство, «делает вывод о необходимости [существования] пролетариата, о все развивающемся подчинении трудящегося, о диктатуре и инквизиции», а затем выдвигает не что иное, как «кодекс капиталистической и меркантильной тирании» (стр. 131—133).
Бешеные нападки на Руссо в высокопарнейшем стиле пру-доновской декламации, но для людей, вроде Луи Блана и К0, они все еще не лишены известной серьезности.
Сен-Симон первым смутно предугадал гибель гувернаментальпой системы и водворение промышленной системы. Он дедуцирует отрицание государства «из наблюдения над историей и из воспитания человеческого рода».
Прудон же дедуцирует его
«из анализа экономических функций и из теории кредита и обмена». XVIII век окончательно завершил Реформацию и на место идеи правительства выдвинул идею договора (свобода совести в области практики) (стр. 136-140).
2. «Общая критика идеи власти» (стр. 141)
1) «Абсолютная власть».
Trash **.
«Абсолютизм в своем наивном выражении ненавистен для разума и свободы» (!)
и тому подобные глубокомысленные вещи (стр. 142—146).
2) «Законы».
Бесчисленное множество прецедентов — следовательно, законы теряются в дурной бесконечности (стр. 147—150).
3) «Конституционная монархия».
«Ублюдочное правительство». Решает численность, большинство.
Пространное воспроизведение всей старой брани исторической школы 213 против большинства, против счета по числу голов и т. д. (стр. 150—156).
4) «Всеобщее избирательное право».
Обычная пустая болтовня о нравственных основаниях февральской революции.
* Эти слова взяты в кавычки Энгельсом, Ред. •• — Хлам, вздор, Ред,
164
Ф. ЭНГЕЛЬС
Чего можно достигнуть с помощью всеобщего избирательного права, показывают два национальных собрания и избрание Луи Бонапарта 214.
Всеобщее избирательное право решительно скомпрометировано (стр. 156—162).
5) «Прямое законодательство».
Во всяком случае, последовательно демократично, и Робеспьер и Луи Блан несправедливо (с их же собственной точки зрения) выступали против него.
Пускается в велеречивую дискуссию по поводу прямого народоправства.
Дело-де идет о том, чтобы выявить «общую волю» как некое «коллективное существо». Но это невозможно. Следовательно, необходима система вопросов, с которыми представители должны обращаться к народу и на которые он должен отвечать: да или нот. Это, однако, нелепость, ибо ни одного вопроса нельзя поставить так, чтобы па одной стороне были только истина, право и справедливость, а на другой — только глупость и беззаконие.
Приводится множество примеров, заимствованных главным образом у самого г-на Риттингхаузена, среди них один, касающийся промышленного порядка в прудоновском духе.
Риттингхаузеп спрашивает у народа: «Нужно ли проводить железную дорогу из Лиона в Авиньон», и народ отвечает: «Да». «Однако это «да» может оказаться чреватым серьезной ошибкой, во всех случаях оно означает посягательство на права отдельных местностей».
«Между Шалоном и Авиньоном имеется водный путь, который позволяет перевозить грузы на 70% дешевле всякого железнодорожного та рифа (!).Стоимость перевозок здесь может быть снижена еще — я в этом кое-что понимаю — на 90% (!!). Почему бы не воспользоваться этим почти даровым путем,
(что это значит, разве им уже не пользуются?)
вместо того чтобы сооружать железную дорогу, которая обойдется в 200 миллионов и разорит торговлю четырех департаментов? Ио совсем не так посмотрят па дело в законодательной палате, в которой не бывает комиссионеров по транспорту, и так как французский народ, за исключением жителей берегов Роны и Соны, знает не больше своих министров о том, что происходит на этих двух реках, то он выскажется —< и это нетрудно предвидеть, — руководствуясь не своим мнением, а согласно пожеланию своих уполномоченных. Восемьдесят два департамента при говорят к разорению (!!!) четыре остальных: так пожелало прямое законодательство» (стр. 169).
Итак, с наступлением промышленного порядка [Régime industriel] железным дорогам не суждено будет увидеть свет, если только на Роне будет существовать буксирное пароходство. Одно это уже достаточно многообещающе.
Затем на стр. 173 следует место против Ледрю-Роллена, конституции 1793 с, 21§ и той системы, при которой народ вотирует только законы,
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 165
общие установления, депутаты же принимают декреты, то есть играют роль исполнительной власти. Указывает, что посредством декретов можно в деталях вновь свести на нет решения, принимаемые народом в общей форме, в виде общих принципов (стр. 174—176).
Самая крайняя форма — когда народ сам выполняет все обязанности правительства. Но тогда он не сможет трудиться, а рабов у него нет. Итак, гувернаментальная идея приводит к абсурду.
Как практический пример рассматривается конституция 1793 г. и деятельность Робеспьера. Начиная с 1791 г. Робеспьер был сторонником золотой середины и ненавидел прямое народоправство. Он стремился путем еще большей концентрации правительственной власти устранить конституцию 1793*г., что совпадало и с желанием большинства Конвента, но это большинство не доверяло ему: завладев его же идеей, оно устранило Робеспьера и провело затем со в жизнь. Термидорианцы осуществили лишь то, что хотел сделать он сам.
Робеспьер был якобы реакционером на всех этапах революции и постоянно проповедовал умиротворение. В заключение — декламаторская характеристика Робеспьера,
пятый этюд «СОЦИАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ» Резюме:
ключ к решению лежит во взаимности и в идее договора, которая как бы является юридическим выражением взаимности. В связи с этим нужно выполнить три задачи: «1) Начисто остановить действие дезорганизаторской тенденции, унаследованной нами от прежней революции а1в, и приступить, при помощи нового принципа, к ликвидации существующих интересов; 2) организовать, опять-таки при помощи нового принципа, экономические силы и создать конституцию собственности; 3) растворить, потопить и заставить исчезнуть в экономической системе систему политическую или гувернаментальную» (стр. 196).
Если предположить, что выборы 1852 г. примут революционный характер, то тогда следовало бы сделать следующее:
1. «Национальный банк»
Граждане могут договариваться между собой и в случае необходимости устраивать складчину с целью основания любого учреждения, приносящего пользу участникам, — следовательно, также и для основания учетного банка, притом это может быть достигнуто без всякой надоб ности «как в ассоциации, так и в братотве... достаточно одного взаимного обязательства о продаже или обмене, одним словом, простого договора» (стр. 198).
У существующего банка м* есть тяготение к тому, чтобы превратиться в «общественное учреждение»: 1) потому что он пользуется капиталами, которые ему не принадлежат; 2) потому что он обладает привилегией эмиссии бумажных денег, а всякая привилегия «является общественной собственностью»; 3) потому что присвоение процентов с чужих капиталов и искусственное повышение цен на средства обращения незаконны, — «вот оттого-то банку в силу незаконности его доходов суждено стать
166
Ф. ЭНГЕЛЬС
общественным учреждением» (стр. 199). Итак, декрет: «Банк объявляется не собственностью государства, а учреждением общественной пользы, и отдается распоряжение о ликвидации компании». Как «учреждение общественной пользы, имеющее в качестве капиталистов своих собственных клиентов» (!), он никому не выплачивает процентов, так как общественная польза требует по возможности самых дешевых денег. Поскольку банковские проценты становятся общественным достоянием, они могут быть снижены до такого уровня, чтобы служить только для покрытия расходов по управлению, то есть до ijé, или 11я% (стр. 200—201). Это в корне отличается от социалистического государственного банка и от государственного кредита, который является не чем иным, как «демократическим и социальным освящением принципа грабежа, эксплуатацией трудящегося во имя, по примеру и под покровительством республики» (стр. 201—202). Таким образом, это должно быть декретировано Национальным собранием.
2. «Государственный долг»
Он равен 6 миллиардам; проценты составляют 270 миллионов и ежегодные платежи в счет погашения — 74 миллиона, итого — 344 миллиона в год плюс 56 миллионов пенсий и выплат вышедшим в отставку чиновникам.
Революционизирование банка и понижение нормы процента позволит начислять более низкий процент и на государственный долг. Он станет выплачиваться в форме аннуитетов 218, то есть из выплачиваемых 5% на проценты будет приходиться х/4, а 43/4% пойдут в счет возмещения капитала (стр. 204—205).
3. «Ипотечные долги, простые долговые обязательства»
Ежегодно выплачивается 1200 миллионов процентов,
капитал равен, таким образом, 24 миллиардам.
Декрет: «Для процентов по всем долговым обязательствам, ипотечным, не обеспеченным ипотекой, коммандитным акциям устанавливается та же норма
(как указано выше — 1/2%);
выплаты можно требовать лишь в форме аннуитетов. Аннуитеты для всех сумм ниже 2 000 франков должны составить 10%, для всех сумм свыше 2 000 франков — 5%. Одно из отделений Национального учетного банка превращается в Земельный банк; максимум выдаваемых им ежегодно ссуд будет составлять 500 миллионов» (стр. 213).
4. «Здания»
Если процент будет равен нулю, то квартирная плата также упадет до нуля.
(Итак, оказывается, прибыль и земельная рента зависят от процента) (стр. 218).
Декрет: «Всякий платеж, внесенный за наем помещения, будет отнесен в счет выкупа собственности, цена которой устанавливается в размере двадцатикратной квартирной платы
(а ремонт?).
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 167
С каждым взносом съемщик приобретает пропорциональную нераздельную долю собственности на дом, в котором он живет, а также на совокупность построек, сдаваемых внаем и служащих жилищем для граждан. Выкупленная таким образом собственность будет постепенно передаваться в ведение коммунальной администрации (!), к которой в силу самого факта выкупа
(которого она вовсе не платит!) переходит от имени
(и без согласия?)
массы съемщиков право ипотеки и преимущественное право и которая всем съемщикам на вечные времена гарантирует
(солидарность!!!!)
жилище по цене, равной себестоимости здания. — Коммуны 219 смогут всту пать в полюбовные соглашения с собственниками относительно немедленной ликвидации и выкупа их собственности на сдаваемые внаем по мещения. В этом случае, для того чтобы и современное поколение могло воспользоваться снижением платы за наем помещения, указанные коммуны могут немедленно понизить арендную плату в тех домах, относительно которых уже состоялась сделка, с таким расчетом, чтобы погашение состоялось лишь в течение 30 лет. — Для ремонта, обслуживания и сохранения зданий, равно как и для постройки новых, коммуны заклю чают соглашение с товариществами каменщиков или ассоциациями строительных рабочих на основе принципов и правил нового общественного договора. Собственники, живущие одни в своих домах, сохраняют право собственности на них до тех пор, пока они сочтут это нужным» (стр. 221—222).
5. «Земельная собственность»
Она революционизируется Земельным банком. «Особенность Земельного банка, кроме дешевизны и доступности кредита, состоит в том, что погашение долга производится в форме аннуитетов» (стр. 223). Например, банк имеет фонд в 2 миллиарда и выдает в год 400 миллионов ссуд на условиях пятипроцентных платежей в форме аннуитетов. Благодаря этому крестьяне расплачиваются с держателями ипотек и через 20 лет после получения ссуды становятся свободными от всякого долга. «По исте чении пяти лет капитал в 2 миллиарда был бы исчерпан; но банк, получая аннуитеты и производя удержания с ссуд (?!1), сумеет собрать в кассе сумму примерно в 400 миллионов, которую он снова пустит в оборот. Движение, следовательно, будет продолжаться, и таким образом через 20 лет земельная собственность покроет 4x2 миллиарда или 8 миллиар дов ипотечного долга, а через 30 лет она станет совершенно независимой от ростовщиков» (стр. 224).
Недурной расчет! 1) Непостижимо, что другое, если не надувательство, могут означать «удержания, производимые с ссуд».
168
Ф. ЭНГЕЛЬС
2) За первый год банк не будет иметь поступлений в форме аннуитетов, после первого года он их получит в размере 5% от 400 миллионов, то есть 20 миллионов; по истечении второго — 5% от 800 миллионов, то есть 40 миллионов; третьего — 60 миллионов; четвертого — 80 миллионов; пятого — 100 миллионов; и таким образом возвратит 300 миллионов, но никак не приблизительно 400 миллионов. Допустим, однако, что и на шестом году он должен был бы выдать 400 миллионов, тогда по истечении этого шестого года он вернет только 120 миллионов и, таким образом, не сможет дальше выплачивать по 400 миллио нов. Даже если бы банк был основан с фондом не в 2, а в 4 миллиарда и мог бы таким образом в течение 10 лет выдавать ежегодно по 400 миллионов, не затрагивая возвращаемые ему деньги, то и тогда уже на 13-м году ему пришел бы конец, и в этом году он смог бы выдать всего 360 миллионов вместо 400. При 4400 миллионах, стало быть при основном капитале, обеспечивающем выдачи ссуд в течение 11 лет, он оказался бы на мели через 17 лет и мог бы выплатить тогда всего 320 миллионов. Лишь при 4 800 миллионах он получил бы, наконец, возможность предоставлять ссуды в течение 12 лет из основного фонда, а в последующие годы — из обратных взносов, и к концу 20-го года сохранил бы остаток в 600 миллионов, располагая к этому времени подлежащим уплате, регулярно повторяющимся ежегодным взносом на погашение в 400 миллионов.
Доказательство:
До двенадцатого года выдачи производятся из капитала —
|
|
Ежегодный аванс |
Ежегодные взносы на погашение |
Остаток |
Сальдо общее за год |
|
1 — 12 г. 13 » 14 > 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 > 21 > 22 > |
4 800 МЛН, 400 » 400 » 400 » 400 > 400 » 400 » 400 » 400 > 400 ► 400 > |
240+ 260+ 280+ 300+ 320+ 340+ 360+ 380+ ' 400+ 400+ |
(1 320—400) 920 760 620 500 400 320 260 220 200 200 |
1320 = 1 160 = 1020 = 900 = 800 = 720 = 660 = 620 = 600 = 600 = 600 и т. д. |
остается неизменным.
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 169
Так г-н Прудон закладывает основы Национального земельного банка.
Но с этим делом можно справиться и быстрее. Декретируется следующее:
«Всякий взнос арендной платы за пользование недвижимостью доставит фермеру долю собственности на эту недвижимость и будет означать для него ипотеку. Целиком оплаченная земельная собственность немедленно поступит в ведение коммуны, которая займет место прежнего собственника
(почему же новый собственник не вступает сразу в свои права?)
и разделит с фермером как формальное право собственности, так и чистый продукт. Коммуны могут вступать с теми собственниками, которые этого пожелают, в полюбовное соглашение относительно выкупа рент и немедленной уплаты за поместья. В этом случае по просьбе коммун будет обеспечено расселение (!?) земледельцев и разменивание владений, причем будут приняты меры к тому, чтобы по возможности компенсировать (!?) различие в размерах участков качеством почвы и устанавливать размер арендной платы
(вот куда привел аннуитет!)
в соответствии с доходностью... Как только вся земельная собственность будет полностью выкуплена, все коммуны республики должны будут договориться об уравнении (!?) между собой как качественных различий земельных участков, так и [последствий] превратностей, свойственных земледелию. Та часть арендной платы за участки, лежащие на их территории, на которую они имеют право, будет употреблена на эту компенса цию и на общее страхование. С этого же момента те из прежних собствен ников, которые, обрабатывая свои поместья сами, сохранят право владения, будут ассимилированы с новыми владельцами, будут обязаны платить такую же арендную плату и будут наделены теми же правами
(какими?)
так, чтобы никакие случайности, связанные с местностью и наследованием, никому бы не давали привилегии перед другими, и условия об работки земли стали бы одинаковыми для всех ( till ). Земельный налог будет отменен
(после того, как вместо него учредят новый!).
Функции сельской полиции переходят к муниципальным советам» (стр. 228).
Гигантская нелепость!
Затем следуют разъяснения по поводу того, что
«право на прирост стоимости [plus-value]» 22 °, то есть право фермера на [плоды] тех улучшений, которые он вносит в обработку почвы, так же мало осуществимо, как и право на труд, независимо от популярности того и другого.
Отменное юридическое морализирование.
170
Ф. ЭНГЕЛЬС
ШЕСТОЙ ЭТЮД
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИЛ»
Все делается путем договоров. Я договариваюсь о чем-нибудь со своим соседом — моя воля выражена в договоре. Равным образом я могу заключить договор со всеми жителями своей коммуны, а моя коммуна — с любой другой коммуной, со всеми другими коммунами страны. «Я убежден, что закон, повсеместно установленный таким путем в республике и выражающий миллионы разных воль, всегда будет только моим законом» (стр. 236).
О, Штирнер!! Итак, режим договоров примерно в следующем виде:
1. «Кредит»
Он становится налаженным уже благодаря банку и сведению нормы процента к 1/2, 1/4, Ve! его организация завершится изъятием из обращения всего золота и серебра.
«Что касается личного кредита
(то есть ссуды без залога),
то его применение не касается Национального банка; этот кредит должен применяться только в рабочих товариществах и в промышленных или вемледельческих обществах» (стр. 237—238).
2. «Собственность»
Все социалисты 221 представляли ее либо в виде собственности ассоциированной коммуны, в которой крестьянин является ассоциированным сельскохозяйственным рабочим, либо же в виде государственной собственности, сдаваемой крестьянам в аренду. Первая форма является «коммунистической», «утопической», «мертворожденной»; при всякой серьезной попытке ее ввести «крестьяне были бы доведены до восстания» (стр. 238—239). Вторая форма тоже непригодна, она — «гувернаменталь-ная», феодальная, «фискальная» и т. п. Мотивы, приводимые для ее обоснования, сводятся на нет, так как чистый продукт
(то есть рента),
результат неодинакового качества почвы, принадлежит не государству, а «земледельцам, поставленным в худшие условия; именно поэтому в нашем проекте ликвидации мы предлагали пропорциональную для разного вида культур арендную плату с целью уравнения земледельцев в доходах, а также для страхования продукции» (стр. 240).
Это означает, что все остается по-старому, фермер продол жает выплачивать ренту первые 20—30 лет прежнему собствен нику, а потом в кассу всеобщего страхования, которая распределяет ее между владельцами плохих земель. Будут ли в связи с этим лучшие и худшие земли иметь совершенно одинаковую стоимость, или же, вернее, и те и другие одинаково потеряют
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 171
всякую стоимость, потому что как земля может при этом вообще обладать стоимостью в качестве капитала, — все это недоступно пониманию. Также недоступно пониманию, в чем здесь состоит отличие от уплаты ренты государству, особенно при свободном вмешательстве коммун во все дела. И это-то Прудон называет —
«независимой от ренты, освобожденной от цепей и исцеленной от проказы собственностью»,
полагая, что она теперь превратилась исключительно в средство обращения (стр. 242).
При конфискации государством земельной собственности были бы изъяты из обращения 80 миллиардов ценностей — стоимость всей земель ной собственности страны, они подлежали бы исключению из описи ценностей как принадлежащие всем, то есть никому. «Коллективное богатство нации, без сомнения, от этого совершенно ничего не теряет и не приобретает; значатся ли 80 миллиардов недвижимости, образующие состояние отдельных лиц, в общем счете или нет — не все ли равно обществу? Но безразлично ли это для арендатора, в руках которого земля, находящаяся в обороте, становится обращающейся ценностью, снова монетой?» (стр. 245).
При системе, когда крестьянин получает землю в аренду у государства, он очень скоро утвердил бы за собой право собственности на землю, что было бы для него нетрудным делом, «поскольку во Франции крестьяне воегда останутся самой крупной силой» (стр. 246).
Это совершенно правильно и естественно при условии, если будет сохранена паршивая парцеллярная система [Lauseparzellensystem], которую только и знает Прудон. Но тогда, наперекор Прудону, также быстро возродятся ипотеки и ростовщичество.
«Благодаря облегчению, которое дает выплата аннуитетами, стоимость недвижимости можно бесконечно делить, обменивать, подвергать всевозможным изменениям, не затрагивая самой недвижимости. Остальное — дело полиции, для нас вовсе нет надобности этим заниматься» (стр. 246-247).
3. «Разделение труда, коллективные силы, машины. Рабочие товарищества»
«Земледельческий труд отличается тем, что он меньше всего требует, или лучше сказать, самым энергичным образом отвергает форму сооб щества; никто не видел, чтобы крестьяне когда-либо образовывали сообщество для обработки своих земель, и никто этого никогда не увидит. Единственный вид объединения и солидарности, который мог бы суще ствовать в отношениях между земледельцами, единственная централи зация, пригодная * для сельского производства... это только та, которая
• — «еараЫе», в тексте Прудона: «susceptible», употребленное в том же значении. Ред.
7 М. и Э,, т. 44
172
Ф. ЭНГЕЛЬС
возникает в результате выравнивания чистого продукта, благодаря взаимопомощи в страховании и особенно благодаря уничтожению ренты »(11) (стр. 247).
Другое дело для железных дорог, копей, мануфактур. Здесь — либо наемный труд под командой капиталиста, либо — ассоциация. «Всем отраслям промышленности, рудничным разработкам или предприятиям, которые по своей природе требуют комбинированного применения большого количества рабочих различных специальностей, суждено стать очагами сообществ или рабочих товариществ» (стр. 249).
Напротив, в ремесле «я решительно не могу усмотреть почвы для ассоциации, если отбросить соображения в пользу ее пригодности в отдельных случаях». Взаимоотношения между хозяином и рабочим здесь также иного порядка; «из этих двух людей один называется патроном, другой работником — по существу же оба они совершенно равны и совершенно свободны» ( II ). При таких условиях соединение в одной мастерской многих работников, «которые все заняты почти одним и тем же делом, имеет целью лишь увеличить количество продукции, а не содействовать, используя их разносторонние способности, улучшению качества самого продукта» (стр. 251).
Обыватель, который знает только модные товары и мелкое ремесленное производство Парижа, промышленность без разделения труда и машин!
Договор между обществом и рабочими товариществами:
«Рабочее товарищество обязуется перед обществом, детищем которого оно является и от которого зависит, всегда доставлять продукты по ценам, наиболее близким к себестоимости, и оказывать услуги, которые от него требуются, а также предоставлять народу все желательные улучшения и усовершенствования. Ради этой цели рабочее товарищество воздерживается от всяких коалиций, подчиняется конкуренции *, предоставляет все свои книги и архивы в распоряжение общества, которое сохраняет по отношению к рабочему товариществу, как выражение своего права на контроль, полномочия на роспуск товарищества».
(Кто же будет пользоваться этими полномочиями?) Что касается самих членов товарищества:
«Каждый участник ассоциации... имеет нераздельное право на собственность товарищества; он имеет право выполнять в ней последовательно все обязанности, занимать в ней любые должности, соответствующие его полу, таланту, возрасту и старшинству; сообразно этому его воспитанием, образованием и обучением ремеслу надлежит руководить таким образом, чтобы, возложив на него его долю неприятных и тяжелых обязанностей, ознакомить его с разного рода трудовыми навыками, а также знаниями и обеспечить ему к моменту зрелости универсальные навыки и удовлетворительный доход. Должности замещаются путем выборов, и правила устава утверждаются всеми участниками ассоциации. Вознаграждение устанавливается в соответствии с характером должности, величиной дарования и степенью ответственности. Каждый член ассоциации принимает участие как в прибылях, так и в обязательствах товарищества в соответствии со своими услугами. Каждый имеет право выйти из ассо-
• — «se soumet & la concurrence», y Прудона: «подчиняется закону конкуренции» («se soumet à la loi de la concurrence») (p, 256). Ped,
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 173
циации, если он этого пожелает, соответственно произвести расчет и отказаться от своих прав; в свою очередь, товарищество вправе принимать во всякое время новых членов» (стр. 255—257).
«Применение этих принципов в переходную эпоху повлекло бы за собой инициативную деятельность класса буржуазии и его слияние с пролетариатом — результат, который... должен был бы вызвать радость у каждого подлинного революционера» (стр. 257). Пролетариату недо стает мыслящих голов, и буржуазия охотно пойдет на ассоциацию с ним. «Нет такого буржуа, который, зная, чтб такое коммерция и промышлен ность с их непомерным риском, не предпочел бы прочный оклад и почетную должность в рабочем товариществе всем треволнениям, связанным с частным предприятием» (стр. 258).
(Вам-то это, г-н Прудон, хорошо знакомо.)
4. «Конституирование стоимости, организация дешевой торговли»
«Справедливая цена»,
предмет больших ожиданий,
состоит: 1) из издержек производства и 2) из вознаграждения торговца или «возмещения за те выгоды, которых продающий лишает себя, отказываясь от владения вещью» (стр. 262). Чтобы защитить торговца, нужно обеспечить ему сбыт товаров. Временное правительство могло бы добиться немедленного процветания торговли, если бы оно гарантировало 5% до хода первым 10 000 промышленникам, каждый из которых внес в дело до 100 000 франков.
(Где же их взять даже в пору наивысшего процветания!)
В промышленность было бы вложено 1000 миллионов. «Десять тысяч торговых и промышленных предприятий не могут работать одновременно, не пользуясь взаимной поддержкой: то, что одно производит, потребляет другое; труд — это сбыт».
(Эта сухопутная крыса знает только home trade * и воображает, подобно самому плоскому английскому тори, что с ее помощью можно достигнуть процветания крупной промышленности!)
Поэтому для создания подобной гарантии государству не только не пришлось бы затратить 50 миллионов, но даже и 10 миллионов (стр. 266— 267).
Worse trash never was written not even by Proudhon himself **.
Итак, договоры на следующих основах:
«Государство во имя временно представляемых им интересов, департаменты и коммуны — каждая от имени своих жителей...—предлагают
• — внутреннюю торговлю. Ред. •• — Большего вздора еще никто не писал, даже сан Прудон, Ред.
7 »
174
Ф. ЭНГЕЛЬС
гарантировать предпринимателям, которые готовы предоставить наиболее выгодные условия, либо процент
(после того, как проценты упразднены)
на капитал и материалы, затраченные в их предприятиях, либо твердо фиксированное вознаграждение, либо же — там, где это возможно, — достаточное количество заказов. — Подрядчики, со своей стороны, обязуются поставлять продукты и выполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию потребителей, удовлетворяя все их требования. Впрочем, сохраняется полный простор для конкуренции. Все эти лица должны указать составные элементы их цен, способ поставки, продолжительность контракта и имеющиеся у них средства для его выполнения. Заявки на подряды подаются в запечатанных конвертах в течение установленного срока, а затем вскрываются и публикуются за 8, 15 дней...* до аукциона. По истечении срока каждого контракта назначаются новые публичные торги» (стр. 268—269).
5. «Внешняя торговля, баланс экспорта и импорта»
Поскольку назначением таможен является охрана отечественной промышленности, то понижение нормы процента, ликвидация государст венного долга и частных долгов, уменьшение квартирной и арендной платы, конституирование стоимости и т. п., значительно снизив издержки производства всех изделий, тем самым создадут возможность и понижения пошлин (стр. 272).
Прудон стоит за уничтожение таможни, как только процент будет понижен до V2 или 1 /i%.
«Если бы завтра... французский банк снизил тариф на свои учетные операции до 1/2%, включая проценты и комиссионные, тотчас же фабриканты и торговцы Парижа и провинции, которые не пользовались ранее кредитом этого банка, постарались бы преуспеть в переговорах с целью приобретения его банкнот, потому что за эти банкноты, принимаемые по номиналу, они будут платить 1 h°lo вместо 6, 7, 8 или 90/0, в которые обходятся им деньги, полученные у других банкиров//!!... К этим банкнотам стали бы прибегать также фабриканты и торговцы за границей. Поскольку французские банкноты стоили бы только %%. в то время как банкноты других государств обходились в 10 или 12 раз дороже (11), предпочтение было бы отдано первым, всякий был бы заинтересован в употреблении именно этих денег в своих платежах»!/ (стр. 274). Чтобы получить больше французских банкнот, иностранные производители стали бы снижать цены на свои товары, и наш ввоз стал бы увеличиваться. Но так как иностранцы не могли бы использовать эти экспортируемые банкноты ни для скупки во Франции ренты, ни для возвращения их нам снова в виде долговых ссуд, ни для приобретения ипотечных прав на нашу землю, то этот ввоз не причинил бы нам вреда; «напротив того, не нам приходилось бы ограничивать наши закупки, а иностранцы должны были бы соблюдать осторожность при продаже»( II) (стр. 274-275).
• У Прудона: «в зависимости ol важности договоров — за неделю, за две недели, за три месяца» (р. 269), Ред.
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 175
Под влиянием прилива этих чудодейственных французских банкнот иностранцы были бы вынуждены повторить у себя такую же экономическую революцию, какую Прудон произвел во Франции.
В заключение призыв к республиканским адвокатам, всем этим кремьё, мари, ледрю-ролленам, Мишелям и другим воспринять эти идеи. Они, представители правовой идеи, в силу своего призвания обязаны-де проложить здесь новый путь (стр. 275-276).
СЕДЬМОЙ ЭТЮД
«РАСТВОРЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ»
1. «Общество без власти».
Декламация .
2. «Упразднение правительственных функций. Культы».
Исторические, религиозно-философские и поэтические фан тазии. В итоге: voluntary system *, которая господствует в Америке, в этой области равнозначна упразднению государства (стр. 293-295).
3. «Правосудие».
Никто не имеет права вершить суд над другим, если только этот последний сам не сделал его судьей и если нарушенный закон не получил свободного одобрения со стороны самого нарушителя,
и тому подобные глубокомысленные изыскания.
При режиме договоров каждый сам изъявляет свое согласие с зако ном, и «в соответствии с принципом демократии судья должен избираться самими же ответчиками»
(это имеет место в Америке);
в гражданских делах тяжущиеся стороны должны выбирать третейских судей, решение которых во всех случаях подлежит исполнению. Таким образом, государство устранено также из области правосудия (стр. 301—302).
4. «Администрация, полиция».
Там, где все состоят во взаимных договорных отношениях, нет никакой необходимости в полиции; «граждане и коммуны
(а следовательно, также и департаменты, и целые нации)
больше не нуждаются во вмешательстве государства для управления их имуществом, постройки их мостов и т. п. и для выполнения всех обязан ностей по надзору, охране и полицейской службе» (стр. 311),
• — добровольная система, Ред.
176
Ф. ЭНГЕЛЬС
Другими словами, административное управление не упраздняется, оно только децентрализуется.
5.
«Народное
просвещение, общественные работы, земледелие, тор
говля, финансы».
Все эти министерства упраздняются. Школьных учителей выбирают отцы семейств. Школьные учителя избирают высших должностных лиц в области просвещения, вплоть до верховного «Академического совета» (стр. 317). Высшее теоретическое образование будет соединено с профессиональным; до тех пор пока оно оторвано от обучения ремеслу, оно остается аристократичным по природе, оно служит на пользу господствующему классу, укрепляя его и его власть над угнетенными (стр. 318—319).
А в целом теоретическое образование толкуется очень узко, оно рассматривается в пределах разделения труда, совершенно так же, как ученичество в рабочих товариществах.
Впрочем, если «в республике будет существовать центральное бюро по обучению, такое же — по делам мануфактур и искусств... я не стану возражать».
Нужно только удалить прочь министерства и французскую систему централизации (стр. 319).
Министерство общественных работ должно прекратить свое существование, так как оно подавляло бы инициативу коммун, департаментов и рабочих товариществ.
Итак, и здесь англо-американская система в социальном обрамлении (стр. 320—321).
Министерство земледелия и торговли — паразитизм и коррупция в чистом виде. Доказательство: его бюджет (стр. 322—324).
Министерство финансов отпадет само собой, когда никакими финансами больше не нужно будет управлять (стр. 324).
6. «Иностранные дела, война, флот».
Иностранные дела исчезают вместе с неизбежным всеобщим распространением революции. Нации децентрализуются, и их отдельные части будут общаться со своими соседями так же, как если бы все они принадлежали к одной нации. Дипломатии и войнам придет конец. Если Россия вознамерится вмешаться, то Россию революционизируют. Если Англия пе пожелает несколько умерить свои притязания, то и она будет революционизирована, и тем самым трудности отпадут. У революционизированных наций интересы одни и те же, так как политическая экономия, подобно геометрии, одинакова для всех стран. «Не существует русской, английской, австрийской, татарской или индусской политической экономии, так оке как нет венгерской, немецкой, американской физики или геометрии» (стр. 328).
«ЭПИЛОГ»
Декламация чистой воды. И здесь следующее, бьющее прямо в цель место, которое самым курьезным образом опрокидывает все здание анархии.
КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА «ОБЩАЯ ИДЕЯ РЕВОЛЮЦИИ» 177
При экономическом порядке «разум, сопутствуемый опытом, раскрывает человеку законы природы и общества, а затем говорит ему: эти законы суть требования самой необходимости; никто из людей их не создал, никто их тебе не навязывает... Обещаешь ли ты уважать честь, свободу и собственность твоих братьев? Обещаешь ли ты никогда не присваивать — ни силой, ни мошенничеством, ни лихоимством, ни биржевой игрой — продукты производства или имущество, принадлежащие другому? Обещаешь ли ты никогда не лгать и не обманывать — ни перед судом, ни в торговле, ни в одной из твоих сделок? Ты свободен как принять это, так и отвергнуть. В случае отказа ты становишься участником общества дикарей; покинув общность человеческого рода, ты окажешься под подозрением, ты будешь лишен всякой защиты. При малейшей обиде первый встречный может ударить тебя, подвергаясь обвинению разве только за ненужно жестокое обращение со скотиной. Если же ты, наоборот, присягнешь договору, то будешь принят в общество свободных людей. Вместе с тобой берут на себя обязательство все твои братья, обещая тебе верность, дружбу, помощь, услуги, взаимный обмен. В случае нарушения с твоей или с их стороны — по небрежности, под влиянием страсти или по злому умыслу — вы будете отвечать одни перед другими как за ущерб, так и за беспорядки и отсутствие безопасности, причиной которых явились вы сами, и эта ответственность может повлечь за собой кару вплоть до изгнания или предания смерти, в зависимости от тяжести клятвопреступления или от того, является ли это рецидивом» (стр. 342—343).
Следует формула присяги нового союза — клянутся «своей совестью перед лицом своих братьев и всего Человечества».
В заключение рассуждения о современном положении дел.
Крестьянин находится вне политики, рабочий также, но и тот и другой — революционны. Буржуа, как и они, преследует свои собственные интересы — и также мало заботится о форме правления. Сам он по наивности называет это «быть консерватором и отнюдь не сторонником революции». — «Торговец, фабрикант, мануфактурист, сельский хозяин-собственник... все эти люди жаждут жизни, и хорошей жизни; они революционны до глубины души, только в поисках революции идут под ложным флагом». Кроме того, они были напуганы тем, что революция в первый момент неизбежно должна была выразить «специально точку зрения пролетариата»; «теперь этот вопрос достаточно хорошо выяснен, чтобы подобный раскол
(между буржуазией и пролетариатом)
продолжался и впредь» (стр. 347). При кредите с нормой процента в '/4 и буржуазия сделается революционной, революция перестанет внушать ей страх.
Заключительная декламация, обращенная к Кавеньяку и Ледрю-Роллену:
если'они утверждают, что «республика выше всеобщего избирательного права», то это означает — «революция выше республики» Ю2.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по рукописи
о августе и октябре 1SS1 е. _ _ .
Перевод с немецкою и французского 'Впервые опубликовано на русском языке в «Архиве Маркса и Знг«лка», т, X , 194S
178 ]
К. МАРКС
ГЕНЕРАЛ КЛАПКА 22ï
Приведенная ниже программа генерала Клапки, которую мы получили из надежного источника, предназначена для передачи Кошуту после его приезда в Лондон. Она свидетельствует о том, насколько сильно подорван авторитет Кошута среди его наиболее известных приверженцев. В ней говорится следующее:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Поскольку на некоторое время, а возможно и надолго, Я ухожу с арены всякой политической деятельности, то, не желая ложного истол кования своих принципов и взглядов, заявляю здесь моим друзьям.
1) Никакой диктатуры ни на родине, ни за ее пределами, пока народ не выразит свою волю в этом вопросе.
2) Почитая мнение большинства соотечественников и в соответствии со своим собственным убеждением, я признаю главой объединения вен герских эмигрантов нашего уважаемого согражданина Людвига Кошута, но при этом заявляю, что считаю совершенно несовместимым с основным принципом нашей революционной деятельности и весьма вредным для нашего дела цепляние sa должность и титул правителя.
3) По поводу нашей деятельности за границей:
а)
для руководства делами несколько избранных всей эмигра
цией представителей вместе с уже названным
главой должны
образовать центральный комитет;
б)
при распределении денежных
средств, полученных благодаря
популярности венгерского дела, следует руководствоваться
не личными отношениями, а только
соображениями о том, что
сделал тот или иной верный сын родины для нее и вообще имеет
ли он право на поддержку. В соответствии с этим деньги, пред
назначенные центральным комитетом
для поддержки частных
лиц, отдаются в беспристрастное и
публичное распоряжение
комитетов, которые избираются
соответствующими корпора
циями эмигрантов.
По поводу нашей деятельности внутри страны.
Как только Венгрия будет в состоянии начать борьбу не на жи»нь, а ша смерть против своих тиранов, тот, кто будет тогда стоять во главе
ГЕНЕРАЛ КЛАПКА
179
всеобщего дела, обязан в наикратчайший срок созвать на основе всеобщего избирательного права учредительное национальное собрание в качестве единственной революционной власти, и правительство должно возникнуть только как результат деятельности этого собрания
4) Так как в нашу задачу не может входить вмешательство в деятель ность будущих представителей нации и разработка уже теперь конститу ции для нашего отечества, то мы в состоянии наметить только те прин ципы, от которых ждем в будущем расцвета, возрождения, мощи, благосостояния отечества и гарантии сплоченного и нерасторжимого союза всех национальностей; этими принципами являются — если мы, кроме того, хотим считаться с духом и прошлым нашего народа, — свобода, равенство и братство, в равной степени применимые как к индивидуумам, так и к национальностям.
Это мои личные принципы. Но так как Провидение, не считаясь с нашими мелкими соображениями, часто оказывает свое решающее влияние на судьбу наций именно там, где этого меньше всего можно ожидать, и так как, по моему мнению, в настоящее время вопросы будущей конституции Венгрии стоят на втором плане, зато главным вопросом, вопросом жизни, является низвержение австрийского ярма, грозящего полным уничтожением национального существования, я заявляю, что, как своим мечом, так и своим влиянием, буду служить любой иностранной державе, целью которой является свержение австрийской династии, с чем связано восстановление независимости и государственного существования Венгрии.
,„_„ Георг Клапка, генерал
Апрель 1852 г.
Из приведенной выше программы можно составить весьма точное представление о характере Клапки. Он прочно сидит между двух стульев, ему очень хотелось бы казаться самостоя тельным и энергичным, но для этого у него недостаточно сил. Природный инстинкт сильнее воли. Он хочет Кошута и одновременно не хочет его. Одной рукой он его ласкает, а другой бьет по щекам, но чтобы оплеухи были понежней, он надевает шел ковые перчатки. Клапка забывает, что пощечина, данная в пер* чатке или без нее, остается пощечиной и что столь тщеславный, раздражительный и честолюбивый человек, как Кошут, не забывает мелкие оскорбления так же, как и крупные. Такие колеблющиеся, несамостоятельные люди, как Клапка, имеют несчастье всегда все делать только наполовину. Этой программой Клапка демонстрирует свою политическую инфантильность, а его заключительная фраза носит даже отпечаток неловкой опрометчивости. Клапка забывает, что часто несвоевременно сказанного слова бывает достаточно, чтобы предать огласке все планы. Желаем Клапке-генералу не оказаться в положении, когда он будет раскаиваться в неловкости Клапки-дипломата.
Написано И. Марксом Печатается по рукописной копии,
в первой половине мая 1852 г, сделанной тенни Маркс
Перевод в немецкого
Публикуется впервые
180 ]
К. M A P К С
* ПО ПОВОДУ КЭРИ 221
В Америке, где сегодня общественные противоречия гораздо менее развиты, чем в Европе, устои которой основательно подточены, эта теория нашла своего представителя в лице экономиста Кэри225. В лице же профессора Уэйленда нашелся ей и кон сервативно-буржуазный (с точки зрения более новой английской школы) противник. К великому огорчению приверженцев Кэри, «Принципы политической экономии» Уэйленда22в были введены в качестве учебника в большинстве училищ Новой Англии227.
Главная заслуга Кэри состоит в том, что он действительно вырабатывает своеобразный, вырастающий прямо на американской почве продукт без посторонних примесей. Его наука представляет собой не больше и не меньше как универсальную сущ ность, она является чистой наукой янки. Она пытается доказать, будто экономические условия буржуазного общества не являются условиями борьбы и антагонизма, а скорее условиями ассоциации и гармонии. (В теории очень красиво, практику же в этой области поставляют современные фабричные города!) Эти эко номические условия делятся на:
1) ренту, долю земельного собственника;
2) прибыль, долю капиталиста;
3) заработную плату, долю рабочего в стоимости готового продукта.
Как мы видим, Кэри слишком сведущ, чтобы по примеру новоиспеченных римских юнцов из Филадельфии 228 или их предшественника, s. v. * Гейнцена, связывать существование
• — salva venia — о вашего позволения. Ред,
ПО ПОВОДУ КЭРИ
181
классов с наличием политических привилегий и монополий и поэтому считать, что Великая французская революция, безус ловно, сымпровизировала социальную гармонию и раз и на всегда взяла на нее патент 22в. Кэри же, напротив, ищет для экономических фактов экономические причины, при этом он, разумеется, не выходит за рамки еще нечетко выраженных, расплывчатых, находящихся в движении классовых отношений в Америке. Поэтому он доказывает лишь то, что принимает некий преходящий момент в развитии общества за нормальные отношения его жизни. Наиболее характерна полемика школы Кэри с английскими экономистами. Школа Кэри нападает на Рикардо, на этого классического представителя буржуазии и наиболее стоического противника пролетариата, как на человека, произведения которого якобы являются арсеналом для анархистов, социалистов, короче говоря, для всех «врагов буржуазного строя». С таким же фанатизмом, с каким она обрушивается на Рикардо, преследует она и всех прочих авторитет ных экономистов современной буржуазной Европы и упрекает этих экономических герольдов буржуазии в том, что они разрывают общество на части и куют оружие для гражданской войны, цинично доказывая, что экономические основы различ ных классов должны порождать неизбежный и постоянно растущий антагонизм между ними.
Француз Бастиа — безусловный сторонник свободной тор говли; римские юнцы из Филадельфии с наивным простодушием повторяют за ним как молитву «благословения свободной тор говле». Сам Кэри начал свою карьеру экономиста сторонником свободной торговли и в свое время отпускал отменные шутки: например, ставил на одну доску с Китаем буржуазную Францию из-за ее склонности к покровительственным пошлинам 23°. Как и подобает всем сторонникам свободной торговли, причиной всех диссонансов в обществе он считал неуместное вмешательство государства в дела, относящиеся к компетенции частной промышленности, и пр. В этом он был целиком янки, янки с головы до ног. Сегодня г-н Кэри скис, он стенает и сокрушается вместе с французом Сисмонди по поводу разрушительных влияний находящейся в процессе централизации круп ной промышленности Англии, которая, по его мнению, создает «дурной принцип» в обществе ш. Не говоря уже о том, что Кэри совершенно не замечает революционного, преобразующего момента в разрушительных влияниях промышленности, он все-таки еще слишком янки, чтобы возложить ответственность на промышленность как таковую, что было бы единственно правильным выводом из его рассуждений. Он возлагает на англичан
182
К. МАРКС
личную ответственность за влияние их промышленности, не говоря уже о том, что Рикардо снова оказывается ответственным за Англию. Впав в это противоречие, Кэри с неизбежностью постепенно должен все больше и больше склоняться к мелкобуржуазным [порядкам1, к некогда существовавшему, но давно вытесненному патриархальному союзу земледелия с мануфактурой.
Все, что произошло с Кэри и его сторонниками, определяется тем, что они — янки: под предлогом и — мы можем даже допус тить — с добрым намерением и с убеждением, что они вступаются за «самый многочисленный и самый страдающий класс», они бросают вызов английской буржуазии. Сисмонди делал это, громя современную промышленность и тоскуя по прежней мануфактурной промышленности; они же делают это, проповедуя покровительственные пошлины сегодня. Таким образом, по сути дела, они со всеми своими филантропическими фразами хотят лишь искусственно ускорить английское развитие промышленной буржуазии в Америке. Это — филантропически-утопическая манера конкурентной борьбы между Англией и Аме рикой, борьбы, которая является для современной буржуазной политической экономии в высшей степени интересным феноменом. Гениальная сторона политической экономии проявляется здесь самым блестящим образом 232.
Дело в том, что в конкурентной борьбе между Америкой и Англией мы видим, как последняя все больше и больше оттесняется на позиции Венеции, Генуи и Голландии, которые все вынуждены были давать свой капитал в ссуду под проценты, после того как было уничтожено их монопольное положение в торговле. Генуя и Венеция способствовали возвышению Гол ландии, Голландия снабдила капиталом Англию, и теперь Англия вынуждена точно так же поступать по отношению к Соединенным Штатам Америки. Только теперь этот переворот во всех отношениях куда грандиознее того, что было раньше. Положение Англии отличается от положения этих стран тем, что у последних торговая монополия была первенствующим моментом, что оказалось нетрудным сломить, в то время как Англия к тому же обладает и промышленной монополией, которая по своей природе более устойчива. Зато, с другой стороны, английская буржуазия в такой колоссальной степени перенасыщена капиталом, что вынуждена строить железные дороги в обеих частях света, вкладывать капиталы в газовое освещение Берлина, виноградники Бордо, русские фабрики и американские пароходы. Все это дает материал для интереснейших наблюдений, как сила притяжения, которой пользуется английский центра-
ПО ПОВОДУ КЭРИ
183
лизованный капитал [ Centralkapital], неизбежно дополняется центробежной силой, которая снова гонит его во все концы света. Вспыхни революция —и окажется, что англичане создали для европейского континента все средства сообщения и машины для производства безвозмездно; Америка не ждет революций; она ведет свои расчеты консервативно-буржуазным путем, время от времени ликвидируя свою задолженность Англии посредством банкротства. В этом одна из тайн ее быстрого возвышения, за кономерное явление, подобное железнодорожным и пароходным катастрофам. Та же самая беспечность, тот же самый неистовый бум производства, которые дают возможность появиться на свет десяткам тысяч, при других обстоятельствах никогда бы не родившимся, хладнокровно, с помощью паровой машины, приводят людей сотни за сотнями к преждевременной смерти. Одно является лишь дополнением другого. Безудержное умно жение богатства капиталистических ассоциаций при полном пренебрежении человеческими жизнями! — так гласит комментарий к «победе индивидуальности у англосаксов»! 283
Написано К. Марксом в 1852—1853 гг. Печатается по тексту газеты
Напечатано в газете «Die Reform» Перевод с немецкого
Л 49 и 50, 17 и 11 сентября 1853 г.
184 ]
К. МАРКС
ДАВИД УРКАРТ 23 *
В одной из доставленных нам последними пароходами анг лийских газет мы, к своему удивлению, обнаружили, что г-н Ур- карт, о котором в последнее время неоднократно упоминалось как об агитаторе за проведение антирусских митингов в Англии, назван агентом, находящимся на службе у России 236. Мы можем объяснить подобную нелепость лишь интригами «свободного славянства», так как вся Европа до сих пор знала Уркарта только как отъявленного, фанатичного до мании врага России и друга Турции. Утверждают, что, когда он был секретарем посольства в Константинополе, русские пытались даже отравить его. Поэтому скажем несколько слов об этом человеке, о действительной роли которого, хотя имя его у всех на устах, почти никто не отдает себе отчета.
Уркарт постоянно носится с какой-нибудь навязчивой идеей. В течение 20 лет он безуспешно разоблачал Пальмерстона и рус ские происки и должен был в силу этого, естественно, наполовину лишиться разума, как всякий человек, одержимый какой- либо правильной идеей, которую он, однако, не в состоянии провести в жизнь. То обстоятельство, что Пальмерстон со своей дипломатией мог продержаться до сих пор, он объясняет распрями между вигами и тори, и это отчасти правильно, но, разу меется, лишь отчасти. Единственное спасение от теперешнего английского парламента, который оценивает любое лицо не по его заслугам, а только в зависимости от того, занимает оро ту или иную должность или нет, Уркарт, как прирожденный консерватор, видит в усилении прерогатив королевской власти, с одной стороны, и в местном муниципальном самоуправлении,
ДАВПД УРКАРТ
185
с другой. Он хотел бы, чтобы для сопротивления России Запад составил столь же компактную и единообразную массу, как русские. Поэтому он не желает ничего слышать о партиях и является главным врагом централизаторских стремлений. Так как все происходившие до сих пор революции, начиная с 1848 г., в какой-то момент благоприятствовали продвижению России, он сумасбродным образом приписывает эти результаты заранее обдуманным намерениям русской дипломатии. Агенты России при этом в сознании Уркарта являются тайными главарями революций. Поскольку в рамках консервативной, старой системы Австрия составляет прямой противовес России, он проявляет особую привязанность к Австрии и неприязнь ко всему, что может угрожать ее международному могуществу. В противоположность, с одной стороны, русскому, а с другой — революционному нивелированию, он твердо стоит за индивидуализм и самобытность народов. Поэтому в его глазах евреи, цыгане, испанцы и мусульмане, включая черкесов, являются четырьмя самыми выдающимися народами, потому что они-де не затронуты пошлостью ( vulgarism) Парижа и Лондона. Из всего этого видно, что его понимание истории должно было принять весьма субъективный характер; история представляется ему в большей или меньшей степени исключительно делом дипломатии. Что же касается объективного, материалистического понимания истории, то он считает его чем-то стремящимся помешать преступлениям предстать перед правосудием и, наоборот, желающим возвести их в закон. Как отозвался об Ур-карте один критик,
«он почтенный, упрямый, правдолюбивый, восторженный, глубоко погрязший в предрассудках и совершенно рехнувшийся старый господин».
Поскольку в его жизни лишь одна цель — борьба против России, которую он ведет с присущей маньякам проницательностью и большим знанием дела, то все это не так уж страшно. Рыцарь одной жизненной цели должен неизбежно снова предстать в виде «благородного рыцаря печального образа», да и в санчо пансах также у него нет недостатка — как здесь, так и в Европе. Один из модернизированных образцов этого типа нашел свое воплощение в А. Р. С. *, этом главном лондонском оплоте «Tribune ».
|
Печатается по тексту газеты Перевод с немецкого |
Написано К, Марксом около 20 ноября 1853 г.
Напечатано в газете « Die Reform » M 112, 19 декабря 1853 г.
* — А. Ф. Пульском, Ред,
186 J
К. МАРКС
БРИТАНСКИЕ ФИНАНСЫ. - ВОЛНЕНИЯ В ПРЕСТОНЕ 23«
Лондон, пятница, 31 марта 1854 г.
Билль о подоходном налоге принят 237. Сэр Дж. Пакингтон выступил против него открыто и с полным основанием, хотя и достаточно нудно, отметив, что недавняя публикация Синих книг 238, секретной и доверительной корреспонденции, совсем по-новому осветила прошлую финансовую политику канцлера казначейства. Г-н Гладстон внес бюджет мира 18 апреля 1853 г., когда он должен был быть совершенно уверенным в близости войны 239. За 3 дня до его заявления коалиционный кабинет получил от полковника Роуза известие о том,
«что князь Меншиков, еще не ознакомив великого визиря с характером своей миссии и своих требований, настойчиво пытался получить у него формальные заверения в том, что он не станет сообщать о них ни британским, ни французским представителям» ш.
Коалиционный кабинет ш знал также из секретной корреспонденции о намерении императора * устранить «больного человека» ш, чтобы тот не выскользнул из его рук. Располагая такой информацией, елейный пьюзиит 213 заходит еще дальше и обращается к парламенту:
«Если вы продлите действие подоходного налога на 7 лет, то в первые два года я прошу лишь по 7 пенсов с фунта; в следующие два года — по 6 пенсов с фунта, а в оставшиеся три года — только по 5 пенсов с фунта, а затем подоходный налог должен совсем исчезнуть».
Г-н Гладстон, как помнят читатели нашей газеты 2 ii, представлял подоходный налог могущественным орудием войны,
* — Николая I , Ред,
БРИТАНСКИЕ ФИНАНСЫ. — ПОЛПЕННИ В ПРЕСТОНЕ
187
от которого следует избавиться в мирное время. Он заявил это, зная, что война почти неизбежна и что еще до истечения года возникнет необходимость удвоить налог, составлявший 7 пенсов с фунта. Теперь он равен 1 шилл. 2 пенсам с фунта. Если кто-нибудь скажет, что сверхскрупулезный канцлер казначейства сам обманулся в положении дел, я отвечу, что в понедельник на прошлой неделе * произошло падение государственных ценных бумаг, потому что публикация секретных документов, по уверению биржевых маклеров, наглядно подтвердила твердое намерение царя осуществить свои планы и невозможность доверять даже самым положительным его заверениям. Члены «кабинета всех талантов» должны обладать проницательностью, по крайней мере, равной проницательности членов фондовой биржи.
В то же самое время, когда Дуне Скот коалиционного каби нета, доктор Субтилиссимус 245, предложил свой финансовый план конверсии государственных ценных бумаг, он таким об разом, невзирая на полученные предупреждения, обеспечил пустоту в казне к самому моменту «катастрофы». В указанные ниже годы балансы казначейства были таковы:
1844-6 254 113 ф. ст. 1849-9 748 539 ф. ст.
1845-8452090 > > 1850-9[245676] ** » »
1846-9131282 > > 1851-8 [381637] » >
1847-8 457 691
> »
1852
- 8 [841 8221 >
»
1848-8105 561
» >
В начале 1853 г. г-н Гладстон ухитрился сократить баланс до 4 485 230 ф. ст., а вскоре он вообще будет сведен на нет, так как этот изобретательный финансист вынужден компенсировать оставшуюся задолженность Компании Южных морей24в из расчета 100 ф. ст. за акцию, в то время как на бирже ее с трудом можно продать по 85 ф. ст.
Такая финансовая политика коалиционного кабинета пол ностью [соответствует] его дипломатической политике, когда «благодарят» царя за доверенные по секрету планы раздела; его парламентской политике, когда палате всегда сообщаются [известия], прямо противоречащие тем, которыми располагает кабинет; его военной политике, когда Омер-пашу вынуждают бездействовать, пока царь не закончит своих приготовлений к вторжению; той военной политике, когда перебрасывают войска на пароходах, а лошадей на парусниках, офицеров же
* — 20 марта 1854 г. Ред. ** Цифры восстановлены по тексту речи Пакингтояа, опубликованной в газете «Times» 31.Ш 1854. Ред.
188
К. МАРКС
задерживают в Лондоне, когда солдат высаживают в Константинополе, считая из всех прочих мест наиболее пригодным для захвата именно Константинополь, а не Одессу, Крым, Финляндию, устье Дуная или любой другой опасный для России пункт, и делается это не с целью разбить Казака *, а для того, чтобы в такой кризисный момент ознакомить как мусульманских, так и византийских священников с западным правом и гражданским равенством.
Несмотря на сильную оппозицию ирландских членов, палата общин, по-видимому, приняла решение перейти к рассмотрению предложения г-на Чамберса и назначить комиссию по расследованию деятельности и хозяйственного устройства женских монастырей. Главный довод, на который опирается предложение г-на Чамберса, — изоляция девочек, насильственно отторг нутых от своих родителей и определенных законом опекунов. Английская буржуазия содрогается при мысли о возможности похищения девочек для монастырей. Однако чувство справед ливости, продемонстрированное ею в данном случае, весьма притупляется тогда, когда девочек похищают для удовлетворения вожделений аристократов или прихотей хлопчатобумажных магнатов. На прошлой неделе 16-летнюю девушку соблазнили уйти от родителей, завлекли на ланкаширскую фабрику, где ее держали ночью и днем, как в тюрьме, под замком, принуждая там же спать и есть. Когда отцу стало известно, что случилось с его дочерью, ему не было позволено даже встретиться с ней, и полиция выгнала его с фабрики. В этом случае были нарушены фабричный закон, закон о личной свободе, закон, дающий отцу право защиты своего несовершеннолетнего ребенка, тем самым ни в грош не ставятся права, предоставляемые Habeas corpus . Произошло грубое и вопиющее похищение ребенка. Однако как повели себя в этом случае местные власти, когда несчастный отец обратился к ним в поисках справедливости? Ответ гласил: «Мы ничего не можем сделать».
Г-н Томас Данкомб представил петицию, подписанную в течение 24-х часов более чем 7600 жителями города Престона, с жалобой на образ действия местных властей этого города при проведении законов о поддержании спокойствия и порядка. Он заявил, что сразу после пасхальных каникул внесет предложение о создании комиссии по расследованию.
«Агитаторы Престона, опытные подстрекатели к стачке, — люди, претендующие на то, что они составляют новое сословие в государстве, и на то, что они выпестовали Рабочий парламент 24?, наконец были оста-
* — Николая I. Ред.
БРИТАНСКИЕ ФИНАНСЫ. — ВОЛНЕНИЯ В ПРЕСТОНЕ 189
новлены. Около десятка из них были арестованы, допрошены местными властями по обвинению в заговоре, выпущены под залог и предстанут перед ливерпульским выездным судом присяжных».
В таких выражениях « Morning Post »248 сообщает о событии249, написать о котором ранее мне помешали некоторые обстоятельства. Обвинение против лидеров основывается на следующем: хозяева послали в Манчестер и уговорили тамошних рабочих приехать в Престон. Большинство этих рабочих состояло из ирландцев. Престонцы встретили их на железнодорожной станции; приехавшие казались воплощением нищеты и несчастья. Примерно 54 человека согласились отправиться в Фармерс-армс 260, где их щедро кормили целый день, а вечером, когда они согласились вернуться, 15 тысяч человек проводили этих рабочих с овациями на железнодорожную станцию. Семеро из них были задержаны предпринимателями и отправлены назад, в Престон, чтобы обвинить г-на Кауэлла и его коллег в заговоре. Теперь, если мы обратимся к [действительным] событиям, то не останется никаких сомнений в том, кто же является подлинным заговорщиком 261.
В 1847 г. престонские хлопчатобумажные магнаты снизили заработную плату, торжественно пообещав восстановить ее, как только торговля вновь вступит в полосу оживления. В 1853 г., в год процветания, они отказались сдержать свое слово. Рабочие четырех фабрик забастовали, их поддержали своими пожертвованиями те, кто продолжал работу. Тогда хозяева тайно сговорились закрыть свои фабрики и, чтобы осуществить этот заговор, дали обязательство, что каждый внесет 5 000 фунтов стерлингов *. Рабочие обратились с призывом о помощи к другим городам Ланкашира, и поддержка была им оказана. Предприниматели разослали эмиссаров, чтобы убедить й побудить хлопчатобумажных магнатов в других городах объявить своим рабочим локаут, и преуспели в своих стараниях. Не удовлетворившись этим, они, в противовес аналогичным действиям рабочих, начали в широких масштабах сбор средств. Убедившись в бесполезности всех этих мер, они разослали повсюду своих агентов, чтобы побудить рабочих, их семьи, швей и бедняков из работных домов Англии и Ирландии приехать в Престон. Обнаружив, что эти дополнительные меры не оказывают желаемого действия с достаточной быстротой, они попытались спровоцировать народ на беспорядки. Своим наглым поведением они вызывали у него раздражение. Они запретили митинги в Марше, однако народ проводил их в Блэкстон-Эдже и других 'местностях, где это также
* В случае, если он (предприниматель) пойдет на соглашение с рабочими. Ред.
190
К. МАРКС
не было дозволено. Они ввели около сотни новых полицейских, привели к присяге специальных констеблей, снарядили пожар ную команду, поставили войска под ружье и зашли так далеко, что с целью спровоцировать бунт зачитали Акт о мятеже а82. Таков был заговор хозяев, но им не удалось ни в чем преуспеть. Вопреки этим фактам, было выдвинуто обвинение в заговоре, однако не против хозяев, а против рабочих. Кроме того, еще одно обстоятельство дает возможность обвинить предпринимателей в заговоре. Рабочие одной фабрики возобновили ра боту. И комитет предпринимателей, и Рабочий комитет соответственно потребовали объяснений. Рабочие выпустили плакат с сообщением, что они вернулись к работе при условии опре деленного уровня зарплаты. Комитет предпринимателей пригрозил владельцу этой фабрики * принять моры, потребовав в качестве штрафа 5 тысяч фунтов стерлингов, которые он обязался внести для поддержки локаута. Владелец фабрики заявил нечто, прямо противоречащее сообщению рабочих, что заставило предпринимателей отступить. Уж если такое обязательство внести 5 тысяч фунтов стерлингов являлось согласно закону заговором, то угроза насильственного его осуществления тем более. Но это еще не все. Сам обвинительный акт против лидеров рабочих явился результатом сговора престон-ских судейских чиновников. По сообщению самой «Times», судьи, собирая доказательства, добились этого, привезя в кэбах добавочных рабочих 25s не в Ратушу, где их страшила гласность, а в судебную камеру, чтобы там условиться об их показаниях; и там, под покровом ночи, набросились на избранные ими жертвы.
Однако благоразумие рабочих, не позволивших ни спровоцировать себя на нарушение общественного порядка, ни запугать [настолько, чтобы подчиниться] диктату престонских parvenus **, свело на нет замыслы этих маленьких наполеонов из Ланкашира.
В среду вечером в Лондоне, в Сент-Мартинс-холле, Лонг-Эйкр, состоялся публичный митинг, цель которого заключалась в том, чтобы дать возможность рабочему классу столицы высказать свое мнение о поведении престонских хозяев. Следующие две резолюции были приняты единогласно:
«Исходя из следующего толкования закона нынешним лордом-канц лером Англии, бароном Ролфом ***, в бытность его судьей:
* — Суэнсону. Ред. ** — выскочек. Ред. **• — Крануортом, Робертом Монси Ролфом, Ред.
БРИТАНСКИЕ ФИНАНСЫ. — ВОЛНЕНИЯ В ПРЕСТОНЕ 191
Если, убеждая людей в их собственных интересах работать лишь за определенную плату, а при других определенных условиях не работать, достигают цели мирными средствами и не преследуют иных намерений, то это действие остается в рамках закона.
Исходя из того,
что рабочие Престона, вовлеченные в тридцатинедельный конфликт со своими хозяевами, в течение всего этого периода вели себя самым мирным образом, соблюдая полный порядок;
что, несмотря на все эти факты, четыре * члена Рабочего комитета должны предстать перед ливерпульским выездным судом присяжных по обвинению в заговоре, хотя нет никаких доказательств насилия и запугивания с их стороны, более того, в этом их никто даже и не обвинял;
собрание поэтому считает действия фабрикантов и местных властен Престона заслуживающими порицания, считает их виновными в недопустимом присвоении власти, в попрании равенства перед законом и личной свободы одповременпо и полагает, что подобные действия должны быть единодушно осуждены народом.
Исходя из того, что симпатия и помощь всего рабочего класса Соединенного королевства должны быть отданы защите справедливости и укреплению правопорядка, собрание обязуется оказывать чрезвычайную и постоянную поддержку рабочим Престона в их теперешних тяжелых условиях и горячо призывает всех, кто заинтересован в улучшении условий труда, присоединиться к ним и поддержать их лучшие стремления» а64.
Лондонская пресса в большинстве своем осуждает действия престонских предпринимателей, но не из чувства справедливости, а из боязни возможных последствий. Она опасается, что ^рабочий класс теперь начинает понимать, что за спиной отдельного капиталиста, его эксплуататора, стоит вся машина [капи талистического общества], и чтобы сокрушить первого, он должен разделаться с последней.
|
Написано К. Марксом 81 марта 1SS4 е. Напечатано в газете »New-Yorh Semi-Weekly Tribune» M 929, 21 апреля 1854 г. Подпись: Карл Маркс |
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
• В « People' s Paper» — «одиннадцать». РеО,
192 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
РУССКАЯ АРМИЯ
РЕДАКТОРУ « DAILY NEWS » "»
Сэр! Пришло время взглянуть прямо в лицо нашему врагу, дабы знать, каким противником он может обернуться. Относительно реальной военной мощи и возможностей России высказываются самые разноречивые суждения. Переоцениваемое одними, недооцениваемое другими действительное положение дел, по-видимому, все еще скрыто завесой, которую могут снять не какие-то там «Разоблачения о России» 25e , a только реальные военные события.
Между тем в нашей западной литературе имеется немало ценных данных, которые надо только проанализировать и объединить. Да Россия и сама в избытке поставляет такого рода материал. Ибо русская военная литература пользуется французским и немецким языками столь же часто, если не чаще, как и своим родным. Свидетельство тому — ценный труд майора Смита о польской кампании 1831 г. и описание вторжения в Венгрию, принадлежащее полковнику Толстому. Военные труды, написанные по-русски, явно уступают работам офицеров русской армии на иностранных языках. Книги Михайловского-Данилевского и Бутурлина о кампании 1812 г., Лукьяновича о кампании 1828—1829 гг. и подобные им работы слитком напоминают описания кампаний, которые мы обычно встречаем во второсортной французской исторической литературе. Трезвость в освещении фактов тонет в потоках напыщенного бахвальства, события искажаются в угоду крайностям национального тщеславия, победы, одержанные на поле брани, затмеваются еще более великими победами, одержанными на бумаге авторами, и врага, кто бы им ни был, с начала и до конца ста-
РУССКАЯ АРМИЯ. РЕДАКТОРУ « DAILy NEWS »
193
раются выставить в невыгодном свете. В этом очень мало присущего настоящему солдату понимания, что почетнее одержать победу над храбрым врагом, чем над трусливым, понимания, которое, к примеру, превращает «Войну на Пиренейском полу острове» сэра У. Нейпира в произведение не только «офицера», но главным образом и «джентльмена». Возможно, что сущест вование такого стиля писания истории следует объяснить не обходимостью поддерживать воинственный пыл русского на селения. Однако картина меняется, как только автор избирает один из западных языков. Тогда судьей становится Европа, а существующая на Западе гласность вскоре развеяла бы по ветру утверждения, которые в России слепо принимаются на веру, так как оппонент лишен там права на ответ. Тенденция прославления Святой Руси и ее царя остается прежней, но выбор средств становится более ограниченным. Приходится строже придерживаться точных фактов, избирается более спокойная и деловая манера изложения и, несмотря на попытки искажений, которые, как правило, достаточно быстро разоблачают себя, по крайней мере, остается достаточно конкретной информации, которая во многих случаях превращает такую книгу в важный исторический документ. Если же, вдобавок, случится так, что это будет написано относительно независимым по своему положению человеком, то такая книга может оказаться превосход ным военно-историческим сочинением, и это как раз и относится к Смитовской «Истории польской войны».
Состав и организация русской армии достаточно хорошо известны военным во всей Европе. Крайняя простота этой организации, — по меньшей мере в том, что касается «действующей армии», — позволяет легко понять ее. Действительная трудность состоит лишь в том, чтобы узнать, насколько эта организация претворена в жизнь, какая часть этой армии существует не только на бумаге, но может быть двинута против внешнего врага. С этой точки зрения главным образом и важны русские военные труды на западных языках. Национальная гордость не позволяет их авторам в тех случаях, когда противник добился частичного успеха и оказал ожесточенное сопротивление, преувеличивать число сражавшихся на русской стороне. Дабы оградить честь русского оружия, они вынуждены раскрыть тайну и показать разницу между реальной и номинальной численностью русских армий. В этом отношении особенно полезна работа Смита, в которой приводятся официальные списки лич ного состава. Напротив, «Венгерская кампания» Толстого в полном согласии с образом действий русских в этой стране, по-види мому, рассчитана на демонстрацию не столько доблести, сколько
194
Ф. ЭНГЕЛЬС
грозной и преобладающей численности русских армий, готовых в любой момент быть брошенными на революционный Запад.
Но если мы с некоторой долей уверенности и можем судить по крайней мере о той части русской армии, которая непо средственно угрожает остальной Европе, то гораздо труднее выяснить действительное состояние флота. Позднее мы объединим всю информацию, которую нам удалось отыскать, но придется подождать чего-то более определенного, пока «Чарли» * не представит лучшего сообщения о нем или не пришлет несколько образцов для изучения на месте.
Доступ к фортификационной системе, к предварительной подготовке театра военных действий для обороны и наступления в такой стране как Россия, конечно, очень затруднен. Береговые укрепления в какой-то степени обозначены на картах и планах, в силу самого характера полностью скрыть их невозможно. Кронштадт и Севастополь, хотя многие детали, имеющие важное военное значение, мало известны и наполо вину не так уж таинственны, как они кажутся некоторым. Но относительно фортификационных сооружений Польши, той самой группы крепостей, само существование коих выдает намерение вести наступательную и завоевательную войну, мало что известно кроме места, где они построены. Некоторые европейские военные ведомства, возможно при помощи золота, достали у русских employés ** планы этих крепостей; если это действительно так, то они берегут эту информацию для себя. Если бы польская эмиграция сумела раздобыть такие планы, что для нее не должно быть неосуществимым, то их публикацией она причинила бы России гораздо больше вреда, чем ей это когда-либо удавалось сделать.
Русская армия состоит из четырех крупных подразделений: главной действующей армии, ее резервов, особых корпусов и соединений местного значения, казаков (куда включаются все иррегулярные войска независимо от их происхождения).
Особые условия, в которые поставлена Россия, требуют военной организации, совершенно отличной от соответствующей организации в других европейских странах. В то время как на юго-востоке, от Тихого океана до Каспийского моря, ее границы, охраняемые пустынями и степями, подвержены нападениям только со стороны кочевых разбойничьих племен, с которыми в этих местностях лучше всего справляются войска, до известной степени построенные по тому же образцу; в то время как на
• — адмирал Чарлз Нейпир . Рев. •• —чиновников . Ред.
РУССКАЯ АРМИЯ. РЕДАКТОРУ « DAILy NEWS »
195
Кавказе ей приходится воевать со стойкими племенами горцев, лучшим способом борьбы с которыми является разумное соче тание регулярных и иррегулярных войск, — ее юго-западные и западные границы требуют непосредственного присутствия боль шой армии, построенной по европейскому регулярному образцу и оснащенной оружием, равноценным оружию западных армий, с которыми ей, возможно, придется воевать. Но поскольку в стране, ресурсы которой развиты только отчасти, невозможно постоянно держать такую армию в состоянии готовности к войне, то часть солдат приходится увольнять в отпуск для создания резерва на случай войны. Так образуются четыре больших подразделения русской армии.
Такая структура русской армии, начала которой восходят к первому разделу Польши, постепенно совершенствовалась в результате последующих разделов этой страны, завоеваний на Черном море, больших войн с Францией; после польской революции 1830 г. она была доведена до теперешнего завершенного состояния.
Главная оперативная армия, почти без исключения разме щенная на европейской границе России, в особенности является продуктом раздела Польши, войн с Францией и польской революции. Задача ее двоякая: держать в подчинении западные, более цивилизованные и нерусские части империи, и нависать над Западной Европой подобно грозовой туче, готовой в любой момент разразиться над ней громом и молнией. Насколько эта задача была или, скорее, не была выполнена в прошлом, слишком хорошо известно. В какой мере она сможет быть достигнута в настоящей войне, мы вскоре увидим.
Главная оперативная армия или действующая армия (действующее войско *) состоит из одиннадцати армейских корпусов: корпуса гвардии, корпуса гренадеров, шести пехотных корпусов и трех резервных кавалерийских корпусов.
Вся структура в целом воспроизводит систему, введенную Наполеоном. Первые восемь корпусов точно соответствуют армейским корпусам французов во время великой войны. Гвардия и гренадеры, по-видимому, специально предназначены для образования общего резерва армии, кавалерийские же корпуса, как предполагается, должны совершать те особые решающие действия, для которых Наполеон всегда держал в резерве большие массы этого рода войск и артиллерии. Таким образом, всем упомянутым восьми корпусам, хотя они и именуются пехотными, в силу самой их организации приданы кавалерия
* Слова в скобках написаны Ф, Энгельсом по-русски латинскими буквами, Рев,
196
Ф. ЭНГЕЛЬС
и многочисленная артиллерия. У каждого корпуса имеется полностью укомплектованный штаб, саперы, средства для перевозки понтонов и боевых припасов, артиллерийский парк и все прочее снаряжение армии, предназначенной для самостоятельных действий. Гвардия и гренадеры беднее других корпусов пехотой, их полки имеют каждый по три батальона вместо четырех. С дру гой стороны, гвардия значительно богаче кавалерией и артиллерией; но можно ожидать, что в боевом расписании большая их часть будет присоединена к общему кавалерийскому и артил лерийскому резерву. Первый и второй кавалерийский корпуса состоят исключительно из тяжелой кавалерии и артиллерии на конной тяге (легкая регулярная кавалерия придана пехотным корпусам); третий кавалерийский, или драгунский, корпус имеет особую структуру: поскольку эти драгуны, как это было принято и прежде, предназначены для действий и в пешем, и в конном строю, то они образуют резервный корпус всех родов войск, обладая в то же время мобильностью и быстротой передвижения, свойственными исключительно кавалерии. Время покажет, будет ли это достигнуто; опыт всех других армий, выразившийся в почти полном и повсеместном превращении драгун в простую кавалерию, является не слишком благоприят ным предзнаменованием. Упомянутая идея доведена до такой степени, что как драгунскому корпусу, так и гвардейским батальонам приданы конные саперы, минеры и понтонеры, — установление, на все лады расхваливаемое поклонниками русской системы, но также пока нуждающееся в проверке опытом. Можно добавить, что эта структура из одиннадцати корпусов с входящими в них дивизиями, бригадами, полками существует не только на бумаге и не для одних административных целей. Напротив, последняя турецкая война ш, польская кампания, вторжение в Венгрию и нынешняя война с Турцией показали, что диспозиция мирного времени в такой полной степени рассчитана на войну, что, где бы ни начиналось движение к границе, ни одну дивизию, бригаду или полк не приходилось забирать у одного корпуса и придавать другому. Это — большое военное преимущество, результат почти постоянного состояния надвигающейся войны, в котором привыкла находиться Россия. Другие, более миролюбивые государства с приближением войны обнаруживают, что колеса и рычаги их военной машины проржавели, а весь механизм разладился. Структуру армейских корпусов, дивизий, бригад, какой бы завершенной она ни казалась, приходится коренным образом перестраивать, чтобы с достаточной быстротой перебросить войска к границам, над которыми нависла угроза. Командующие, генералы и штабы
РУССКАЯ АРМИЯ. РЕДАКТОРУ « DAILy NEWS »
197
назначаются заново, полки передаются из бригады в бригаду, из корпуса в корпус, так что к моменту сосредоточения армии для активных действий налицо оказывается пестрый конгломерат офицеров, в большей или меньшей степени не знакомых друг другу, своим начальникам и своим войскам; большинство из них, вероятно, преисполнено чувства уязвленного тщесла вия. И однако приходится уповать на то, что этот новый, «с иголочки», механизм будет слаженно работать. Это — бесспорный недостаток, хотя в таких армиях, как армии Запада, он имеет гораздо меньшее значение, чем в русской армии. Избежать этого невыгодного положения может только армия, постоянно находящаяся на стадии готовности к войне (какой является с 1848 г. австрийская армия, вследствие чего ее корпуса также имеют достаточно прочную структуру), однако при всем том более высокий уровень промышленного развития западных стран восполняет, даже с чисто военной точки зрения, невыгодное положение, которое в этом и любом другом случае может обусловливаться требованиями развития цивилизации этих стран.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по тексту гранок
между 3 и 12 апреля ISSi e , ,-,»..
Перевод с английского
Публикуется впервые
198 I
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА 258
Среди известий из Европы, доставленных прибывшей вчера утром «Арктикой», несомненно, наиболее важно сообщение о форсировании русскими Нижнего Дуная силами до 50 тысяч человек, в составе трех корпусов под непосредственным командованием князя Горчакова, генерала Лидерса *и генерала Ушакова, и занятии ими части турецкого района Добруджи. Этот район, входящий в болгарскую провинцию, представляет собой неширокую равнину, огражденную с запада и севера Дунаем, который, поворачивая после Чернаводы к северу, делает большой крюк перед устьем, а с востока — Черным морем. Значительная часть этого района заболочена и страдает от частых наводнений. Здесь расположено несколько укреплений, таких, как Бабадаг, Исакча, Мэчин, Тулча, которые, как сообщают, захвачены русскими. Однако наш хорошо осве домленный лондонский корреспондент считает это выдумкой биржевиков. Между равниной Добруджи и внутренней Тур цией тянется как защита цепь Балканских гор. После этой операции русские не приблизились к Константинополю и не полу чили никакого перевеса над турками. В самом деле, кажется совершенно очевидным, что это чисто оборонительный маневр, свидетельствующий лишь о намерении русских покинуть самые западные районы Валахии. У русских в Валахии было всего семь дивизий пехоты, одна резервная дивизия у Измаила, а в тылу ее корпус Чеодаева в составе трех дивизий, который к настоящему времени, возможно, вышел к Яссам. Восемь дивизий с кавалерией вряд ли превышают 110 тысяч человек. Если принять во внимание возможность высадки англо-фран-
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА
199
цузских войск на северо-западном берегу Черного моря, а это создало бы угрозу русскому тылу, то очевидно, что захват Добруджи преследует цель обезопасить фланг русских при возможно меньшей потере территории. Здесь было лишь два способа обеспечить позицию, которая позволила бы им избежать опасности оказаться отрезанными: либо прямо отступить к Серету, сделав Нижний Дунай оборонительной линией с Фок-шанами, Галацем и Измаилом в качестве опорных пунктов, либо совершить стремительный марш на Добруджу, перенеся фронт на линию Кюстенджи, Гирсова, Олтеница и Бухарест; при этом Траянов вал, Дунай, Арджеш явились бы первой, Бузэу — второй и Серет — третьей оборонительной линией. Этот последний план, бесспорно, наилучший, поскольку вместо территории, потерянной на одной стороне, выигрывается новая — на противоположном фланге, отступление выглядит как движение вперед и сохраняется военный point d'honneur * русских. Обладание Добруджей сокращает фронт русских и, на худой конец, оставляет им открытым путь отступления на Хотин на Днестре даже в том случае, если будет произведена высадка у Аккермана или Одессы. Однако нам следует дождаться подробностей о маневрах, которые внесут эти изменения в позицию русских.
Далее вызывает интерес несомненный факт использования греческой монархией всего своего влияния для поддержки греческого восстания: король и королева ** отправились к границе, чтобы вдохновить инсургентов. В этих чрезвычайных обстоятельствах война между Грецией и Турцией, за которой стоят союзники, становится почти неизбежной, что осложняет и без того запутанное положение, если и не увеличивает серьезно опасность всеобщего столкновения. В то же время мы располагаем сведениями о новом предложении царя о мире, переданном им при посредничестве Пруссии 259. Урегулирование конфликта Николай ставит в зависимость от получения союзниками со стороны Турции гарантии полной эмансипации всех ее христианских подданных. На этих условиях он приступит к эвакуации Дунайских княжеств в тот момент, когда союзный флот пройдет через Дарданеллы. Если бы эти условия были открыто выдвинуты раньше, они существенно уменьшили бы опасность войны, поскольку нет никакого сомнения в том, что такого рода эмансипации как раз и желают союзники, а отказ двух видных членов правительства *** от проведения
* — престиж. Рев. •* — Оттон I и Амалия. Ред. *** — Рифаат-паши и Арифа Хикмет-бея. Ред.
200
К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС
ее в жизнь даже частично и вынудил султана * дать им от ставку 2в0. Но теперь это предложение уже, видимо, не в состоянии предотвратить войну; флот союзников усилен французской и английской армиями, и сэр Чарлз Нейпир, вероятно, атакует и захватит Аландские острова до того, как сумеют отправить новый приказ, и он его получит. Впрочем, может быть, это предложение значит куда больше, чем мы предполагаем. Вне всякого сомнения, это станет ясно, когда со следующим пароходом мы получим полную информацию.
Среди всей этой путаницы' и неопределенности одно пред ставляется несомненным: существованию мусульманской дер жавы как особой формы государственного устройства в Европе приходит конец. Эмансипация христиан в Турции, путем ли мирных уступок или силой, превратит исламизм из политической силы в религиозную секту и полностью подорвет старые основы Оттоманской империи. Этим не только вполне признается истинность утверждения царя о том, что Оттоманская порта страдает тяжким недугом, но и предлагается для спасения больного перерезать ему горло. Возможно, после этой операции султан и останется на троне своих отцов как политическая фикция, но истинных правителей страны нужно будет искать в другом месте. Ясно, почему при таких условиях русский самодержец хотел бы втихомолку договориться со своими западными соперниками. Он хочет осуществить в Турции по возможности самую полную революцию, и осуществить ее целиком в своих интересах. После такого ослабления существующей теперь власти отношения царя с православной церковью в этой стране и со славянами обеспечат ему реальную верховную власть над ней. Тем самым ему достанется устрица, а западные правитель ства будут вынуждены довольствоваться раковиной. Подобный исход возможен, хотя ныне он и кажется нереальным. Но мы полагаем, что существует достаточно еще скрытых факторов, которые теперь, стремительно врываясь в ход событий, окажут могучее влияние на развитие этой великой борьбы. Среди этих факторов и вопрос о том, насколько велика будет роль так долго дремавшей европейской революции, вопрос, который государственные мужи данного полушария стараются обойти и который, к их неудовольствию, очень скоро напомнит о себе.
Написано К. Марксом и Ф. Энгельсом Печатается по тексту газеты
3—4 апреля 1854 г. Перевод с английского
НаП ТаЩНтАъч^Гм*4*0%7ОТк На Русском языке публикуется терем,
11 апреля, а также е « New - York Weekly Tribune » Ji 658, 22 апреля 1854 г. в качестве передовой
Абдул-Меажида, Ред,
Г 201
Ф. ЭНГЕЛЬС
ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА281
На Дунае ничего нового, кроме того, что русские полностью эвакуировали Малую Валахию и готовятся к штурму крепости Силистрия. С этой целью они сконцентрировали на противоположном берегу крупные силы артиллерии и собираются, как сообщают, перебросить сюда для наступления около 30 тысяч человек. Неизвестно, насколько это сообщение достоверно, но, во всяком случае, такой план вполне вероятен. Другой вопрос, какие у него шансы на успех. Несомненно, Силистрия самая слабая из крупных турецких крепостей, над ней на расстоянии, удобном для пешего прорыва, господствуют высоты, которые, по нашему убеждению, не укреплялись со времени последней войны а82. Но та же самая Силистрия, которая в 1810 г. пала после четырехдневного штурма, в 1828—1829 гг. выдержала две блокады продолжительностью в 10 месяцев, выстояла 35 дней после начала правильной осады и 9 дней после того, как в главной стене была пробита проходная брешь. Пожалуй, лучше сказать, что прочность этой кре пости, которая испытала столько превратностей судьбы, и ее способность к обороне не поддаются оценке 2вз.
Предположим все же, что Силистрия будет взята штурмом превосходящими силами противника; это отнюдь не откроет ему дорогу на Константинополь. Для того чтобы наступать на Шумлу и Варну, противник должен оставить не менее 6 тысяч человек у Силистрии, которая в этом случае может стать предмостным укреплением для другого, более удобно расположенного опорного пункта. Он вряд ли будет атаковать Щумлу: даже захватив этот превосходно укрепленный лагерь,
202
Ф. ЭНГЕЛЬС
он только лишит врага прекрасной позиции, не приобретя подобной же для себя. Шумла преграждает русским путь через Балканы, но ее захват этот путь им не откроет.
Значение Шумлы в том, что она является ключом к Варне, а Варна — ключом к Малым Балканам. Каковы бы ни были недостатки укреплений Варны, а их предостаточно, при пол ностью укомплектованном гарнизоне для осады крепости потребуется корпус в 20—30 тысяч человек. Кроме того, помимо этих сил для успешного осуществления осады необходимо еще достаточное количество войск для прикрытия осаждающих от вылазок со стороны укрепленного лагеря в Шумле, где турки могут сосредоточить все свои силы. В 1828 г. Варна продержалась 3 недели после того, как в ее крепостных валах были пробиты две проходные бреши, и это в то время, когда русский флот господствовал на Черном море, а у турок не было ничего похожего на армию, способную атаковать осаждающих. Теперь предположим, что Силистрия взята, многочисленные и очень трудные водные рубежи перед Варной и Шумлой форсированы и Варна блокирована; будет ли у русских возможность оставить достаточно сил для нейтрализации Шумлы? Турки же могут действовать из Шумлы не только против осаждающих Варну, но и в направлении Дуная, а также против хотя бы одной из линий коммуникаций русских, тем самым заставляя их отвлекать все больше и больше войск от основных сил, что в конечном счете должно ослабить их вследствие опасного рассредоточения.
Но даже если бы Варна пала, что стал бы делать Паскевич, когда в своем опорном пункте в Шумле упрямо продолжал бы сидеть Омер-паша, готовый воспользоваться первой же ошибкой русских? Осмелился бы Паскевич двинуться на Константинополь, располагая единственной линией коммуникаций, которой одновременно угрожали бы, подступая к ней, армия в Шумле, с одной стороны, и флот союзников на Черном море, с другой? Насколько мы можем судить по его действиям в Азии и Польше, это не в его характере. Паскевич относится к числу сверхосторожных военачальников, в нем нет ничего от Радец-кого. Стань перед ним подобный вопрос, он расценил бы этот маневр как в высшей степени рискованный, так как ему очень хорошо известно, в каком затруднительном положении оказался в 1829 г. у Адрианополя его предшественник Дибич. Таким образом, даже не принимая во внимание высадку англо-французских войск во Фракии и не ожидая от флота союзников больше того, что он сделал до оих пер, то есть рассчитывая на его фактическое бездействие, мы м«жем сказать, что отпра-
ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
203
виться в поход прямо на Константинополь с развернутыми знаменами и под гром оркестров для русских не такое уж простое дело. Но что они в конечном счете все же будут там, если Турция останется без помощи, этого никто никогда не отрицал, кроме тех новомодных военных писателей, которые в своих суждениях исходят не из фактов, а из убеждения, что «право против силы» непременно одержит победу и что в «справедливом деле» исключены всякие ошибки *.
Следует добавить, что британские силы в Балтийском море сделали еще меньше, чем в Черном.
Написано Ф. Энгельсом 24 апреля 1854 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в газете « New- York Перевод с английского
Daily Tribune » M 4080, 16 мая, ,, ,
а также в « New - York Weekly Ha русском языке публикуется впервые
Tribune » M 662, 20 мая 1854 г, в качестве передовой
• Arnold, The Coming War. Ред . 8 M, и Э ., т . 44
204 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
НОВОСТИ О БОРЬБЕ В ЕВРОПЕ 2И
Газеты и письма, доставленные «Европой», подтверждают известия о бомбардировке Одессы, о чем сообщалось ранее. Полученные теперь сведения об этом событии носят официаль ный характер и не оставляют сомнений в истинности происшедшего. Разрушены портовые сооружения, взорваны два пороховых склада, потоплены 12 небольших русских кораблей и захвачены 13 транспортов, при этом потери флота союзников составили 8 человек убитыми и 18 ранеными. Незначительные людские потери свидетельствуют о том, что это отнюдь не было грандиозным подвигом. Затем флот ушел к Севастополю, разрушение которого, по нашему мнению, потребует от него совсем иных усилий.
С дунайского театра военных действий получено новое сообщение о решающей победе Омер-паши над генералом Лидерсом, но об этом у нас нет иных данных, кроме телеграфного сообщения, поступившего через Венуав6, эту большую кухню, где стряпаются лживые слухи в интересах биржевых спекулянтов. Согласно этой версии турки силами в 70 тысяч человек настигли Лидерса где-то между Силистрией и Расовой, которая расположена примерно в 10 милях от Чернаводы вверх по Дунаю. В то время как Омер-паша теснил русских с фронта, другой, специально посланный в обход корпус атаковал их с фланга, и, таким образом оказавшись между двух огней, они были разбиты. Такой вариант не является невозможным, однако мы не представляем себе, как бы Омер-паше удалось сконцентрировать такие крупные силы в каком-либо пункте ниже Силистрии столь быстро, что Лидере оказался неподго-
НОВОСТИ О БОРЬБЕ В ЕВРОПЕ
205
товленным авв. Судя по последним, полученным до сражения данным, основная масса его войск — общая их численность, включая гарнизоны, обеспечивающие всю растянутую линию фронта, не может превышать 120 тысяч человек — сосредото чивалась в Щумле, в нескольких сотнях миль от места сраже ния, о котором идет речь. И совсем непросто, преодолев такое расстояние, застать врага врасплох, когда на поле боя необходимо доставить 70 тысяч человек. Однако мы повторяем, что это возможно; вероятно, с прибытием следующего парохода мы узнаем, правда ли это.
Греческое восстание потерпело еще одно поражение, однако не следует полагать, что оно подавлено окончательно. Несомненно, найдутся солдаты и командиры, которые возобновят борьбу и будут вести изнурительную партизанскую войну против турецких войск, по крайней мере в пограничных районах. Вырастет ли это во что-либо более серьезное, будет зависеть от обстоятельств; как наши читатели увидят на другой странице 2в7, в самой Турции созрел широкий заговор греков и русских; благодаря случайности все его нити оказались в руках Порты ав8. Однако могут возникнуть и другие такие же заговоры, и им не помешают случайные обстоятельства. Тем временем союзные державы допекают угрозами греческий двор и высаживают войска в Турции, как будто собираясь окончательно захватить эту страну. Большая часть этих войск все еще остается под Константинополем, хотя один отряд послан по настоянию французского посла * на север, к Варне, где, вероятно, все время происходят столкновения. Сомнительно, однако, чтобы основные силы союзников вскоре приступили к активной военной кампании. Вопрос этот не может быть решен до прибытия в Константинополь командующих **.
В Балтийском море сэр Чарлз Нейпир все еще остается близ Стокгольма, не напав ни на одну из русских крепостей на побережье. По-видимому, его тревожит флотилия канонерских лодок, которая предназначается русскими для действий против него в мелких водах и среди островов Финского залива. Нейпир послал в Англию за небольшими паровыми судами с малой осадкой, которые смогут преследовать канонерки до тех пунктов, где они находят свое убежище. С другой стороны, по сообщению с.-петербургского корреспондента одной берлин ской газеты 2вв, русский двор опасается, что Кронштадт не сможет противостоять ожидаемому нападению британских Rough and
• — Бараге д'Илье. Ред. ** — Раглава и Сент-Арно. Рев,
8*
206
Ф. ЭНГЕЛЬС
Ready *, что военные корабли не смогут успешно маневрировать и вести огонь в гавани даже с демонстративной целью и что делаются приготовления на случай высадки вражеских сухопутных сил в этом районе.
Однако мало вероятно, чтобы до подхода французского флота в Балтийском море имели место какие-нибудь наступательные операции, но затем, надо полагать, Кронштадт удостоится чести первой бомбардировки. Будет ли он захвачен или разрушен — другой вопрос, но при тех средствах разрушения, которые союзники собираются бросить против него, падение его не было бы удивительным.
Черпая воодушевление в любезностях, отпущенных герцогу Кембриджскому во время празднеств по случаю бракосочетания императора **, западные державы тешат себя надеждой, что Австрия переходит на их сторону. Однако из Пруссии подобных утешительных вестей не поступает. В целом Германия остается на прежних позициях, и у союзников нет надежды втянуть ее в своих интересах в какое-либо предприятие. Нет сом нения, что Австрия будет готова оккупировать Сербию и Черногорию, где началось настоящее восстание против султана 27°, но подобная оккупация, как мы об этом уже говорили раньше2П, явилась бы лишь следующим шагом к разделу Турции и была бы в действительности более благоприятна для России, чем для ее противников.
Написано Ф. Энгельсом 4 мая 1854 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в газете Перевод с английского
«New-York Daily Tribune» M 4084, ,r ,
20 мая 1854 г. в качестве передовой На русском языке публикуется впервые
• — бравых солдат. Прозвище английских солдат в XTX в., ставшее нарицательным после битвы при Ватерлоо, в которой отличился полковник Раф. Именно его герцог Веллингтон, обыгрывая звучание фамилии героя (« Rough » — «грубый», «неотесанный»), назвал « Rough and Ready » («Грубый, но всегда готовый к действию»). Ред. t » _ Франца-Иосифа I, Ред.
[ 207
К. МАРКС
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУНТА 272
26 СЕНТЯБРЯ 1808 г. (АРАНХУЭС) - 29 ЯНВАРЯ 1810 г. •
Следовало ожидать, что после эвакуации французами Мадрида Наполеон скоро снова появится во главе более мощной армии. Таким образом, общие меры обороны стали неизбежны; все чувствовали, что многовластие провинциальных хунт, распри которых после победы при Байлене 27S приняли еще более крикливый характер, должно уступить место какому-либо цен тральному правительству. Однако хунты, озабоченные тем, чтобы не упустить из своих рук власть, приняли предложение севильской хунты 274 избрать каждой из числа своих членов по два депутата, собрание которых и должно было составить центральное правительство, тогда как за провинциальными хунтами сохранялось внутреннее управление соответствующими областями. Итак, Центральная хунта в составе 34 депутатов от провинциальных хунт собралась в Аранхуэсе 26 сентября 1808 г. и оставалась у власти до 29 января 1810 года. Преследуемая завоевателем, она бежала из Мадрида в Севилью, а из Севильи в Кадис. Пока Центральная хунта из королевского дворца в Аранхуэсе вела войну путем декретов, французы захватили горный перевал Сомосьерра; пока она из Севильи развлекала народ энергичными воззваниями, перевалы Сьерры-Мо-рены были утрачены, и армия Сульта хлынула в Андалузию.
Во время правления Центральной хунты испанская армия исчезла с лица земли, одно позорное поражение затмевало другое, и гибельное сражение при Оканье (19 ноября 1809 г.)
* В рукописи к данному заголовку Марксом сделана пометка; «(Январь 1809 р., флоридабланна)», р«в,
208
К. МАРКС
было последним крупным сражением испанцев, с этого момента они ограничились ведением герильи.
Когда «Ее величество» — таким титулом окрестила себя Хунта 275 — бежала из Севильи, Кадис оказался единственным убежищем, и если бы герцог Альбукеркский, вместо того чтобы двинуть свои войска в Кадис, в соответствии с приказом Центральной хунты отправился в Кордову, его собственная армия была бы отрезана, Кадис сдан французам, и всякой центральной власти в Испании пришел бы конец. Если где-то в виде исключения и наталкивались на героическое сопротивление, то не со стороны регулярных частей на поле сражения, а со стороны осажденных городов, как это было в Сарагосе и Жероне.
Этих немногих фактов испанской войны за независимость достаточно для характеристики Центральной хунты. Изгнание французской армии с испанской земли было главной целью ее создания, и эту задачу она блистательно провалила. В условиях революционного времени еще больше, нежели в обычной обстановке, успехи армии отражают характер центральной власти. Уже самый факт отказа от регулярной войны ради подвигов герильи доказывает, что общенациональный центр стушевался перед местными центрами сопротивления. Чем же объясняется провал общенационального правительства?
Сам состав Центральной хунты никак не отвечал стоявшей перед ней задаче. Слишком громоздкая и слишком разнородная для осуществления диктаторской власти, она была слишком малочисленна, чтобы претендовать на авторитет национального конвента. То обстоятельство, что она получила свои полномочия от провинциальных хунт, лишало ее способности преодолеть честолюбивые склонности, элую волю и капризный эготизм этих хунт. Два самых выдающихся представителя среди прочих членов Центральной хунты — Флоридабланка, восьмидесятилетний министр просвещенного деспота Карла III , и Ховельянос, благонамеренный реформатор, который из-за своей крайней щепетильности в выборе средств никогда не доводил дело до конца, — безусловно, не могли ничего противопоставить ужасному кризису, в который была ввергнута страна.
Ощущение собственной слабости и сомнительность ее полномочий в глазах народа держали Хунту в состоянии постоянного страха и подозрительности по отношению к генералам, которым она была вынуждена вверить военное командование. Генерал Морла, сам член Центральной хунты, перешел в лагерь бонапартистов, предварительно сдав Мадрид Наполеону. Куэста начал с ареста представителей Леона в Центральной хунте
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУНТА
209
и с подготовки планов реставрации прежней власти капитан-генералов276 и королевских audiencias *; впоследствии он, казалось, завоевывал доверие правительства по мере того, как про игрывал сражения, решавшие судьбу родины. Недоверие Хунты к генералам ла Романа и Кастаньосу, победителю при Байлене, убедительно подтвердилось открытой враждебностью, которую первый продемонстрировал ей в своем воззвании к народу, de dato: Севилья, 4 октября 1809 г., а другой — своим пове дением по отношению к ней, став членом регентства. Герцог Альбукеркский, вероятно, единственный среди всех испанских генералов того времени способный вести большую войну, в осо бенности, по-видимому, обладал всеми опасными свойствами военного диктатора — вполне достаточная причина для отстранения его от всех важных командных постов. Мы можем смело поверить герцогу Веллингтону, который писал 1 сентября 1809 г. своему брату, маркизу Уэлсли:
«Наблюдая действия Центральной хунты, я начинаю опасаться, что в использовании своих сил она руководствуется не столько задачами военной обороны и боевых операций, сколько политическими интригами и мелкими политическими целями» 27?.
Предчувствие выдающейся роли, которую были призваны сыграть военные деятели в волнениях внутри страны, внушило, казалось, первому народному правительству Испании благо говейный страх. Лишенная в силу самого своего состава всякой подлинной революционной силы, Центральная хунта неизбежно должна была прибегать к мелким интригам, чтобы парализо вать влияние своих же генералов. С другой стороны, неспособная противостоять напору народного возмущения, она часто вынуждала генералов на поспешные действия там, где успеха можно было бы ожидать только от самой осмотрительной и длительной обороны.
Написано К. Марксом между б и gl сентября 1854 г.
Впервые частично опубликовано
на руссквм языке
в «Научно-информационном бюллетене
сектора произведений К. Маркса
и Ф. Энгельса», 1959. JVS 2
Печатается по рукописи
Перевод с английского
Полностью публикуется впервые
• Высшие апелляционные суды в Испании и Латинской Америке. Ред.
210 1
Ф. ЭНГЕЛЬС
БАЛАКЛАВА а ?8
АНГЛИЙСКОЕ СООБЩЕНИЕ
После ожесточенной борьбы сначала — первый редут, затем быстро взяты второй, третий и четвертый. В резер ве находился 93-й пол», под Балаклавой — флот, а также около 100... * Турки построились на фланге 93-го полка, позади холмов и подле второй линии укреплений.
Вступили в дело 1-я и 4-я дивизии соответственно [гер цога) Кембриджского и Кат- карта, так же как и кава лерийская дивизия, заняв шая позицию непосредствен но около Каткарта.
Далее налево — одна фран цузская дивизия и два полка африканских егерей. Атака русской кавалерии отбита 93-м шотландским полком и бригадой тяжелой кавалерии. Блестящее нападение (южнее шоссе).
РУССКОЕ СООБЩЕНИЕ 2"»
Центральная колонна: Ле- вутский — авангард (42/з батальона, 16 пушек). Семя- кин — главные силы (9 ба тальонов, 10 пушек) от Чор- гуня до Кадыкоя. Левая колонна — Гриббе (3x/j ба тальона, 10 пушек, 8 эска дронов, 1 сотня) в направле нии Комары (позже поддержан сводным уланским полком) заняла деревню и образовала левый фланг.
Первый фланг составлен из: 1) бригады гусар Ры жова, которая занимает позицию справа от центра (14 эскадронов, 9 сотен, 20 пушек),
и 2) самого Жабокритского (7Vs батальонов, 2 эскадрона, 2 сотни, 14 пушек).
Азовский полк штурмует первый редут, в половине 7-го утра противник покинул
* В рукописи веразборчивое слово, Рев.
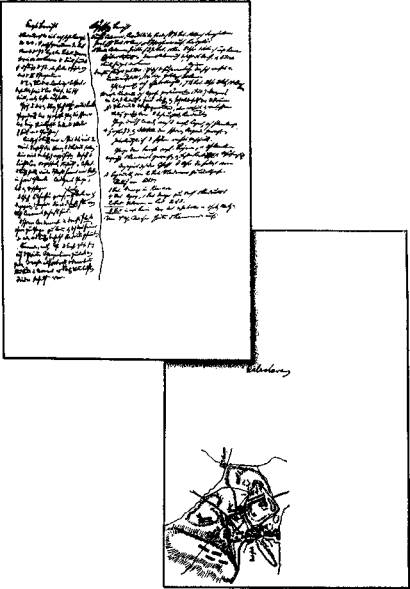
Страницы рукописи Ф. Энгельса «Балаклава» с планом сражения
БАЛАКЛАВА
213
Отход русских с части завоеванной территории. По пытка вывезти из редутов пушки (из которых [они] ни одной не оставили). Приказ послать вперед легкую кавалерию при поддержке Кат-карта. Русские вновь развернулись в боевой порядок с батареями вдоль фронта и на флангах. Безумная атака Кардигана отбита.
Африканские егеря ата куют с левого фланга и освобождают англичан, кото рые на правом фланге под верглись нападению русских улан.
Тяжелая кавалерия про извела демонстрацию на правом фланге, не переходя в атаку, и с помощью огня парализовала один из занятых русскими редутов. Ка нонада, наконец, тишина. Ан гличане отступают на вторую линию укреплений и сдают первую, хотя на какой-то момент разрушенный редут вновь был занят турками под командованием Каткарта.
2-й и 3-й редуты, которые немедленно были заняты Ук раинским полком.
4-й редут взят Одесским полком, но начисто разрушен и покинут.
Позиция между тремя удер живаемыми редутами.
Атака русской кавалерии на английский лагерь отброшена фланговым огнем 93-го шотландского полка и ата кой бригады тяжелой кавалерии.
Жабокритский послан на высоты справа.
Атака бригады легкой английской кавалерии, подвергшейся с флангов нападению [русских] улан, отбита; сильный картечный и ружейный огонь.
Бригада вызволена афри канскими егерями, которые сами отступают перед шты ками двух батальонов Вла димирского полка.
Положение вечером:
1 батальон Днепровского полка в Комарах. 4 батальона Азовского полка, 1 батальон Днепровского полка для обороны первого редута. 2 батальона Украинского полка на 2-м и 3-м редутах.
8 батальонов на первой ли нии, кавалерия, артиллерия и Жабокритский на тех же позициях.
В 4 часа дня канонада прекратилась.
214
Ф. ЭНГЕЛЬС
I . Колонна от Чоргуня до Кадыкоя: генерал-майор Левутский
|
4 батальона Украинского полка, 16 орудий. 4 батальона Одесского полка. 2/з батальона стрелков. 82/3 батальона, 16 орудий. 4 батальона Азовского полка. 1 батальон Днепровского полка, 10 орудий. 132/3 батальона, 26 орудий. |
Украинский егерский полк,
IV * VI
4 тяжелых, 6 легких орудий. Против 1-го и 2-го редутов при Кадыкое. За ним: генерал-майор Семя-кин, Азовский полк. 4-й батальон Днепровского пехотного полка.
IV VI
4 тяжелых, 6 легких орудий. Кроме того, Одесский егер ский полк и 6 легких орудий 6 легкой батареи.
П. Колонна: от Чоргуня до Комар
|
3 батальона Днепровского полка. У2 батальона пеших казаков. 10 орудий, 8 эскадронов, 1 сотня. 3V2 батальона, 10 орудий, 8 эскадронов, 1 сотня. |
Генерал-майор Гриббе посы лает казаков в Байдарскую долину.
1-й, 2-й и 3-й батальоны Днепровского пехотного полка.
IV VI
4 тяжелых и 6 легких орудий.
1 эскадрон сводного уланского полка.
1 сотня 53-го полка донских казаков.
Позднее из Байдара на правлен сводный уланский полк, а также пешие казаки (черноморские) и часть 6-го стрелкового батальона.
III . Правый фланг: кавалерия, генерал-лейтенант Рыжов
|
14 эскадронов 9 сотен. |
, 20 орудий, 6-я гусарская бригада.
11-й и 12-й гусарские полки. 1-й Уральский казачий полк.
• Римскими цифрами Энгельс обозначает номера батарей. Ред.
БАЛАКЛАВА
215
Три сотни 53-го полка донских казаков.
12 легких конных батарей. 3-я тяжелая батарея казаков.
IV. Крайний правый фланг: генерал-майор Жабокритский
|
2 роты, 6 стрел ковых пехотных батальонов |
|
великого герцога |
|
полка |
|
(По- |
Здесь атаковали африканские егеря.
ТЧ3 батальона, 14 орудий, 2 эскадрона, 2 сотни.
Три батальона Владимирского полка
4 батальона Суздальского полка 10 тяжелых орудий (I ) 4 легких ( II) 2 эскадрона гусар Веймарского.
2 сотни 60-го казацкого нова).
Всего введено в бой :
|
70 орудий, |
24V î батальона
600 [человек каждый] 8—22 [че ловека]
900
14 700 пехотинцев 900 артиллеристов 2 600 кавалеристов 1000 казаков
19200 человек
24 эскадрона
80 [человек каждый] 1920
13 сотен
800 казаков
24Vï батальона 400
9 800 пехотинцев *
* Это второй подсчет численности русских пехотинцев, участвовавших в сражении под Балаклавой. В этом подсчете Энгельс принимает численность каждого батальона в 400, а не в 600 штыков, как сделано им выше. Ред.
216
Ф. ЭНГЕЛЬС
Англичане:
Турки: Французы:
1-я
дивизия —8 батальонов = 3 000 человек;
4-я дивизия —8 батальонов = 3 000 человек;
кавалерийская дивизия —10 полков — 20
эскадро
нов = 1 200 человек;
около 8 батальонов, 8 батальонов = 4 000 человек;
из 1-й дивизии 6 батальонов = 3 000 человек;
12 эскадронов
=
800 человек;
[Всего] 13000 [пехоты] и английский флот 280.
2 000 [кавалерии]
Написано Ф. Энгельсом между 13 и 1в ноября 1814 г.
Печатается по рукописи Перевод с немецкого Публикуется впервые
[ 217
Ф. ЭНГЕЛЬС
КРЫМСКАЯ ВОЙНА ш
1854
|
Сентябрь » » |
, 14. 20. 25. |
|
» » |
26. 28. |
|
Октябрь, |
1. |
|
» |
9-10. |
|
» |
17. |
» 25.
» 26.
Высадка у Старого форта.
Сражение на Альме.
Движение союзников к Южной стороне
Севастополя.
Взята Балаклава.
Блокада Южной стороны. (В тот момент
на Южной стороне кроме матросов —
только 8 батальонов.)
Произведена рекогносцировка и решено бомбардировать перед штурмом. [Роется] 1-я параллель в 400—600 sazen * от укреплений.
Бомбардировка Севастополя (превосходство огня русских на суше: 200 тяжелых орудий против 126 у наступающих), одно временно велся орудийный обстрел с ко раблей. Французскую артиллерию заставили замолчать. Время для штурма упущено.
Сражение под Балаклавой **. Нападение 9 русских батальонов на позиции англичан.
* — саженях. Рев. *• См. настоящий том, стр. 210—216. Рев.
218
Ф. ЭНГЕЛЬС
Ноябрь, 4. » 5.
Превосходство сил русских над союзниками. Наступление.
Сражение при Инкермане 282. Английские осадные работы теперь почти полностью приостановлены. Продолжается только циркумвалационная линия для обеспечения от деблокирующего прорыва.
Декабрь, 11.
Остен-Сакен начальник лазки чаще и успешнее.
гарнизона.
Вы-
[18551
|
Январь. Начало. |
Англичане после 2-й параллели, в 400 sa-zen от укреплений. Вылазки продолжаются.
|
27. |
|
» |
Прибыл Ньель. Решительный штурм французами Малахова отложен; англичане уступают половину своих траншей — в целом на протяжении 1 мили!
|
Февраль, 22—23. |
Построен Селенгинский редут283. 23-го атака на него отбита. 1100 ярдов от главного вала. » 28—1 марта. Построен Волынский редут — 1450 ярдов от главного вала.
Март, 11—12.
» 22-23.
Апрель
» 19-20 » 20-21
Камчатский люнет в 770 ярдах г84; таким образом, в 470 saz. от укрепления противник был вынужден прибегнуть к полному крепостному рву.
Перед этими укреплениями к тому же стрелковые ложементы. Атака на эти ложементы отбита, и они соединены траншеями в одно целое; также и перед 3-им бастионом — Quarry * в 430 ярдах от главного вала.
Борьба за русские ложементы, сооруженные на расстоянии до 200 шагов перед бастионами № 4—6, и англичан на Quarry отбиты
* — каменоломня. Рев,
КРЫМСКАЯ ВОЙНА
219
|
Май » 23. |
|
|
Увеличение сил союзников (французы и сардинцы) и Пелисье. Наступление с новой силой. Бой за контрапроши перед бастионом № 5, удачный для русских. |
|
Июнь, 7. » 18. |
|
|
Атака Камчатского люнета, каменоломни, Селенгинского и Волынского редутов. Первый штурм, отбит 285. |
|
Август, 16. |
|
|
Черная 286. |
|
Сентябрь, 8. |
|
|
Штурм. |
|
Составлено Ф. Энгельсом Печатается по рукописи после 8 сентября 1S5S г. „а Перевод с немецкого |
|||
Впервые опубликовано
в виде факсимиле в Сочинениях
К. Маркса и Ф. Энгельса, т. 11
220 ]
К. МАРКС
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НЕУЧТИВОСТЬ
287
Лондон, 2 октября. Речь сэра Александера Малита, английского посланника, аккредитованного при германском Союзном сейме, произнесенная на обеде, который был дан в Хом-бурге в честь взятия Севастополя, вызвала здесь немалое изумление из-за резких нападок на короля Пруссии и его министерство. В этой речи английский посланник заявил напрямик, что английская нация была вправе ожидать от Пруссии иной политики, тем более что большинство прусского народа никогда не скрывало своих симпатий к западным державам. Сэр Александер считает, что если бы Пруссия высказалась в пользу западных держав, то последовало бы энергич ное выступление Австрии, и сопротивление России перед лицом прусской коалиции оказалось бы невозможным. В известной степени Пруссия прямо делается ответственной за войну. Поскольку король Пруссии является членом Германского союза, при котором сэр Александер является посланником Англии, полагают, что этот выпад во всяком случае будет иметь последствием самые серьезные представления. Если посланник будет взят под защиту своим правительством, то это явится признаком характера будущей политики Англии; в противном же случае можно с уверенностью ожидать его отозвания.
Написано К. Марксом 2 октября 1855 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в «Neue Oder-Zeitung» Перевод с немецкого
M 465, 5 октября 1855 г, „ ,
На русском языке публикуется впервые
[ 221
К. МАРКС
КОМИТЕТ В НЬЮКАСЛЕ-НА-ТАЙНЕ
Лондон, 6 октября. Комитет в Ньюкасле-на-Тайне 288, который был создан с целью расследовать «деятельность дипломатии», только что опубликовал в высшей степени любопытный отчет. Мы приводим наиболее важные выдержки из этого документа, но предварительно лишь заметим, что г-н Портер, играющий главную роль в приводимых ниже документах, являлся заместителем министра в бриъанском Board of Trade * и занимает известное место в английской литературе как автор книги «Прогресс нации».
№ 1. Отчет Комитета в Ньюкасле-на-Тайне. Комитет считает:
1) что г-н Портер, занимая пост в Board of Trade в тот период, когда лорд Мелбурн был премьером, а лорд Пальмерстон — министром иностран ных дел, в результате собственных наблюдений и на основании выводов из известных ему фактов пришел к убеждению, которое он и высказал, о систематическом принесении в жертву лордом Пальмерстоном интересов Англии в угоду России в вопросах, связанных с торговыми договорами;
2) что г-н Портер отнюдь не скрывал этого убеждения от своего началь ника по службе, министра торговли **, коллеги лорда Пальмерстона; скорее наоборот, в 1840 г., когда ему было предложено отправиться в Па риж для заключения торгового договора с Францией, Портер не соглашался на эту миссию, пока прямо не будет договорено, что ему не придется посылать никаких отчетов в министерство иностранных дел. Это требование было основано на убеждении, что все его попытки заключить такой договор были бы предательски расстроены главой указанного ведомства; 3) что это условие было принято, и тогда Портер отправился с миссией в Париж; 4) что, занимая пост при Гладстоне во время правле ния сэра Р. Пиля, Портер неуклонно придерживался своих прежних
• — министерстве торговли. Ред, •• — Генри Лабушера, Ред.
222
К. M A Г К С
убеждений и, кроме того, обвинил лорда Пальмерстона в получении денег от русских. Портер утверждал, что посредником в этой сделке был еврей по имени Джекоб Харт, который ранее содержал игорный притон на улице Сент-Джемс, а затем был назначен лордом Пальмерстоном на пост британского консула в Лейпциге. Портер убедился в этом в результате расследований, предпринятых правительством с целью избавиться от ларта; 5) что независимо от свидетельства г-на Портера факт этот неоспорим, и каждый, кто пожелает, может удостовериться в том, что Джекоб Харт действительно содержал игорный притон и что лорд Пальмерстон назначил его консулом в Лейпциге, где все его избегали, как человека весьма сомнительной репутации. Ниже Комитет приводит собранные им показания свидетелей.
Ньюкасл, 20 сентября 1855 г.
Дж. Кроши и другие
Из этих свидетельских показаний мы приводим следующие выдержки:
№ 2. Сделка с игорным домом стала известна г-ну Портеру лишь позднее, при правительстве сэра Р. Пиля. Обстоятельства, сообщенные мне Портером, таковы: некий еврей, британский консул в Лейпциге, считался как местными, так и английскими купцами в высшей степени недостойным представителем Англии, особенно после того, как выяснилось, что он в прошлом содержал игорный притон на улице Сент-Джемс. Была предпринята попытка отстранить его, и вопрос поставлен перед правительством сэра Р. Пиля. Однако его правительство столкнулось с таким решительным и резким противодействием Пальмерстона, назначившего в свое время Харта на этот пост, что оно уступило. Тайна приверженности Пальмерстона к столь гнусному субъекту стала затем предметом расследования, и обнаружилось, что однажды, когда лорд Пальмерстон испытывал серьезные денежные затруднения, я полагаю, это было в 1825 г., княгиня Ливен посоветовала ему посетить игорный дом этого еврея, где один иностранец в течение двух ночей подряд проиграл Пальмерстону 20 тысяч фунтов стерлингов. Г-н Портер открыто говорил об этом многим, в том числе и г-ну Брайту.
7 апреля 1855 г.
Д. Росс, из Блейденсберга
№ 3. Назначение Харта состоялось в тот момент, когда Пальмерстон намеревался выйти из кабинета, в 1841 году. В Лейпциге Харт открыто похвалялся разным лицам письмом Пальмерстона, который выражал сожаление, что в данный момент лишен возможности предоставить ему какой-либо выгодный пост.
Уортлинг, 28 апреля 1855 г.
Д. Ур кар m
№ 4. Было бы совершенно бесполезно, да я бы и не смог воспроизвести все мои частные разговоры с Портером. Я ограничусь одним случаем. С одним европейским государством (Неаполем) был заключен важный договор, и если бы он был ратифицировав, то наша страна могла бы получить значительные торговые выгоды дружественным путем. Официальные лица, которые знали о русских акциях в кабинете и противодействовали им, выражали опасение, что договор будет провален, если только найдутся какие-нибудь предлоги для дискуссий, процедурных
КОМИТЕТ В НЬЮКАСЛЕ-НА-ТАЙНЕ
223
формальностей и предварительных условий. Чтобы избежать такой опасности, текст договора довели до полного совершенства и представили его министерству только после того, как он уже был одобрен и подписан Неаполем. В Англии договор был встречен полным молчанием. Ни один правительственный орган не получил разрешения приветствовать это событие. Министерство иностранных дел полностью его игнорировало. Лица, осуществившие этот договор, побудили одного члена парламента сделать запрос, не получено ли уже на него согласие Неаполя. Паль- мерстон ответил, что это полное недоразумение — никакого такого договора не существует — имеются лишь отдельные его предварительные наметки. Я помню, что в связи с этим ответом министра Портер у меня на глазах открыл шкаф с официальными документами, вынул один из них, передал его мне и воскликнул: «Вот — договор». Вероятно, он и по сей день лежит на том же месте. Переговоры о договоре с Неаполем вел Мак- Грегор, нынешний член парламента от Глазго. Еще более удивительным был рассказ Портера о принесении в жертву одного торгового договора, о котором он сам вел переговоры с Францией и осуществление которого также было сорвано Пальмерстоном. 4 мая 1855 г.
Р. Монтит
№ 5. Я припоминаю, что слышал о назначении на официальный пост одного еврея или бывшего еврея Митчели (или похожая на эту фамилия), являвшегося совладельцем, а также одним из редакторов газеты « Morning Post». Пальмерстон устроил ему консульство в С.-Петербурге, пост, который он занимал до самого начала войны и который приносил ему 4—5 тысяч фунтов стерлингов в год. Сразу же после всеобщих выборов 1847 г. « Morning Post», в то время верная Дерби, строго консервативная газета, опубликовала статью о министерстве, в которой касательно Паль-мерстона говорилось, что Уркарт может выдвинуть против него такие обвинения, от которых волосы станут дыбом. Вскоре после этого Митчели получил назначение. Правда, руководство газетой перешло тогда в другие руки, однако с этого момента и все время, пока она продолжала со хранять свою верность Дерби и хлебным законам, нападая на министерство в целом, она не трогала Палъмерстона; напротив, постоянно превозносила и поддерживала его. В последние 12 месяцев газета открыто дезертировала из лагеря консерваторов и стала не только пальмерстоновской, но и правительственной.
Чарльз А твуд ш
Написано К. Марксом в октября 1855 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в «Neue Oder-Zeitung» Перевод с немецкого
M 475, 11 октября 1855 г. „ _
Но русском языке публикуется впервые
224 ]
К. МАРКС
БОЛЬШОЙ МИТИНГ В ЗАЩИТУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ а9°
Лондон, 13 ноября. Вчера вечером в Сент-Мартинс-холле состоялся необычайно многолюдный митинг, на который извещения приглашали как на «объединенную демонстрацию против недавней высылки с Джерси, против подготовляемого билля об иностранцах 291 и против нынешней военной политики». Последний пункт был, однако, снят с повестки дня, чтобы обеспечить единство по первым двум. Председательствующий, член парламента Эдуард Майалл, сделав обзор событий, приведших к высылке, продолжил так:
«Цель этого митинга проста, она состоит в том, чтобы протестовать как против прошлого, так и против будущего. В интересах политических изгнанников мы требуем права убежища (возгласы «браво!»); мы требуем этого по той простой причине, что они являются политическими изгнанниками (снова «браво!»). Их печальная судьба является достаточным основанием, чтобы обеспечить им наше сочувствие и покровительство («браво!»). Мы не спрашиваем, каковы их политические взгляды: мы не хотим знать, к какой партии они принадлежали в своей стране. В этом отношении мы не делаем никакого различия между князем и плебеем («браво!»). Мы за право убежища для всех, кто достигает этих берегов. До сих пор мы делали это беспристрастно. Мы равно протянули руку помощи принцу Луи-Наполеону и взяли под защиту забытого монарха * под именем Джона Смита (возгласы «браво!» и смех). Под защитой наших законов у нас побывали орлеанисты, фузионисты 282, роялисты и респуб ликанцы — и не в силу политики правителей той страны, из которой они бежали, а в силу законов Англии. («Браво!») Наше национальное гостеприимство сердечно и охотно оказывалось всем. В числе других мы с поче том приняли такого человека как Кошут (бурные аплодисменты), которого «Times» недавно назвала «великим мадьяром», а также предоставили
* — Луи-Филиппа. Ред.
БОЛЬШОЙ МИТИНГ В ЗАЩИТУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ 225
защиту Мадаини (громкие аплодисменты), о которой он просил. Мы не считали нужным спрашивать, совпадают ли политические взгляды этих людей с нашими, или нет. Нам нужно было только знать, что они изгнанники по политическим мотивам, и их невзгоды явились достаточным основанием для наших симпатий. («Браво I») Вот чего мы добиваемся для изгнанников с Джерси. («Слушайте!», «Слушайте!») Вот чего мы добиваемся для всех, кто прибывает к этим берегам, и мы не хотим ни на йоту отступиться от нашего национального гостеприимства по требованию кого бы то ни было. («Громкие и продолжительные возгласы «браво!») Поэтому следует допустить тех, кто прибывает сюда, пользоваться всеми британскими свободами, а не только тюремным заключением. («Слушайте!», «Слушайте!») Не нужно никакой регистрации людей, бежавших со своей родины по политическим мотивам; не нужно никакого полицейского надзора. («Слушайте!», «Слушайте!») Мы не хотим передать в руки министра или короны свободу этих лиц так же, как и свою собственную свободу и т. д.».
После того как Майалл закончил свою довольно длинную и принятую громовой овацией речь, в которой не обошлось без резких нападок на Луи-Наполеона и Австрию, г-н Вашингтон Уилкс зачитал следующее письмо от Кобдена:
«Милостивый государь! Я весьма огорчен тем, что не смогу принять участие в вашей демонстрации против произвола по отношению к г-ну Виктору Гюго и его товарищам по изгнанию. Но хотя отдаленность от города и занятия другого рода не позволяют мне присутствовать на митинге, я тем не менее всем сердцем солидарен с его организаторами. Меры, подобные тем, протестовать против которых вы собирались, поистине должны открыть глаза, по крайней мере части публики, которая поддерживает войну («ol о!») из симпатии к либерализму за границей, открыть глаза на обман, которому ее легковерие подверглось («о! о!») со стороны людей, внушавших ей, что под руководством нашего нынешнего правительства война, в которой мы участвуем, является борьбой за свободу. (Шиканье и «браво!») Поверьте тому, что с момента нарушения мира в Европе как внутри страны, так и за границей тенденция была всегда прямо противоположной; и если они навяжут нам войну еще на несколько лет, то они отбросят нас к мрачным политическим деяниям тяжких дней правления Сидмута 2ез. («Нет, нет!» Шиканье и «браво!».)
Р. Кобдена
Митинг принял следующее решение:
«Собрание с возмущением выражает свой протест против недавней высылки эмигрантов с Джерси и считает, что иностранцы, которые прибывают на территорию британской короны, немедленно получают естественное и законное право англичан, право подвергнуться публичному допросу и следствию перед присяжными, прежде чем их подвергнут уголовному преследованию. Собрание обязуется всеми законными средствами противиться вызывающим беспокойство попыткам провести через парламент акт, который упразднит или ограничит право убежища, и призывает к этому всю страну».
Эта демонстрация повлечет за собой множество подобных. Впрочем, я не могу удержаться от замечания, что во всем эмигрантском вопросе больше дыма, чем огня. Общественное
226
К. МАРКС
мнение решительно повернуло против правительства; но вместе с тем я даже думаю, что этот спектакль входил в расчеты последнего. Оно так неуклюже и с такой трагикомической готовностью уступило первым требованиям Луи-Наполеона именно с целью на деле доказать ему, что дальнейшие уступки для любого английского правительства невозможны. Если бы правительство смотрело на это дело серьезно, то оно действовало бы более ловко и не сделало бы своего нелепого хода задолго до открытия парламента. Пальмерстон не любит эмигрантов, но он считает их средством, которое хорошо иметь под рукой, чтобы при случае иметь возможность пригрозить ими континенту. Я убежден, что именно теперь эмигрантам нужно опасаться меньше, чем когда-либо.
Написано Н. Марксом 13 ноября 1855 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в «Neue Oder-Zeitung» Перевод с немецкого
M 537, 16 ноября 1855 г. ,. ,
' у IIa русском языке публикуется впервые
( 227
К. МАРКС
РЕДАКТОРУ «FREE PRESS»
294
Сэр, имею честь приложить экземпляр статьи, которую Вы, возможно, найдете нужным довести до сведения ваших читателей
Ваш покорный слуга
Др. Карл Маркс Лондон, 26 апреля 28, Дин-стрит, Сохо
Написано К, Марксом $в апреля 1SÖ8 г.
Напечатано в газетах « The Free Prêts»
и «The Sheffield Free Press»
3 мая lese г.
Печатается по тексту « The Free Preis»
Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
228 ]
К. МАРКС ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО))
(СМ. ШТЕИН) "5
1320 1142
178
1417 1320
g 7 29 в
![]() /
период. 1142 г. (Граф фон Баллен-штедт, Альбрехт Медведь)
/
период. 1142 г. (Граф фон Баллен-штедт, Альбрехт Медведь)
Северная марка.
1133 г. Император Лотарь (1125—1137 гг.) отдал Северную марку графу А лъбрехту фон Валленштедту, сыну графа Отто, которому пожаловано герцогство Саксонское ш.
11 период. Маркграфы из дома Баллен-штедтов. 1142—1320 гг,
/// период. Бавария и Люксембург. 1320-1417 гг. 2В8
Император Сигизмунд (король Богемии, из Люксембургского дома) в 1411 е. на значает бургграфа Фридриха VI Нюрнбергского, ссужающего его деньгами, намест-
Основную борьбу они ведут против архиепископа Магдебурга, стремясь освободиться от ленной зависимости. Этого они не добились за 178 лет.
В последующие 97лет (1320-1417 гг.) их история характеризуется тем, что как Баварский, так и Люксембургский аома оп
ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»)
229
никои, а в 1415 г., после того как Фридрих снова ссудил ему крупные суммы, владетельным князем Бранденбургской марки, за каковым актом последовало в 1417 г. торжественное пожалование званием эрцкамерария и курфюрста Священной Римской империи.
an average * противятся счастью быть владельцами Старой марки **.
Гогенцоллерн *** в 1411 г. назначен генеральным наместником и правителем Марки. (1411). (1415) покупка маркграфства Бран-денбургского у Си-гизмунда. Условие: (1415) за Люксембургским домом должно признаваться и сохраняться право выкупить Бранден-бургскую марку вместе со званием курфюрста за 400 тысяч золотых гульденов.
IV период. Гогенцоллерны. С 1417 г. по настоящее время
1-й этап. 1417—1535 гг. (От Фридриха I до Реформации).
1413—1417 ее. Борьба войск бургграфа против рыцарей-разбойников, хозяйничавших в Марке (Китцов, Путлитц и т. дЛ 1414—1418 ее. Церковный собор в Констанце на Боденском озере (где Фрид рих I при помощи новых денежных ссуд покупает у Сигизмунда новые привиле гии и т. д. 30 апреля 1415 г. Сигизмунд жалует Фридриху наследственное звание маркграфа Бранденбургского, эрцкамера рия Римской империи, курфюрста и т. д. Там же 18 апреля 1417 г. Сигизмунд жалует Фридриху лен и отказывается от оговорки относительно выкупа). (В 1415 г. Фридрих обязуется во время каждых выборов им-
Покупка маркграфства. Использует с этой целью Констанц-ский собор 299.
• — ад. в равной степени. Ред. *• Северной марки. Ред. ••• бургграф Нюрнбергский Фридрих VI . Ред.
230
К. МАРКС
ператора отдавать свой голос Люксем бургскому дому.) В 1419 г. умер король Богемии Венцель. Его брат император Сигизмунд предъявляет свои права на бо гемскую корону; требует ее в 1420 г.
Гуситы во главе с Жижкой овладевают Прагой, отбрасывают императорские войска за пределы Богемии. Во всех последующих кампаниях императорские войска, во главе которых неоднократно стоял в каче стве главнокомандующего Фридрих Бранденбургский, покрыли себя таким же позором, и в 1432 г. гуситы переходят границу Марки, продвигаются до Франкфурта-на-Одере и еще дальше до Бернау, где они наконец разбиты и вынуждены отойти. В 1432 г. or so about * Базельский собор 300. Теперь, когда опустошается его земля, Фридрих настаивает на уступках гуситам (отделившимся с этих пор от таборитов). Угрожает, что заключит особый ** мир с Богемией, дабы его страна не под верглась дальнейшему опустошению.
В 143в г. наконец заключение мира на Базельском соборе301. Борьба с герцогами Померании, Мекленбурга, Саксо-нии-Лауенбурга. (Бранденбург ааключает союз с Гамбургом и Любеком.) Захватывает Укерскую марку у Померании и т, д. Умер 21 сентября 1440 г.
1440 г. Фридрих II Железный. (Очень слабый человек, ханжа, но постоянно носил железные латы).
Основывает орден Лебедя.
Фридрих I уже использовал города, для того чтобы сломить сопротивление дворянства. Но теперь разбо-
Первая большая война курфюрстов Бранден- бурга; против рели гиозной свободы. (Гу ситы и табориты.)
Бранденбург грозит «сепаратным миром».
• — или примерно в вто время. Ред.
* * В рукописи над словом «особый» («besondern») Марксом написано «сепаратный» («separat»). Ред,
ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»)
231
гатевшие города стали строптивыми. Фридрих I пожаловал им муниципальные привилегии. Затем борьба между патрицианскими членами ма гистрата и демократически настроенными общинами.
В первые годы правления Фридриха II — спор между Кёлльном на Шпрее и Берлином, которые до той поры управлялись общим магистратом; общины потребовали от курфюрста разрыва этой связи. Он не принял никакого решения. Открытое вос стание жителей Кёлльна и Берлина против их магистрата. Последний спасается у курфюрста, вручает ему ключи от города, слагает с себя полномочия. Фрид рих дал каждому городу собственный магистрат,
выбор бургомистра поставил в зависимость от курфюрста. Возмущение горожан. Подавление восстания силой. Горожане утрачивают многие привилегии.
Они были вынуждены согласиться уступить курфюрсту место для постройки замка близ кёлльнского доминиканского монастыря. Начавшееся вскоре строительство, часто прерывавшееся горожанами, было закончено только около 1448 г. В 1451 ». Фридрих II поселился в новом замке. «Вероятно, покорение строптивых городов далось курфюрсту не так легко, если он не предотвратил опасное стремле ние многих городов Марки присоединиться к Ганзейскому союзу 302 тем, что вступил в более тесный союз с рядом северных держав, особенно с Данией». В 1455 в. откупает Новую марку за 100 тысяч гульденов у теперь уже
страшно потрепанного Тевтонского ордена ш.
Ко времени смерти Фридриха I государ ство — 381 кв. миля, к моменту отречения Фридриха II — 572 кв. мили. 1470 г. Альбрехт (брат Фридриха II) (Ахиллес) * — 602 кв. мили.
2-я покупка. Покупка Новой марки.
(Невшателъ — 14 кв. миль). Вся Пруссия — 5062 кв. мили.
» — Альбрехт III Ахиллес, Рев,
232
К. МАРКС
![]() 1486 г. Иоганн Цицерон.
Увеличивает площадь на 6 кв. миль посредством покупки
владения Цоссен. 1499 г. Иоахим
I
Нестор.
Астролог. Преследование евреев. Более
ревностно — против Реформации. Умер в 1535 г. Государство: 641 кв.
миля. Кузен Иоахима по франконской линии принц Альбрехт стал великим
магистром Тевтонского ордена, после принятия протестантства в 1525 г. превращает
[его владения] в светское герцогство зм.
1486 г. Иоганн Цицерон.
Увеличивает площадь на 6 кв. миль посредством покупки
владения Цоссен. 1499 г. Иоахим
I
Нестор.
Астролог. Преследование евреев. Более
ревностно — против Реформации. Умер в 1535 г. Государство: 641 кв.
миля. Кузен Иоахима по франконской линии принц Альбрехт стал великим
магистром Тевтонского ордена, после принятия протестантства в 1525 г. превращает
[его владения] в светское герцогство зм.
3-я покупка.
Махинации с наследованием.
2-й этап. 1535—1640 гг.
1535 г. Иоахим II Гектор умер в 1571 г. (его брат Иоганн * — маркграф Новой марки). Вначале не высказался за католическую партию, но и не примкнул к Шмаль-кальденскому союзу305. Втайне подготовлял Реформацию в стране. «Он даже приказал католическому духовенству разработать проект введения нового учения». 1 ноября 1539 г. в Шпандау открыто перешел в протестантство.
1541 г. Введен новый церковный устав. Секуляризация монастырей и других церковных институтов в Бранденбургской марке. «Церковная реформа принесла наибольшую выгоду имперским князьям после заключения знаменитого Аугсбургского религиозного мира 30в в силу того установленного имперским сеймом права, согласно которому каждый князь получал в своей земле также епископальные права. Для Бранденбурга это право имело величайшее значение, поскольку оно открывало надежные перспективы постепенного установления связи епископских владений с короной».
1545 г. В ответ на требование членов Шмалькальденского союза поднять меч за дело веры, которому угрожал император **, он не только отклонил это требование, но и попытался побудить вождей союза примириться с императором.
• — Иоганн II. Ред. •• — Карл V, Ред.
ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО») 233
Когда вскоре после этого вспыхнула шмалькальденская война, Иоахим лично держался в стороне от всех партий, но прямо не отказал императору в своей помощи.
В 1568 г. получил от польского сейма в совместное ленное владение герцогство Прусское. Иоахим II присоединился также к Interim (решение принято рейхстагом в 1548 г. в Аугсбурге, после чего император объявил, как надлежит держаться по отношению к религии до окончания Три-дентского вселенского собора 30?).
Иоахим II в сильной «финансовой нужде». При нем возвращены евреи, которым он очень много задолжал.
1571 г. Иоганн-Георг. Преследование евреев. Изгнание евреев. Фанатичный лютера нин. Гонитель кальвинистов. Он подгото вил будущий рост своего дома
отчасти тем, что наделил крупными церковными владениями младших членов своей семьи, а
отчасти женитьбой в 1594 г. своего внука Иоганна-Сигизмунда на дочери прусского герцога Альбрехта-Фридриха *, являв шейся одновременно наследницей земли Юлих-Клеве.
1598 —1608 гг, Иоахим-Фридрих. В 1598 е. по так называемому Гераскому династическому договору впервые устанавливается неделимость земель Бранденбург-ского курфюршества.
Долги оплачиваются путем секуля ризации епископских земель Бран- денбурга, Хафельберга, Лебуса.
Безумный прусский герцог Альбрехт-Фридрих. Умер в 1618 г.
В 1605 г. с помощью многочисленных интриг Иоахим-Фридрих получил для себя и для своей семьи опеку над герцогством Прусским, а с титулом и званием герцога также и управ-
• — Анне, Ред.
234
К. МАРКС
![]()
![]() ление
страной. Действуя через своих !
посредников при польском дворе, он не жалел ни усилий, ни денег, чтобы
обеспечить за собой престолонаследие в Пруссии.
ление
страной. Действуя через своих !
посредников при польском дворе, он не жалел ни усилий, ни денег, чтобы
обеспечить за собой престолонаследие в Пруссии.
Альбрехт *, принявший протестантство в 1525 г., являлся также племянником короля Польши Сигизмунда. Договор, по которому государство Ордена превратилось в светское герцогство, находившееся в лен ной зависимости от польской короны, 8 ап реля 1525 г. — Этот Альбрехт принадле жал к франконско-бранденбургской линии. —
В этом договоре нет никаких намеков на то, что бранденбургские курфюрсты могут предъявить права на Пруссию. Иоахим II ** женился на польской принцессе ***; и только после значительных жертв, которые он вынужден был принести прежде всего продажному польскому сейму, только после долгих и трудных переговоров он получил гарантию наследственных прав дома бранденбургских курфюрстов в отношении Пруссии как раз в момент пожалования леном молодого герцога Альбрехта-Фридриха.
(1571 е.) Герцог Альбрехт-Фридрих сошел с ума; поэтому управление перешло к его ближайшему родственнику по мужской ли нии маркграфу Георгу-Фридриху из фран конско-бранденбургской линии. Из детей безумного Альбрехта-Фридриха два сына уже умерли, в живых оставались лишь две дочери. У правителя Георга-Фридриха детей не было. Иоганн-Сигизмунд женился на Анне, старшей из двух дочерей безумного Альбрехта-Фридриха, а его родной отец, Иоахим-Фридрих — на младшей сестре, Элеоноре.
Вскоре после помолвки (1591 г.) с Анной, старшей дочерью безумного
• — Альбрехт Бранденбургский, Ред. " — Иоахим II Гектор, Ред, •♦• — Ядвиге, РеЭ.
ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»)
235
Альбрехта-Фридриха, Иоганн-Сигизмунд попытался добиться передачи ему Пруссии в ленное владение. Наибольшие трудности чинила ему Польша, поддерживаемая в этом в особенности прусским дворянством. Иоганн-Сигизмунд был вынужден прибегнуть к «разного рода ухищрениям»; однако надежда у него появилась лишь с того момента, когда его отец, Иоахим-Фридрих, был назначен опекуном безумного герцога Альбрехта-Фридриха,
а также регентом и правителем страны. Звание перешло после его смерти к сыну.
1608—1619 гг. Иоганн-Сигизмунд. Этому удалось наконец взять верх над партией, представлявшей права польской короны, так что в 1609 г. ему были переданы как опека, так и управление герцогством.
В 1611 г. произошла торжественная передача Пруссии в ленное владение308. Когда безумный герцог Альбрехт-Фридрих умер (1618 г.), удалось наконец объеди нить герцогство Прусское с курфюршеством Бранденбург.
Мошенничества Иоганна-Сигизмунда относительно земли Юлих-Клеве, на которую он приобрел права через свою супругу Анну. Иоганн-Сигизмунд переходит в лоно реформированной (кальвинистской) церкви (1613 г.). С этого момента Юлих на целые полстолетия стал театром военных действий, в ходе которых в эту землю вторгались, с одной стороны, испанцы, воевавшие на стороне пфальцграфа Ней-бургского * в пользу католической лиги, а с другой — голландцы в пользу Бранденбурга, который принадлежал к Протестантской унии 309.
* — Филиппа Людвига. Рев, 9 М. и 9., т. 44
236
К. МАРКС
В течение всей 30-летней войны эта земля была желанной добычей в глазах всех враждующих сторон; даже Вестфальский мир 81° не положил конец борьбе, а только договор, заключенный в Клеве в 1666 г. между Бранденбургом и Пфальц-Нейбур-гом. В соответствии с этим договором враждующие стороны поделили между собой землю. В 1678 г. этот договор был подтвержден императором *. 1619 —1640 гг. Георг-Вильгельм (его
фактотум —
граф Адам фон Шварценберг). Георг-Вильгельм постоянно открыто заявлял, что перед лицом всеобщей борьбы он намерен оставаться нейтральным. С 1625 г. Марки подвергаются страшному опустошению отчасти со стороны войск Унии, а отчасти со стороны императорских войск;
такая же участь постигла Пруссию во время войны между Швецией и Польшей 8П.
Георг-Вильгельм — бесстрастный наблюдатель.
1629 г. Императорский реституционный эдикт 31а . (В том же году Польша уступает Швеции часть Пруссии.)
1630 г. Густав-Адольф, король Швеции, высаживается на побережье Померании; Георг-Вильгельм колеблется: «несмотря на неописуемые мерзости, чинимые императорскими войсками, страх и робость удерживали его от открытого разрыва с императором». К тому же Шварценберг. Союз Густава-Адольфа с герцогом Померании-Штеттина Богиславом, ландграфом земли Гессен-Кассель ** и городом Магдебургом. «В то время как Георг-Вильгельм не мог принять никакого решения, осажденный Тилли Магдебург воззвал о помощи к Густаву-Адольфу. Последний обещал поспешить на выручку Магдебургу, но, чтобы обеспечить успех и прикрыть свой тыл, потребовал (временной) уступки крепостей Шпандау и Кюстрин».
Георг-Вильгельм увиливает; согла шается только после того, как Гус-
• — Леопольдом I Габсбургом. Рев. •• — Вильгельмом V. Ред.
ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО») 237
![]() тав Адольф пригрозил применить силу.
тав Адольф пригрозил применить силу.
(Магдебург пал 20 мая 1631 г.) в ноября 1632 г. Битва при Лютцене. Гибель Густава-Адольфа. 1635 г. Бранденбург отделяется от Швеции, заключает сепаратный мир с Австрией в обмен на обязательство императора * отменить реституционный эдикт, гарантировать на будущее курфюрсту Бранденбурга владение Померанией, а также подтвердить договор о взаимном наследовании, заключенный между Саксонией, Бравденбургом и Гессеном. С этого времени Швеция выступает против Бранденбурга. Последний разбит шведским генералом Банером 24 сентября 1636 года.
В 1637 г. умирает герцог Померании Бо-гислав, не оставив мужского потомства. Шведы тотчас завладевают Померанией. Императорские и саксонские войска приходят на помощь Бранденбургу. Борьба в Померании, шведы побеждают. Теперь шведы нападают на само курфюршество. Георг-Вильгельм умирает 20 ноября 1640 года. Шведы потребовали Померанию, землю, на которую уже Балленштедты «и предки Георга-Вильгельма постоянно обращали алчные взгляды».
3-й этап. 1640—1786 гг. (От так называемого «великого курфюрста» ** до Фридриха II ).
1640—1688 гг. Фридрих-Вильгельм (Великий/1) (его жена — принцесса Луиза-Генриетта из Нассау-Оранского дома). Государство в то время занимало уже 1444 кв. мили, но большая его часть находилась в руках врагов,
Фридрих-Вильгельм решил пока держаться шведов.
14 июля 1641 г. Перемирие со шведами, в результате чего курмарка очищена почти целиком, за исключением некоторых городов. В том же году Польша отдает в ленное владение герцогство Пруссию при условии, что Фридрих-Вильгельм ежегодно будет выплачивать Польше 130 тысяч гульденов и постоянно оказывать ей помощь.
• — Фердинанда II . Ред. »♦ -г- Фридрща-Вдльгедьма. Ред,
Сепаратный мир в 30 - летней войне. 1635 г.
238 к, Маркс
По Вестфальскому миру 1648 г. Швеции отошли Западная Померания и Рюген, а из Восточной Померании — Штеттин вместе с некоторыми другими городами, Фриш-Гаф с дельтой Одера; Бранденбург же получил остальную часть Восточной Померании, бывшие епископства Хальберштадт, Минден и Камин, а также, сразу же после смерти герцога-правителя Августа Саксонского, архиепископство Магдебургское в качестве наследственного герцогства. Епархия Камин составляла не такую уж незаметную часть Померании; отошла к Бранденбургу по Вестфальскому миру. Последний епископ Камина Эрнст Богислав I Покупка. за порядочную сумму денег отказывается от всех своих прав и притязаний. При Фрид- | рихе-Вильгельме территория Пруссии достигает 2046 кв. миль с населением в 1,5 млн. жителей.
1654 г. Карл Густав *, пфальцграф, на шведском троне. Его война с Польшей; Фридрих-Вильгельм попеременно, в зависимости от обстоятельств, когда успех на стороне шведского оружия — со Швецией против Польши, если наоборот — с Польшей против Швеции.
|
Суверенитет над Пруссией. |
В 1657 г. Фридрих-Вильгельм получает от Польши суверенитет над Пруссией 313. 1660 г. — Оливский мир зы. 1663 г. — Договор Фридриха-Вильгельма с восточнопрусскими сословиями, согласно которому, в частности, запрещалось вводить налоги без разрешения ландтага.
Уже в 1673 г. Фридрих-Вильгельм наплевал на этот договор и произвольно ввел налоги.
1672 г. Война с Францией. 10 июня 1673 г. Фридрих-Вильгельм заключает с ней договор в Фоссене.
1674 г. Людовик XIV объявляет войну Германской империи. Фридрих-Вильгельм вовлечен в нее. В конце года шведы вторгают-
» *- Карл X Густав. Ред,
ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»)
239
![]() ся в Марки. 18 июня 1675 г. — битва при
Фербеллине.
ся в Марки. 18 июня 1675 г. — битва при
Фербеллине.
1678 г. — Австрия заключает с Францией мир, Нимвегенский мир 315. Новое вторжение шведов в Пруссию; они разбиты; Людовик XIV вторгается в Клеве, принуждает Пруссию в 1679 г. к миру, заключенному в Сен-Жермен-ан-Лэ. Курфюрсту гарантировано владение лишь небольшой частью Померании 31в.
1688—1713 гг. Фридрих III. С 1701 г. именует себя королем Фридрихом I . 1697 а. Рисвикский мир. Пруссия не получила ничего, кроме подтверждения Вестфальского мира и договора в Сен-Жер-мен-ан-Лэ. Август II , став королем Польши, нуждается в деньгах. Фридрих за 300 тысяч талеров покупает у него наслед ственные фогтские права над городом и аббатством Кведлинбург, округа Лауэнберг, Зевенберг и Герсдорф, а также судебные права имперского города в Нордхау-зепе.
Чтобы добиться королевского титула, Фридрих III подкупает иезуита Вольфа, духовника императора (Леопольда I). К тому же началась война за Испанское наследство. 16 ноября 1700 г. этот титул был дарован ему по договору с Австрией, согласно которому он должен поставлять войска для Австрии против Франции и т. д. П7
Благодаря родству с Оранским домом Пруссии помимо других приобретений достались также Невшателъ и графство Валан-жен. «Княжество Нёйенбург с графством Валанжен, которое в средние века принадлежало бургундской короне, а помимо этого стало членом Швейцарского союза, впоследствии перешло к Шалон-Оранскому дому, а потом, по инициативе швейцарцев и с гарантией ленных прав Оранской династии — Лонгвильскому дому и, наконец, ввиду отсутствия у этого дома мужских потомков — к сестре последнего князя, вдовствующей герцогине Немурской. Когда последняя стала владетельницей земель, Вильгельм III (Оранский), напротив, передал обе земли своему двоюродному брату Фридриху I . После смерти герцогини Немурской (1707 г.) Фридрих I предъявил свои права, а так как одновременно о своих правах на наследство заявили и другие княжеские дома, то Фридрих I передал решение этого вопроса Верховному суду трех нёйенбургских сословий, Последние;
Покупка.
Покупка королевского титула.
Мачеёвский 318,
240
К. МАРКС
![]()
![]() признали
нрава Фридриха 1 как суверена Нёйенбурга и Валанжена».
1713—7740
гг.
Фридрих-Вильгельм 1.
По
Утрехтскому миру 1713
f.
Франция приз
нает
souveraineté
* Пруссии над Невшате-лем
и Валанженом 31в, 7775 г.
Русские берут Штеттин; передаю!
его пруссакам,
которые, однако, должны уплатить
русскому и саксонскому кабинетам
400 тысяч талеров в возмещение военных
расходов.
Фридрих-Вильгельм предпринял
секвестрацию Западной Померании между
Одером и
Пеной
и одновременно
подтвердил
нейтралитет секвестрованных земель.
признали
нрава Фридриха 1 как суверена Нёйенбурга и Валанжена».
1713—7740
гг.
Фридрих-Вильгельм 1.
По
Утрехтскому миру 1713
f.
Франция приз
нает
souveraineté
* Пруссии над Невшате-лем
и Валанженом 31в, 7775 г.
Русские берут Штеттин; передаю!
его пруссакам,
которые, однако, должны уплатить
русскому и саксонскому кабинетам
400 тысяч талеров в возмещение военных
расходов.
Фридрих-Вильгельм предпринял
секвестрацию Западной Померании между
Одером и
Пеной
и одновременно
подтвердил
нейтралитет секвестрованных земель.
Покупка.
![]() Фридрих-Вильгельм
сделал это «мирным» путем.
Фридрих-Вильгельм
сделал это «мирным» путем.
Из-за [действий] Карла XII он был выну жден в 1714 г. объявить тому войну. 21 января 1720 г. Стокгольмский мир: Пруссия получила Западную Померанию до Пены, Штеттин, Уаедом и Волин; Пруссия взяла на себя лежавшую на Померании задолженность в сумме 600 тысяч талеров и сверх того уплатила Швеции 2 млн. талеров. Таким образом часть Померании отошла к Пруссии.
1725 з. Пруссия вступает в Ганноверский союз против Австрии 32°. 7726 г. Пруссия выходит из Ганноверского союза и в октябре 1726 г. заключает тай ный договор в Вустерхауаене, по которому признаёт Прагматическую санкцию импе ратора Карла VI и т. п. 821 За это по мощь императора при завладении Юлихом и Бергом, в случае угасания мужской ли нии Пфальц-Нёйбургского курфюршеского дома.
Ко времени смерти Фридриха-Вильгельма: 2275 кв. миль с 2,5 млн, жителей. 1740—1786 гг. Фридрих П. 1763 г. Губертсбургский мир 9as . Фридрих получает Силезию.
7 сентября 1764 г. Поддерживаемый русскими войсками Понятовский — король Польши.
5 августа 1775 г, Раздел Польши. (Договор о разделе между Пруссией, Австрией и Россией.) Пруссия получает Западную Пруссию (уступлена Тевтонским орденом Доль-
Покупка.
* — суверенитет, Р«9,
ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»)
241
те по Торуньскому миру в 1466 г. 323), за исключением Торуня и Данцига, а также части так называемого Нетцкого округа. Государство: 3600 кв. миль и 6 млн. жителей.
4-й этап. С 1786 г. и т. д.
1786—1797. Фридрих-Вильгельм II . 1788 г. Прусская армия вступает в Голландию в поддержку наследственного штатгальтера Вильгельма V (зятя) против патриотов.
Март 1790 г. Договор о дружбе и союзе между Пруссией и Польшей. 7 февраля 1792 г. Берлинский договор между Пруссией и Австрией против Франции. 5 апреля 1795 г. Сепаратный (Базельский) мир между Пруссией и Французской республикой.
Август 1796 г. Тайный договор Пруссии с Францией, по которому Пруссия соглашается уступить владения по левому берегу Рейна.
17 октября 1797 г. Мир в Кампоформио 324. 1793 г.
2-й раздел Польши между Россией и Пруссией,
в результате которого последней достались большая часть Великой Польши, Данциг и Торунь.
1795 г. Третий раздел Польши,
в результате которого Пруссия снова получила 900 кв. миль. 1791 г. Договор, в соответствии с которым бездетный владетель Ансбаха и Байрёйта * уступает их Пруссии в обмен на пожизненную ренту.
Государство: 5250 кв. миль, 8,5 млн. жителей.
1797—1840 ее. Фридрих-Вильгельм III . Нейтралитет.
Апрель 1801 е. Пруссия занимает курфюршество Ганновер. В декабре снова его оставляет.
Май 1802 е. Договор Пруссии с Францией, по которому последняя взяла на себя гарантию земель, которые «должны были отойти Пруссии» при вознаграждении немецких имперских князей. Занимает все,
» — Карл Александр. Ред,
242
К. МАРКС
уступленное ей еще в 1802 г. (как вознаграждение за ее рейнские владения). (Договоры об обмене и возмещениях.) После сражения при Аустерлице (2 декабря 1805 г.) пруссаки заключили с Бонапартом договор, по которому они получали в порядке вознаграждения «Ганновер» 326. 14 октября 1806 г. Два сражения под Йеной и под Ауэрштедтом. Результат Венского конгресса — провинция, названная теперь Герцогством Саксонским (460 кв. миль) и Познань (536 кв. миль), Великое герцогство Нижний Рейн и т. д. За Шведскую Померанию с Рюгеном Швеция 32в компенсирована уступкой Дании Лауанбурга и уплатой денежного вознаграждения.
Составлено К. Марксом в ноябре 1866 гщ Печатается по рукописи
Перевод с немецкого Публикуется впервые
[ 243
К. МАРКС
ВЕНЕЦИЯ 32 '
Венеция и Генуя. (Триест связан с их средиземноморской торговлей...) Генуя. Последняя половина XIII столетия: при вилегии генуэзцев за помощь, которую они оказывали грекам против католических королей, весьма значительны (привилегии в Константинополе — Галата и Пера) 328. Превосходство здесь над венецианцами (в Константинополе и на Черном море); венецианцам покровительствовали католические короли, торговое господство в Далмации, Морее, Малой Азии, на Кипре, в Сирии и т. д.
Причины упадка. С начала XV столетия завоевание турками греческой империи, в особенности же Константинополя в 1453 году. Итальянцы теряют сейчас же свои привилегии и свои фактории в Константинополе, Сирии, Армении, на Чер ном море и т. д. Получают привилегии в Египте от султана и т. д.
В конце XV столетия португальцы обогнули мыс Доброй Надежды; перемещение рынка индийских товаров в Лиссабон. Особый упадок с середины XVI столетия. Даже открытие Америки им менее выгодно, чем другим государствам и т. д. Дела Вене ции очень пошатнулись с тех пор, как Константинополь перестал быть центром торговли и транспортировки товаров из Азии.
С конца XVIII столетия — французское господство; война против Англии; упадок торговли всех итальянских приморских городов.
Мир 1815 г. возвратил лишь незначительную долю даже той торговли, которой они обладали перед французской революцией; большая часть досталась Триесту; ему весьма покровительствует австрийское правительство. По объему торговли
244
К. МАРКС
Триест в 3 раза превосходит Венецию. Триесту особенно благоприятствовало процветание русских гаваней на Черном море, в особенности Одессы, он завладел торговлей зерном, которую даже в конце XVIII в. еще вела Венеция.
Триест. (1838 г.) — 1 700 домов, 52 тысячи жителей; в Три-естском заливе; к тому же окружен обрывистыми горами Карста; 1 000 купцов; 700 маклеров; английские, французские, немецкие, греческие, армянские, еврейские торговые дома.
Еще перед заключением мира в Кампоформио 17 октября 1797 г.324 Наполеон положил конец существованию Венецианской республики; к Цизальпинской республике [отходили] Милан, Мантуя и др., [долина] Вельтлины, Романья и др. Большая часть Венецианской республики вплоть до Эча соединялась с Австрией.
Люневилъский мир 9 февраля 1801 г.: дорога через долину Эча стала рубежом между Австрией и Цизальпинской республикой; она [Австрия] получила Венецию с большей частью [земель], принадлежавших прежней Венецианской республике, до долины Эча, с Истрией, венецианской Далмацией и прилегающими к ней островами и горловиной [бухты] Каттаро.
1805 г., 26 сентября. Пресбургский мир. Австрия уступает Италии принадлежавшую ей часть территории Венеции.
1807 г., 10 октября. Австрия вынуждена отдать Италии графство Монтефальконе 329, таким образом, пограничным рубежом становится долина реки Изонцо.
14 октября 1809 г. Венский мир: из Виллахского округа в Каринтии, из герцогства Крайны, области Триеста, графства Герц, Фриули, из лежащей на правом берегу реки Савы Хорватии с Фиуме, а также из венгерского побережья и австрийской Истрии Наполеон создал так называемые Иллирийские провинции, к которым присоединил Истрию, Далмацию и Рагузу, удержав эти провинции за собой и передав их под управление особого генерал-губернатора.
В конвенционных деньгах 33 ° к 1844 г. торговый оборот Триеста:
1842-1843 гг.
Импорт 58 400 000 (Гамбург, 1843 г., общая стоимость 215 500000)
Экспорт 40 500000 (Гавр, 1842 г., обитая стоимость 168 700000)
Всего: 98 900000
ВКНЕЦИЯ
245
Во флоринах, конвенционная монета Австрийское судоходство
На 1 января 1840 г. Судов Тоннаж
1 590 176 696
Торговля Австрии (Цифры в миллионах)
|
Морская торговля |
1838 г. |
1841 г. |
1842 р. |
|||
|
импорт |
экспорт |
импорт |
экспорт |
импорт |
экспорт |
|
|
Черея Фиуме > Триест >
Венецию ..
.
, |
0,2 32,2 9,0 8,0 |
1,7 14,4 5,3 2,0 |
0,2 22,3 8,5 5,3 |
1,6 11,2 3,1 1,9 |
0,2 24,9 11,5 5,1 |
1,7 11,9 3,4 2,6 |
|
|
49,4 |
23,4 |
36,3 |
17,8 |
41,7 |
19,6 |
1889 г.
Торговля Триеста и Венеции
Импорт Венеции относится к импорту Триеста как
1 : 2,84
Экспорт
»
»
к вкспорту
»
»
1 :3,8
Торговля Триеста (стоимость во флоринах, конвенционная монета)
|
1832 г. |
1836 г. |
1840 г. |
|||
|
импорт |
экспорт |
импорт |
экспорт |
импорт |
эксперт |
|
57 000 000 |
44 000000 |
77 000 000 |
54 000000 |
49 000 000 |
37 000 000 |
Оборот судов в Триесте
|
1835 Р. |
1836 г. |
1837 г. |
1838 г. |
||||
|
суда, прибывающие в гавань |
суда, выходящие в море |
суда, прибывающие в гавань |
суда, иыходя- щие в море |
суда, прибывающие в гавань |
суда, выходящие о море |
суда, прибывающие в гавань |
суда, выходящие в море |
|
988 |
1069 |
1146 |
1 117 |
1094 |
1132 |
1 154 |
1118 |
246
К. МАРКС
![]() 1839 г.
1839 г.
Иностранные суда, прибывающие: в Триест — 1 217, в Венецию — 271
Австрийские: в Триест —10 375, в Венецию —3147
Всего: 11592 3 418
Отношение числа судов, прибы вающих в Венецию, к числу судов, прибывающих в Триест, равно
1:4
Тоннаж иностранных судов: 133 343 20 254
Австрийских: 330 404 196135
463 747 216 389
Стоимость в турецких пиастрах Импорт и экспорт Смирны с 1835 по 1839 г.
Импорт
Первое место занимает Англия — 126 313 146
(Мальта — 2 979 040)
Затем Триест — 93 500 456
» Америка и др. — 57 329 165
Экспорт
Англия —44 618 032
(Мальта — 3 361 185)
Триест —52 477 765
Америка — 46 608 320
Импорт и экспорт из Египта (1837 г.) во франках
Импорт Экспорт
1) Австрия (Триест) ........................ 13 858 000 14 532 000
2) Турция ............................................ 12 661000 12150000
3) Франция ....................................... 10 702 000 11463 000
4) Англия и Мальта ........................ 15158 000 5 404000
Написано К, Марксом в ноябре 18S6 а. Печатается по рукописи
Перевод с немецкого Публикуется впервые
[ 247
Ф. ЭНГЕЛЬС
* ГОРНАЯ ВОЙНА ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ
(Статья вторая) 331
История современной горной войны, краткий обзор кото рой мы дали в предыдущей статье, бесспорно доказывает, что маневренность армий в наше время предоставляет великолепную возможность преодолеть или обойти все мешающие их продвижению естественные препятствия горной страны, подобной Швейцарии. Итак, предположим, что и в самом деле вспыхивает война между прусским королем и Швейцарией. Швейцарцы в интересах безопасности своей страны, безусловно, вынуждены будут позаботиться о других средствах обороны помимо столь хваленых «горных крепостей».
В упомянутом выше случае линия возможных наступательных действий против Швейцарии протянулась бы от Констанца вдоль Рейна до Базеля, причем и Австрию, и Францию следует рассматривать как государства нейтральные, поскольку активное вмешательство любой из них придаст этому наступле нию столь разрушительную силу, что всякий ответный стратегический план окажется бесполезным. Предположим, следовательно, что только северная граница будет открыта для втор жения. Ее первым оборонительным рубежом является Рейн, преграда, не имеющая большого значения. Эта река течет вдоль атакуемой границы на протяжении 70 миль, и, несмотря на глубину и быстрое течение, здесь достаточно удобных мест для переправы. Во время французских революционных войн за обладание этой рекой никогда серьезно не дрались, и, действительно, сильная наступающая армия на протяжении 70 миль всегда может навести переправу через любую реку. Несомненно, во всех случаях фальшивые тревоги и ложные атаки, за
248
Ф. 8 H Г Е Л Ь О
которыми последует внезапная концентрация войск в действительных пунктах переправы, увенчаются успехом. Кроме того, через реку перекинуто несколько каменных мостов, и швейцарцы вряд ли попытались бы разрушить их настолько серьезно, чтобы сделать непригодными на время войны; и, наконец, расположенный на южном берегу Рейна Констанц, будучи немецким городом, является для пруссаков удобным предмостным укреплением для охвата всей линии с фланга.
Однако за Рейном, неподалеку, существует еще одно препятствие, которое косвенно увеличивает его пригодность для обороны, подобно тому как Балканы в Болгарии увеличивают пригодность Дуная для обороны. Три притока Рейна, Ааре с юго-запада, Рейс и Лиммат с юго-востока (последние два образуют прямой угол с Ааре), сливаясь около Бругга, затем текут прямо на север к Рейну, и примерно в 10 милях ниже места своего слияния впадают в него у Кобленца (разумеется, этот Кобленц на Ааре и Рейне не следует путать с крепостью Под тем же названием на Мозеле и Рейне). Таким образом Ааре между Бруггом и Рейном делит надвое долину этой реки, так что наступающая армия, перейдя Рейн выше или ниже Кобленца, окажется либо перед Лимматом, либо перед Ааре и, следовательно, снова остановится перед рекой, пригодной к обороне. Таким образом, выдвинутый вперед угол, обра зованный слиянием Ааре и Лиммата (Рейс представляет собой только следующую сильную линию обороны по отношению к линии Лиммата), является второй важной оборонительной позицией. Фланги этой позиции защищены слева (запад) озе рами 382 Цюриха, Валенштадта *, Цуга и Четырех кантонов **, ни одно из которых прусская армия при обстоятельствах, упо мянутых выше, не осмелится пройти. Позиции Ааре и Лиммата при том, что в тылу любой атакующей их армии находится Рейн, образуют главную стратегическую линию обороны Швейцарии против вторжения с севера. Предположим, что швей царцы отразили атаку на эту позицию и добились победы, организовав контрнаступление и активное преследование [врага], тогда потерпевшая поражение армия будет рассеяна, разбита, отрезана и уничтожена, прежде чем она сумеет отступить по нескольким мостам, которыми могла бы располагать на Рейне.
С другой стороны, если линия нижнего течения Ааре и Лиммата успешно преодолена, что же тогда остается делать швейцарцам? Здесь нам следует вновь обратиться к рельефу мест-
• — озеро Валеязе. Рев •* — Фирвальдштетским. Ред.
ГОРНАЯ ВОЙНА ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ (СТАТЬЯ ВТОРАЯ) 249
ности. Большие армии не могут существовать в высокогорных условиях и не могут размещать там свои главные оперативные базы и склады. Таковы некоторые причины того, что военные кампании в горных местностях всегда бывают весьма непро должительны, если в них вовлекаются значительные силы. Поэтому швейцарцам нечего и думать об отступлении круп ными силами в высокогорные районы, им следует как можно дольше держаться на более равнинной территории, где у них есть города со всеми их ресурсами и дороги, облегчающие передвижение. Если провести линию от того места, где Рона впадает в Женевское озеро у Вильнёва, к той точке, где Рейн впадает в озеро Констанца * около Рейнека, то она разделит Швейцарию на две части, из них северо-западная (не принимая во внимание Юры) составит Нижнюю Швейцарию, тогда как юго-восточная — Верхнюю, или высокогорную Швейцарию. Стратегия швейцарцев, таким образом, определяется четко. Их главные силы должны будут отступать вдоль линии Цюрих — Берн — Лозанна — Женева, обороняя пядь за пядью равнинную часть страны и оставив горы на юго-востоке под защитой тех частей армии, которые могут оказаться отрезанными, а также Landsturm ** и вольных стрелков, ведущих партизанские боевые действия. Главным силам на линии отступления послужили бы опорой все южные притоки Ааре, которые все текут параллельно Рейсу и Лиммату, а у Берна и сама Ааре, верхнее течение которой также направлено с востока на северо-запад. Если Ааре в верхнем течении будет форсирована и Берн взят, у швейцарцев практически не останется никаких шансов завершить войну успешно, если только отрядам горцев и вновь сформированным частям с юго-востока не удастся вновь занять часть Нижней Швейцарии, создав столь серьезную угрозу прусским тылам, что это повлекло бы за собой общее отступление. Но такой вариант можно вообще и не рассматривать.
Таким образом, у швейцарцев было бы несколько выгодных линий обороны: во-первых, по Ааре и Лиммату, затем по Ааре и Рейсу, в-третьих, по Ааре и Эмме (не говоря уже о промежу точных, более мелких притоках Ааре) и, в-четвертых, по верхнему течению Ааре, левый фланг [этой позиции] — за болотами, которые тянутся от Невшательского озера до этой реки.
Стратегия наступательных действий, как и оборонительных, зависит от рельефа местности. Если бы пруссаки
• — Боденское озеро Ред. ** — ополчения. Ред,
250
Ф. ЭНГЕЛЬС
были вынуждены переправить свои главные силы через Рейн выше Кобленца и атаковать позиции по Лиммату, то им пришлось бы лезть на рожон; им не только пришлось бы атаковать позицию, которую Массена в 1799 г. так успешно защищал от австрийцев и русских, но, взяв ее, обнаружить через 5 миль такую же сильную линию обороны по Рейсу; затем через 2, 3 или 5 миль другой горный поток преградит им дорогу, пока, в конце концов, после непрерывных остановок, битв и потерь они опять не наткнутся на позиции швейцарцев за Эмме, причем эта река представляет почти такую же серьезную преграду, как и Лиммат. Если не считать политических причин (их мы здесь совершенно не затрагиваем), которые заставят пруссаков оставаться на почтительном расстоянии от французской границы, этот путь наступления, следовательно, был бы абсолютно ошибочным. Верный путь в Швейцарию — это переход Рейна между Базелем и Кобленцем; или же, если бы часть армии пришлось переправлять выше Кобленца, необходимо сразу наладить переправу через Ааре между Бруггом и Кобленцем, для того чтобы сконцентрировать главные силы на левом берегу этой реки. Прямое наступление по линии Ааре охватывает с флангов Лиммат и Рейс и дает возможность обойти с флангов также все небольшие южные притоки Ааре вплоть до Эмме. К тому же протяженность позиций по Лиммату невелика, их фронт, пригодный для атаки, от Цюриха до Бругга, составляет не больше 20 миль, в то время как линия Ааре, от Бругга до Золотурна, открывает возможность наступления на протяжении 36 миль, да и выше Золотурна также не защищена от лобовой атаки. Левый фланг позиции, между Золотурном и Аарбергом, является ее слабым местом; если она будет здесь прорвана, то швейцарцы не только потеряют эту линию обороны, но окажутся отрезанными от Берна, Лозанны и Женевы, и им останется только отступать в высокогорные районы юго-востока. Однако здесь оборона обеспечивается тактическими препятствиями. Чем выше вы поднимаетесь вверх по Ааре к Золо-турну, тем ближе подходят к реке горные кряжи Юры, их своеобразные продольные долины, тянущиеся параллельно Ааре, затрудняют военные операции. Эти горные преграды вполне преодолимы, тем не менее концентрация крупных частей в таких условиях потребовала бы очень сложных маневров, всегда нежелательных на глазах противника и весьма неохотно проводимых любым генералом, если только он твердо не уверен в себе и своем войске. Последнее качество не так уж часто встречается среди старых прусских генералов, можно утверждать,
ГОРНАЯ ВОЙНА ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ (СТАТЬЯ ВТОРАЯ) 251
что едва ли они принимали участие в каких-либо военных действиях после 1815 года. Вряд ли они рискнут на подобный маневр и скорее прибегнут к полумерам на флангах и сконцентрируют свои главные усилия вдоль линии.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по рукописной копии,
между 1 и 20 января 1857 г, сделанной К. Марксом
Перевод с английского
Публикуется впервые
252 ]
К. МАРКС
ВОЙНА ПРОТИВ ПЕРСИИ 333
I
Персидская война является повторением военно-дипломатической драмы, впервые представленной лордом Пальмер-стоном лет 20 тому назад 334. Тогда, как и теперь, сигналом к войне послужило нападение Персии на Герат; тогда, как и теперь, виконт стремился, наказав Персию, покарать Россию. Он соизволил затем ввести в игру одно новшество: он претендовал не только на то, чтобы, наказав Персию, покарать Россию, но и на то, чтобы, нанеся удар по Кабулу или, скорее, по афганскому правителю Д ост-Мухаммеду, поразить Персию. Мы видим, что на сей раз этот самый Дост-Мухаммед фигурирует в качестве его союзника и собрата по оружию, — роль, которую в прошлом исполнял вождь сикхов Ранджит Сингх. В этом варианте' ощущалась крайняя нужда с тех самых пор, как Ранджит Сингх сошел со сцены, а земли, которыми он некогда управлял, перешли под власть Британской империи на Востоке 885.
Поскольку Пальмерстон любит заниматься плагиатом у самого себя, возникает необходимость познакомиться с первоначальным вариантом персидского конфликта, дабы понять его повторение.
Прежде чем приступить к этому изучению, возможно, нелиш не сделать несколько вступительных замечаний относительно современного положения соответственно Афганистана, Персии и Англии.
После того как афганские племена в различные времена наводняли Персию и Индию, Персия при Надир-шахе не только покорила Афганистан, но и победно прошла до Дели ззв. После
ВОЙНА ПРОТИВ ПЕРСИИ
253
смерти Надир-шаха под властью некоего Ахмед-шаха Дуррани возникло независимое афганское королевство, объединившее княжества Герат, Кабул, Кандагар, Пешавар и все сикхские земли *, которыми владели сикхи... Однако это лишь слабо сцементированное королевство рухнуло вместе со своим основателем; после его смерти оно снова распалось на свои состав ные части, на отдельные афганские племена с независимыми вождями, разделенные бесконечными междоусобицами и объединявшиеся лишь перед общей угрозой столкновения с Персией.
Наряду с этим существует политический антагонизм между афганцами и персами, основанный на национальных различиях в сочетании с историческими традициями, поддерживаемый пограничными распрями и взаимными претензиями, которые обостряются религиозным антагонизмом: афганцы — это мусульмане секты суннитов, то есть правоверные мусульмане, тогда как персы составляют главный оплот еретической секты шиитов.
Несмотря на этот острый и всеобщий антагонизм, у персов и афганцев все же была одна точка соприкосновения — их общая вражда к России. Россия вторглась в Персию еще при Петре Великом. Александр I после поражения Наполеона навязал ей Гюлистанский договор ш, лишив Персию 12 провинций, всей территории, лежащей к югу от Кавказского хребта и принадлежащей сейчас России. В результате войны 1826— 1827 гг. и Туркманчайского договора 8а8 Николай отнял у Персии еще ряд областей, взвалил на нее бремя громадного долга и лишил ее (запретил ей) права навигации у ее собственных северных берегов на Каспийском море. Таким образом, память о захватах ее земель в прошлом, притеснения, которые Персия вынуждена терпеть в настоящем, и боязнь вторжения в будущем в одинаковой степени способствовали тому, чтобы вызвать у нее смертельную вражду к России. Афганцы, со своей стороны, хотя у них и не было никогда подлинных столкновений с Россией, привыкли считать ее извечным врагом своей религии, неустанно злоумышляющим против их независимости: во-первых, из-за традиционных войн России против повелителя правоверных, во-вторых, из-за ее недавних кампаний против Туркестана S39 . Считая Россию своим естественным врагом, оба народа, и персы и афганцы, силой логики вынуждены считать Англию своей естественной союзницей. Между Англией и этими азиатскими народами не возникало конфликтов (вражды),
* Далее в рукописи зачеркнуто: «впоследствии завладели». Рев.
254
К. МАРКС
а разве борьба между Англией и Россией не была неизбежной, коль скоро она являлась результатом самого существования Азиатской России и Британской Индии? Таким образом, популярность Англии у персов и афганцев была приобретена дешевой ценой, отнюдь не ее делами, а одним только фактом существования ее азиатских владений. Персы и афганцы видели в Англии своего союзника, ибо она казалась врагом их врага.
Итак, по-видимому, ничто не могло быть более благоприят ным и легче поддающимся контролю, чем политическое поло жение Англии по отношению к Персии и Афганистану. Обе страны образовали естественный барьер, ограждавший Британскую Индию от России, причем, в свою очередь, ни та, ни другая не могла стать опасной, так как они взаимно сдерживали друг друга. Если Персия проявляла недовольство, Афганистан угрожал ей с фронта; если непокорным становился Афганистан, ему угрожала с тыла Персия. Персия прикры вала Индию с запада; Афганистан не только защищал расположенный в том же направлении Хайберский проход, ключ к Индии, но и препятствовал продвижению России на севере, в транскавказских районах. Это были азиатские плоскогорья, от обладания которыми всегда зависело господство на Востоке. Тогда как афганцы прибегли к помощи Англии в 1809 г., персы сделали это в 1801 г., с последними Англия действительно заключила в 1814 г. оборонительный союз 340. Таким образом, для того чтобы сохранить свое господствующее влияние, Англии нужно было лишь разыгрывать роль благожела тельного посредника между Персией и Афганистаном и выступать решительным противником вторжения русских. Показная дружба, с одной стороны, и серьезная враждебность, с другой — ничего больше и не требовалось. Посмотрим теперь, как эта завидная ситуация была улучшена лордом Пальмер-стоном, диктатором Англии и грозой России.
II
Мы видели, как с того самого момента, когда Англия силой оружия посадила на персидский трон русского ставленника *, нападение на Герат подготовлялось открыто, и Пальмерстон не только не противился этому, но запретил протестовать и своим послам.
* — Мухаммед-шаха. Ред.
ВОЙНА ПРОТИВ ПЕРСИИ
255
В сентябре 1837 г. персидская армия наконец вторглась в Афганистан. Ряд побед открыл ей путь к Герату, перед которым она расположилась лагерем и начала осадные операции под личным руководством графа Симонича, русского посла при персидском дворе. Однако, несмотря на очень длительную блокаду, атаки персов были отбиты, и 15 августа 1838 г. шах был принужден снять осаду и форсированным маршем отвести свою армию из страны, в которую он вторгся.
Теперь, разумеется, наступил период запугивания.
Мало того, что в течение всего времени, пока происходили эти враждебные действия, сэр Джон Мак-Нейл, английский посол, был связан по рукам и ногам противоречивыми инструкциями. С одной стороны, Пальмерстон предписывал ему избегать обсуждения вопроса об отношениях Персии с Гератом ввиду того, что эти отношения будто бы не касались Англии; с другой — лорд Окленд, генерал-губернатор Индии, выражал желание, чтобы посол отговорил шаха продолжать военные действия. В самом начале этой военной экспедиции г-н Эллис отозвал британских офицеров, состоявших на службе в пер сидской армии, но Пальмерстон вернул их обратно. Когда же правительство Индии снова приказало Мак-Нейлу отозвать английских офицеров, Пальмерстон опять отменил этот приказ. 8 марта 1838 г. Мак-Нейл отправился в лагерь под Гератом и предложил свое посредничество, но не от имени Англии, а от имени Индии. Шах, со своей стороны, заявил, что «он опасается нанести обиду русскому правительству, если отступится прежде, чем будет взят Герат», и в данный момент отвел бы войска лишь в случае непосредственной «угрозы со стороны Англии». Но оказалось, что добиться таких угроз от Паль-мерстона невозможно, последний развлекался тем, что на настойчивые требования Мак-Нейла отвечал депешами объемом в 6 строк, главный смысл которых неизменно заключался в стерео типной фразе: «Посылка дальнейших инструкций мною задерживается».
Однако в конце мая 1838 г., предполагая, что Герат уже взят (с начала осады к этому времени прошло уже около 9 месяцев), Пальмерстон воспользовался оскорблением, нанесенным груму Мак-Нейла, — инцидент, о котором Пальмерстон был осведомлен несколькими месяцами ранее и не обратил на него ни малейшего внимания, — чтобы отправить персидскому двору угрожающую депешу, в которой впервые выражал протест против событий в Герате и впервые всячески поносил «связь Персии с Россией». Одновременно с угрожающей депешей войска, посланные правительством Индии морем в Персидский
256
К. МАРКС
залив, захватили остров Харк. Несколько позже английский посол переехал из Тегерана в Эрзерум, а персидскому послу, направленному в Англию после военной неудачи под Гератом, не было дано разрешения на въезд. Герат же и впрямь выстоял, несмотря на то, что Англия не оказала ему поддержки.
Будучи последовательным в повторении своего собственного прошлого, лорд Пальмерстон ухитрился дополнить второе изда ние своей персидской войны вторым изданием своей китайской войны. Едва только телеграф сообщил о бомбардировке Кантона 341, как «Times» с риском для себя бросилась сразу на защиту китайской войны Пальмерстона, хотя всего за день до того в статье о персидской войне лондонская «Times» рас пространялась об историческом законе повторения событий через определенные промежутки времени и, подобно тому как мы это сделали выше, проводила несколько подозрительную параллель между персидской войной 1838 г. и персидской войной 1856 года 342. Только она сделала вид, будто вабыла, что коль скоро события походят друг на друга, то и рука, направляющая их, одна и та же, а изобретенный ею исторический закон смахивает сейчас на беззастенчивую апологию внешней политики лорда Пальмерстона. Однако даже «Times» не может не признать, что каким бы ни оказался результат персидской экспедиции, победой или поражением, и то и другое в равной степени губительно для Англии и в равной степени выгодно для России. Поражение обнаружило бы слабость Англии, престиж которой в Центральной Азии уже подорван сдачей Карса; победа ослабила бы Персию, еще больше подорвала бы ее уверенность в своих силах и поставила бы ее в полную зависимость от России. Если бы не удалось вапугать персид ский двор и вынудить его на уступки, тогда пришлось бы поспешить с английским вторжением в Южную Персию, что вызвало бы ответное вторжение русских в Северную Персию. А если бы персидский двор дал себя запугать, Персия стала бы безгласной и, конечно, не могла бы служить серьезным барьером между Британской Индией и транскавказскими владениями русских. Такова дилемма, провозглашенная «Times». Вынуж денная прийти к этому заключению, «Times» упускает из виду тот простой факт, что в 1856 г., как и в 1838 г., Пальмерстон поставил Англию перед этой опасной дилеммой, вознамерившись наказать персов за нападение на Герат после того, как оно уже произошло, вместо попытки его предотвратить. Перед своей первой персидской войной он прямо помог России, подтолкнув шаха к нападению на Герат. Разве свою вторую пер-
ВОИНА ПРОТИВ ПЕРСИИ
257
сидскую войну Пальмерстон не начал повторением исподтишка той же коварной тактики, отозвав в критический момент английское посольство из Тегерана и тем самым преднамеренно уничтожая свое собственное влияние на персидский двор и уступая место неоспоримому контролю России под жалким предлогом нелепой личной ссоры между персидским визирем и английским посланником *? Если бы «Times» умышленно и внезапно не прекратила рассмотрение первых подвигов лорда Пальмерстона в Центральной Азии, ей не пришлось бы завершать свою вымученную статью искренним, по-видимому, вопросом: была ли Англия снова втянута в этот азиатский конфликт из-за обидчивости второстепенного дипломатического агента или же из-за ненасытной жажды завоеваний правительства Индии? Ставя вопрос таким образом, она сбрасывает со счетов лорда Пальмерстона, тогда как, дай она только простор своим историческим реминисценциям, она обнаружила бы, что г-н Эмфи и лорд Каннинг — это всего лишь новые исполнители ролей старых dramatis personae **, что в 1856 г. они только играют роли, написанные лордом Пальмерстоном в 1838 г. для сэра Дж. Мак-Нейла и лорда Окленда.
Наоборот, ей пришлось бы признать, что они были всего только орудиями, которыми воспользовался лорд Пальмер-стон и которые лет 20 назад выступали под другими именами.
Мы снова повторяем: для того чтобы понять теперешнее повторение пальмерстоновского представления, необходимо по знакомиться с его первоначальным спектаклем. Поэтому мы намерены закончить на этом обзор его первого конфликта в Цен тральной Азии, который был начат нами в предыдущей статье.
Ш ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
16 июня 1838 г. в Лахоре между Ранджит Сингхом, шахом Шуджей и генерал-губернатором Индии был заключен договор. Этим договором Ранджит Сингх брал на себя обязательство помочь шаху Шудже отнять у Дост-Мухаммеда кабульский трон, но английские солдаты не должны были участвовать в замышляемом вторжении. Три с половиной месяца спустя, 1 октября 1838 г., лорд Окленд, генерал-губернатор Индии,
• — Ага-ханом Нури и Мэрреем. Ред. ** — действующих лиц. Рев,
258
К. МАРКС
[находясь] в Симле, объявил войну и заявил, что против Дост-Мухаммеда будут использованы 20 тысяч британских солдат. Еще через четыре с половиной месяца, 19 февраля 1839 г., эти войска в сопровождении сикхов наконец выступили, чтобы вторгнуться на афганскую территорию. Теперь следует обратить пристальное внимание на даты, когда были предприняты эти противоречивые шаги. 16 июня 1838 г., когда был заключен Лахорский договор, все еще существовала мнимая опасность: осада Герата персидской армией, действующей под русским влиянием. 1 октября 1838 г., когда война была объявлена, со снятием осады, поражением персидской армии и ее уходом с афганской территории эта опасность исчезла. 16 июня 1838 г., когда еще существовал повод для войны, британские войска не должны были использоваться против Дост-Мухаммеда. 1 октября 1838 г., когда этот повод исчез, было объявлено об использовании против Кабула 20 тысяч британских солдат. Но это еще не все. 1 октября 1838 г. мнимый заговор Дост-Мухаммеда с Персией и Россией был совершенно бесполезен, так как персидская армия оказалась неспособной подойти к Кандагару и Кабулу, а Россия, очевидно, смогла бы поддержать Афганистан лишь силами персидской армии.
Влияние России на персидский двор еще могло сохраниться, но оно, таким образом, потеряло свою остроту; противоположные политические взгляды с.-петербургского и лондонского кабинетов, которых они могли придерживаться в отношении Центральной Азии, стали объектом скорее умозрительного, чем непосредственного интереса. Таково было очевидное положение дел на 1 октября 1838 года. 8 ноября 1838 г. генерал-губернатор Индии получил от сэра Дж. Мак-Нейла сообщение о том, что неудача под Гератом полностью уничтожила русское влияние при персидском дворе, а к концу октября лорд Паль-мерстон сам получил от графа Нессельроде «в высшей степени удовлетворительное» «объяснение», полностью убедившее его в отсутствии у России «враждебных намерений».
«Если Россия, как утверждают, виновна, то почему мы напали не на эту страну, а на Афганистан? Его (лорда Пальмерстона) ответ на это замечание был таков: мы отправились в С.-Петербург, но без флота. Мы потребовали объяснения от русского правительства. Мы сообщили России о характере полученной нами информации. Мы нарисовали картину подстрекательства русскими агентами соседних народов против нас. Русскому правительству был задан вопрос, делается ли это с его разрешения. Если бы оно ответило утвердительно, то у правительства было бы время обратиться за содействием к парламенту; но русское правительство дезавуировало этих агентов. Выло сказано, что они действовали без разрешения и их отзовут; на деле же Россия не питает враждебных намерений в отношении нашей страны. Как при таких обстоятельствах британское
ВОЙНА ПРОТИВ ПЕРСИИ
259
правительство могло послать флот в Балтийское море? Каким было поведение России после этого? Ее поведение было дружественным. Так было в то время, пока он находился у власти».
Такое заявление было сделано лордом Пальмерстоном в палате общин 1 марта 1843 г. во время дебатов по предложе нию г-на Робака о назначении специальной комиссии для расследования афганской войны.
Объяснение русских, которое он называет совершенно удовлетворительным, датировано 20 октября 1838 года. Поэтому 19 февраля 1839 г.343 даже малейшая тень повода для войны против Дост-Мухаммеда по причине его отношений с Персией и Россией полностью исчезла, [это произошло] спустя три ме сяца после того, как правительство Индии убедилось в падении русского влияния в Тегеране, и через четыре месяца после того, как лорд Пальмерстон сам выразил удовлетворение в связи с тем, что со стороны России нет никаких враждебных замыслов, которым следовало противодействовать в Центральной Азии. Однако в той мере, в какой становились слабее признанные поводы для афганской войны, в той же мере усиливались враждебные шаги правительства Индии и, после того как надуманные причины для военных действий перестали существовать, эти военные действия начались и вправду.
IV ЗАЯВЛЕНИЕ ПАЛЬМЕРСТОНА В ПАРЛАМЕНТЕ
Есть еще одно обстоятельство, проливающее новый свет на ссору между Пальмерстоном и Россией. Из Синей книги под заглавием «Переписка, относящаяся к Персии и Афганистану», книги, которую он представил парламенту в начале 1839 г., мы узнаем, что русская депеша, позже представленная им палате общин как в высшей степени удовлетворительный ответ, предшествовала его собственному требованию дать объяснение. Депеша Нессельроде датирована 20 октября 1838 г., а депеша Пальмерстона — 26 октября 1838 г., следовательно, русский ответ на шесть дней опередил английский запрос. Правда, чтобы придать русской депеше видимость ответа, ее поместили в Синей книге после английской депеши. Разумеется, ни та, ни другая депеши не содержат ссылок друг на друга; обе составлены в одинаково сильных выраже ниях. В одной Россия требует Англию к ответу за ее позицию, создающую угрозу в Центральной Азии. В другой Англия обвиняет Россию в постоянных происках в Персии. Ни Россия
260
К. МАРКС
никак не ответила англичанам, ни Англия — на русскую ноту, но, напротив, оба правительства восприняли взаимное поно шение как в высшей степени удовлетворительное объяснение. Есть ли надобность в других доказательствах, что дуэль между Пальмерстоном и Нессельроде была лишь притворством и что их ноты были взаимно согласованы с целью дать какой-то повод для вторжения в Кабул? В то самое время, когда бушевала (была предпринята) афганская война под предлогом противодействия русскому влиянию, Пальмерстон открыто вступил в коалицию с Россией против Франции зм.
Наброски составлены Я. Марксом Печатается по рукописи
в январе 1857 г. „
IJepeeoö с английского
Публикуется впервые
[ 261
К. МАРКС
БРОШЮРЫ Б. БАУЭРА О КОЛЛИЗИИ С РОССИЕЙ 345
а) РОССИЯ И АНГЛИЯ. 1854
Брошюры эти претендуют, в частности, на пророчество, на то, чтобы путем критического изучения состояния европейских государств, их взаимоотношений и вытекающей из них современной истории приподнять завесу судьбы. Метод решения этой задачи свидетельствует об известной ловкости. Так как осведомленность Критики 34в и ее дар предвидения должны быть проверены современной историей, то проще всего, по- видимому, сравнить выводы Критики с фактами современной истории, сопоставить первые со вторыми и таким образом убедиться либо в обоснованности притязаний Критики, либо в ее заносчивости. Например , в указанной выше брошюре мы читаем :
ч -La pratique constitutionnelle a gagné infiniment de terrain; et la résistance passive des assemblées nationales, issues de la révolution de l'année 1848, a pris de plus grandes proportions. Toute l'Europe s'est partagé, en ce moment, les différents rôles du drame constitutionnel: l'Occident s'est chargé du rôle de l'opposition honnête; la Russie représente le gouvernement, armé de la force et usant de son autorité» *. («Европа разделена ролями в конституционной драме: Запад взял на себя роль честной оппозиции, России досталась роль правительства, вооруженного силой и осуществляющего свою власть».)
Мы не хотим останавливаться на неправильности оборота, смешивающего прибавлением «и» «конституционную практику»
* «Конституционная практика значительно «расширилась, и пассивное сопротив ление национальных собраний, порожденных революцией 1648 г., приняло самые большие размеры, Вся Европа в этот момент разделена различными ролями в конститу ционной драме: Запад взял на себя роль честной оппозиции: Россия представляет правительство, вооруженное силой и осуществляющее свою власть» {В, Bauer. «Ьэ Russie et l'Angleterre», p. Щ, fed,
262
К. МАРКС
с «пассивным сопротивлением» «неконституционных» собраний 1848 г. и т. д. Из всех таких собраний это могло бы быть верно только по отношению к «Assemblée législative» *. Но возьмем фразу так, как она есть. Западная Европа, assemblée législative, ограничивается пассивным сопротивлением, а Россия, «прави тельство, вооруженное силой», «осуществляет свою властъь посредством coup d'état ** подобно тому, как это делали Бонапарт, Франц-Иосиф и Фридрих-Вильгельм IV. Таково было представление Критики о положении вещей в апреле — понимание недавнего прошлого, вместе с тем являвшееся пред сказанием ближайшего будущего. Последующие недели опровергли и это представление, и это предсказание, они пока зали, что критика легкомысленно поспешила превратить мимолетную гримасу *** в застывшее выражение. Не только западные державы отказываются от «пассивного сопротивления» и переходят к агрессивным действиям, но, прежде чем они стали так поступать, Россия своими дунайскими походами доказала, что она не «вооружена» силой, более того, ее оружие бессильно [ungewaltig] и что вместо «осуществления своей власти» она поспешно осуществляет отступление347. От проводимой им аналогии правительств, октроирующих и производящих coup d'état, с собраниями 1848 г. и т. д. ничего не осталось. Итак, предсказание Критики оказалось неверным? Итак, ее понимание обстановки иллюзорно? Ничуть не бывало. После того как наступили неприятные события, которые свели на нет выводы критического памфлета «а)», Бруно Бауэр без застенчиво начинает брошюру «Ь)>> («Теперешняя позиция Россит, 1854) следующей дипломатической сентенцией:
«Это (вышеприведенное) утверждение ш, высказанное нами еще (1) в апреле, нашло полное осуществление в повороте, который приняли со бытия под стенами Силистрии: Европа разыгрывает действительно и совершенно конституционную по своему характеру драму; правительство сравнялось с оппозицией, оно также проявило себя как конституцион ное — или совсем не прибегало к насилию, или применяло его лишь в форме, не рассчитанной на развязку».
Двусмысленный характер удовлетворения, которое принес критике «поворот событий», обнаруживается в особом «пово роте» утверждения в данной фразе. «Высказанное еще в апреле». Отказывается ли Критика от своего высказанного в апреле утверждения после того, как русские в марте отступили
* — «Законодательному собранию». Далее в рукописи зачеркнуто; «а иочему wo неверно по отношению к нему, здесь не рассматривается». Ред. •* — государственного переворота. Ред. »*• Далее в рукоииси зачеркнуто; «во всеобщую категорию». Fed ,
БРОШЮРЫ Б. БАУЭРА О КОЛЛИЗИИ С РОССИЕЙ 263
от Силистрии? Ничуть не бывало. Итак, «Еще» должно было бы обозначать «Уже». Наше высказанное «уже» в апреле, до наступ ления события, утверждение подтвердилось в марте. Но оно скорее не подтвердилось. Итак, не «уже», а «еще» с добавле нием, благодаря которому эта фраза становится грамматически невозможной. «Мнение, которого я придерживался еще в апреле, осуществилось в марте». Но Критика не говорит, что ее «высказанное еще в апреле утверждение» уже в марте «получило свое подтверждение». Никоим образом. Новый «поворот событий» придал скорее и ее утверждению новый «поворот», о котором в апреле «еще» и не подозревали. Последующие события не «подтвердили» утверждение Критики, хотя и оно «нашло полное осуществление». Very well *. Это проливает новый свет на отно шение событий к Критике. Если события не оправдывают на практике утверждений Критики, то они, по крайней мере, способствуют дальнейшему «осуществлению» этого утверждения и обнаруживают скрытое достоинство Критики, о котором она сама до сих пор не подозревала. Не только Критика относится теоретически к событиям, но и события также практически относятся к Критике. А как же обстоит теперь дело с «полным осуществлением», которое апрельское утверждение «получило» благодаря мартовским событиям?
«Европа разыгрывает действительно и совершенно конституционную по своему характеру драму!»
Действительно и совершенно! Разве слово «совершенно» придает новое определение слову «действительно»? Оно ослабляет и опошляет его. Этим все исчерпывается. Но этот тяжеловесный стиль, это выражение «действительно и совершенно», как и прежнее злополучное «еще», свидетельствует лишь о той же жалкой беспомощности. В апрельском утверждении, во-первых, «пассивное сопротивление» национальных собраний 1848 и следующих годов неправильно отождествлялось с «конституционной практикой» и, во-вторых, восточная колли зия была превращена в «конституционную» драму, в которой западные державы сравнивались ввиду их «пассивного сопротивления» с национальными собраниями 1848 и следующих годов, а Россия — с правительствами, совершающими coup d'état. В действительности же это отнюдь не было конституционной драмой, так как конституционный образ действий имел место лишь со стороны национальных собраний, а пра вительства занимались только уничтожением конституций.
• — вчевь хорошо. Ред,
264
К. МАРКС
Теперь же, после того как Россия получила взбучку, вооруженная агрессия отражена силой оружия и она начала «вести переговоры», теперь драма, которая прежде была конституционной лишь «не по-настоящему», стала «по-настоящему» и «совершенно конституционной». Но с того момента, как правительство становится «конституционным», как например в Англии или в Бельгии, или во Франции Луи-Филиппа, оно перестает походить на национальные собрания 1848 и следующих годов и на противостоящие им правительства. Но мало того! Когда Россия начала «вести переговоры» и поэтому, по Бруно Бауэру, стала играть роль «конституционного правительства», тогда, с другой стороны, западные державы перестали оказывать «пассивное сопротивление» и перешли к активным военным действиям, к вторжению. Если прежде слово «конституционный» не подходило к России, то теперь оно больше не подходит к западным державам. И это, считает Критика, «полное осуществление» ее апрельского утверждения! Но таким образом все же с одной стороны остается «осуществление» выражения «конституционный», которое находилось в апрельском утверждении. Очевидно, что пророчества Критики столь же двусмысленны, как изречения древних оракулов. Если ее утверждения, по-видимому, опровергаются событиями, то * — это одна лишь видимость. Как только наступает прямо противоположное, то оказывается, что первоначальное утверж дение Критики скорее означает его собственную «противоположность», а события лишь выявляют его диалектический характер. Посредством такого рода диалектики, которая исполнение предсказания доказывает наступлением противоположного, пророчества Критики при всех обстоятельствах оказываются неуязвимыми. Уркарт придерживается другого метода. Если его предсказания оправдываются, то их справедливость подтверждается их исполнением. Если же они не сбываются, то само пророчество воспрепятствовало их осуществлению. В первом случае воплотилась теоретическая истина, в последнем — практическая цель пророчества.
Критика упрекает ежедневную печать в том, что она слишком отдается интересам данной минуты. Критика же, напро тив, воспринимает данную минуту лишь в связи с целым, то есть в общей форме. В действительности же оказывается, что если события дня практически господствуют над ежедневной печатью, то Критика терпит такой же провал в области теории. Отдель-
* Далее у Маркса зачеркнуто: «эти утверждения подтверждаются лишь постольку, поскольку теперь получают новый, совсем другой смысл и значение», JVÔ,
БРОШЮРЫ В." БАУЭРА О КОЛЛИЗИИ С РОССИЕЙ 265
ное событие отдельного дня фиксируется ею и становится воплощением общего утверждения, которое лишается даже видимости истинности каждым следующим поворотом событий. (Подобным же образом поступал Прудон. Когда в 1850 г. (?) металлический запас банка увеличился больше чем на 20 миллионов фунтов стерлингов, а учет понизился на 2г1ъ% (?), то это событие тотчас стало означать осуществление новой фазы в истории гражданского общества, наступила эра Banque du peuple *. Для Прудона в Париже это событие было ново, совершенно ново, потому что его кругозор ограничивался южным берегом Ла-Манша.) В то время как «эпоха» России еще в апреле становится выражением некой новой всемирно-исторической фазы в брошюре «а)», действия России в марте в брошюре «Ь)» уже внушают критике малодушный вопрос:
«Началась ли и в России эпоха Запада? Можно ли и ее уже причислять к Западу и т. д.?» («Теперешняя позиция России», стр. 18).
Так как выдвинутое Критикой «еще» в апреле утверждение о конституционной драме, в которой Россия взяла на себя роль правительства, действующего силой, а западные державы — роль пассивного сопротивления, честной оппозиции, составляет гвоздь брошюры «а» и так как уже в марте события притупили его острие, то тем самым на деле роль Критики в сущности «совершенно» этим исчерпывается. Но перейдем к частным вопросам.
И во-первых, о так называемых исторических иллюстра циях. Между прочим, проводится параллель между событиями, подготовившими французскую революцию 1789 г., и событиями, которые в настоящее время будто бы подготавливают революцию в Англии. Тюрго видел в «свободе торговли хлебом» разрешение всех вопросов (стр. 72). Так было и в Англии во времена Лиги против хлебных законов 360. Можно ли навязать аналогию между несоизмеримыми вещами? Франция была прежде всего земледельческой страной, а Англия — промышленной. Поэтому свобода торговли хлебом имела совершенно различное значение в обеих странах. Во Франции — «fait précis» и «positif» **: «финансовый дефицит и банкротство» (стр. 72). А в Англии? Разве же в Англии в результате финансового излишка и удвоения ввоза и вывоза война 351 создала затруднения для правительства? И это аналогия? Разве не так:
«точно так же в Англии моральный и политический дефицит».
• — Народного банка *". Ред.
* * — «установленный и достоверный факт». Перед этими словами в рукописи зачеркнуто: «достоверный факт, предшествовавший французской революции». Ред.
266
К. МАРКС
Какая аналогия! С одной стороны, «установленный и достоверный факт», с другой — субъективное суждение Критики о некой ситуации. Аналогия заключается в слове дефицит. X умер, потому что сломал себе ногу. Пророческая аналогия: Y умрет, потому что нарушает свое слово *. Установленный и достоверный факт финансового дефицита и государственного банкротства предшествовал французской революции. Моральный и политический дефицит при Людовике XV и даже раньше него предшествовал финансовому дефициту и государственному банкротству, Во Франции реформы, предложенные правительством нотаблям и парламентам, казались ничтожными по сравнению с предчувствием революции. Так, мол, и в Англии никто не интересуется биллем Рассела о реформе (стр. 73). Какая аналогия! В предложениях французского правительства речь шла о разрыве с прошлым французской монархии, в предложениях Рассела 1831 г. — о кабинетской интриге; там — о разрыве с многовековым прошлым, здесь — о последствиях мер, после принятия которых не прошло и трех десятилетий; там буржуазия не интересовалась предложениями правительства, потому что они были несоизмеримы с революцией, которая ей была нужна, здесь, несмотря на свой собственный интерес к мелочным уловкам вигов, ей не удается заинтересовать народные массы,, которые разочаровались в виговских реформах не со вчерашнего дня, а со времени провозглашения билля о реформе 352. А далее аналогия проводится между Нек- кером и Пальмерстоном! В угоду Критике Пальмерстон теряет «мужество и энергию», он «проникается своей миссией» и считает себя «последним спасителем своей страны». Даже аналогия между Робеспьером и Расселом не могла бы быть более абсурдной. После этого совсем уж не приходится удивляться, когда queen Victoria ** превращается в reine Antoinette ***.
Мы вовсе не отрицаем того, что Англия стоит на пороге больших коллизий. Мы только не согласны с тем, что в представленных «исторических иллюстрациях» проявляется хотя бы самое отдаленное понимание сущности этих конфликтов. Самое низкопробное политиканство несравненно выше этого пустого глубокомыслия.
Чтобы доказать ошибку англичан, полагающих, что в их кабинете есть «influence étrangère»****, Бруно Бауэр указы-
* Игра слов : «X starb, well er ein Bein brach... Y wird sterben, weil er sein Wort bricht». По-немецки глагол «brechen» значит «сломать», а также «нарушить 1слово]». Ред.
" — королева Виктория. Ред. *** — королеву Антуанетту (Марию-Антуанетту). Ред. • » » » — иностранное влияние 8,я. Ред.
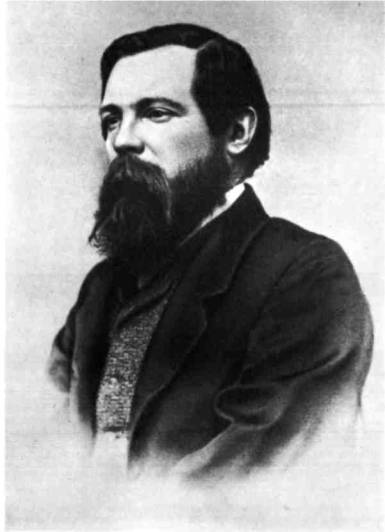
Ф. Энгельс (1856)
БРОШЮРЫ В. БАУЭРА О КОЛЛИЗИИ С РОССИЕЙ 267
вает на Фокса, который открыл Россию в качестве покровителя и гаранта мира в Европе. Он приводит при этом одно место из речи Фокса от 24 мая 1803 года. Он должен был бы пойти еще дальше и упомянуть о «тайной» миссии, возложенной Фоксом на Адера в 1790 г.364 по поводу предстоявшего второго раздела Польши. А что доказывает «тайная» и противозаконная связь Фокса с Екатериной II ЗБ5 ? То, что Пальмерстон не состоял в тайной и противозаконной связи с Николаем *. Впрочем, Фоксу не нужно было делать открытия относительно России. При Вильгельме III оно уже было сделано маркизом Кармартеном, а при Георге I — стоявшими тогда у власти вигами. Дипломатические документы свидетельствуют о том, что с тех пор влияние России на министерство вигов стало традиционным. И именно поэтому Пальмерстон должен был покончить с традицией вигов? А почему же бы ему, напротив, не довести ее до полного «осуществления» и не продаться России со всеми потрохами? Утверждение, что Фокс открыл англо-француз ский союз, так же неверно, как и эта «защита» Пальмерстона. Станхоп сделал это открытие уже сразу после Утрехтского мира 36в.
Для доказательства плодотворного влияния России говорится, что занятая ею позиция повлекла за собой «.décadence de l'antagonisme anglo-français» ** или же создание «alliance anglo-française» ***. Англо-французский союз существовал уже в 1717 г., именно его несколько лет спустя Георг I пытался превратить в европейский союз против России. Четверной союз 1834 г.857 был вторым союзом Англии и Франции, направ ленным при этом, как полагают, также и против России. Таким обрааом, с этой стороны Россия не могла создать ничего нового и неслыханного. Но если один только союз между Францией и Англией должен считаться огромным успехом России, то как же расценивать союз Англии, России, Пруссии и Австрии против Франции Луи-Филиппа, коалицию 1840 года 344? Согласно конструкции Бруно Бауэра эта коалиция доказывает, что Франция Луи-Филиппа была еще опаснее николаевской России.
Согласно последующим открытиям Критики Англия, выдав своей войной против революционной Франции континент в руки России, — это открытие, по крайней мере, не имеет заслуги новизны — почувствовала потребность
* Далее у Маркса зачеркнуто: «Здесь, когда утрачивается историческая аналогия...». Рев.
*• — «ослабление англо-французского антагонизма». Так называется один иа разделов брошюры Б. Бауэра «La Russie et l'Angleterre» (p. 5). Ред, • «• _ «англо-французского союза» (р. 5). Ред.
10 M. в Э., т. 44
268
К . МАРКС
«de se charger elle-même de la tâche révolutionnaire de la France. C'est Canning qui a rempli ce vide. Il leva en Angleterre l'étendard de la révolu tion, pour en faire le véritable adversaire de la Russie» *.
В качестве доказательства приводится риторический оборот, который Каннинг заимствовал у Вергилия (quos ego: de dieu Eole ) **, как будто фраза «капитана из Итона» 368 является доказательством. Слова о «политике принципов» принимаются на веру, за чистую монету 35в. А они еще более фальшивы, чем прежние фразы о «политике интересов». Впрочем, о войне Питта 36° также повсюду протрубили как о «войне принципов», и значительная часть англичан этому поверила. Она отчасти и была таковой, потому что незадолго до французской революции и в ее начале власть олигархии находилась под угрозой внутренних волнений. Впрочем, фраза Каннинга была сперва направлена не против России, а против Франции. Интервенция в Португалии была ответом на интервенцию Франции в Испании, и эта «политика принципов» в своем реальном воплощении — признании независимости бывших испанских владений в Америке ш — оказалась поразительно точно связанной с английскими торговыми интересами. Так как Паль- мерстон фразой Каннинга прикрывает свою политику, вызванную совершенно другими мотивами, то Бруно Бауэр убежден, что фраза Каннинга об «intervention révolutionnaire» *** стала действительной политикой Англии и причинила ей много зла. При этом нам сообщают, что билль о реформе настолько изменил характер английской конституции,
«que les Anglais mêmes ne reconnaissent plus en quoi se distingue leur con stitution de celles du continent» (p. 9) ****.
Со времени Георга I английская конституция подверглась изменениям лишь в том, что: 1) изменилось распределение rotten boroughs ***** в пользу вигов, одной из фракций аристо кратии, 2) промышленная буржуазия в 1831 г. в такой же степени усилила свое парламентское влияние, в какой это сделала финансовая буржуазия посредством glorious revolu tion ****** 1689 года. Бруно Бауэр сделал также открытие, что
* — «взять на себя революционное дело Франции. И именно Каннинг заполнил пустоту. Он поднял в Англии знамя революции, чтобы сделать ее настоящим противником России» (В. Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 7). Ред .
" — « Я вас : бог Эол ». Этим грозным окриком Нептун утихомиривает разбушевавшиеся ветры Эола (Вергилий. «Энеида», книга I , строка 135). Ред. *** — «революционной интервенции» (р. 8). Ред. •*** — «что сами англичане не распознают более, чем отличается их конституция от конституций континента». Ред. ,,,,, — гнилых местечек *". Ред. ..»««» — славной революции. Ред.
БРОШЮРЫ В. БАУЭРА О КОЛЛИЗИИ С РОССИЕЙ 269
«l'abrogation des lois des céréales, comme la proclamation du principe de la liberté du commerce renferment l'aveu que sa suprématie (английской промышленности ) est perdue» *.
Эти факты доказывают, наоборот: 1) что интересы промышленной буржуазии одержали победу над интересами земельного дворянства и 2) что английская промышленность не нуждается больше ни в какой другой монополии, кроме монополии своего собственного капитала, что лишь теперь она может с уверенностью полагаться на свое действительное превосходство. Англия теперь, в начале войны, еще не
«assez dégradée» «pour supporter l'idée offensante d'une alliance avec sa rivale» (p. 10) **.
Англия современной промышленной буржуазии не может же, конечно, не унижая*** себя, заключать союзы, которые противоречили бы интересам и предрассудкам прежде господствовавшего класса. Англия всегда остается «все той же» моральной личностью. Глубокое унижение, которое испытала здесь Англия, доказывается фразой:
«Les peuples ne sauraient oublier leur passé qu'en renonçant à l'ave nir» ****.
Как будто постоянное «уничтожение» прошлого не является «созиданием» будущего.
Таким образом, будущее питтовской Англии отождествляет ся с будущим Англии. Как только «народ» побеждает господствовавший прежде класс и тем самым порывает с созданным этим классом политическим прошлым *****, он уничтожает свое будущее.
По мнению Бруно Бауэра, национальная обособленность Англии выражается в ненависти к Франции и vice versa ******. Эту «национальную обособленность» Англии — более ранние феодальные войны между Францией и Англией имели, конечно, совершенно другой смысл — создала лишь « glorious revolu tion», и поэтому она «неискоренима». Какое глубокомыслие!
* — «отмена хлебных законов, как и провозглашение принципа свободной торговли, свидетельствуют о признании того, что ее превосходство (английской промышленности) утрачено». (В. Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 9). Ред.
" — «настолько деградировала», «чтобы примириться с оскорбительной мыслью о союзе со своей соперницей». Ред.
• • * Маркс употребляет здесь немецкий глагол «degradieren» в значении французского «dégrader» («унижать», «позорить», а также «деградировать»). Ред.
• •«• — «Народы, видимо, могут забыть свое прошлое, лишь отказавшись от будущего» (В. Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 11). Ред.
• ••*• Далее у Маркса зачеркнуто: «он должен естественно перестать существовать в качестве народа». Ред. .»».». — наоборот. Ред*
10*
270
К. МАРКС
Национальная обособленность России проявляется в заклю чении союзов то с Францией против Англии, то с Англией против Франции... Но Англия и Франция не могут объединиться против России, не отказавшись от «будущего». В сущности Бруно Бауэр хочет доказать, что, за исключением России, национальные особенности европейских государств исчезают, Франция и Англия, олицетворяя «Запад», борются против России. Тем самым они утрачивают свою национальную обособленность. Но разве Россия, Англия, Австрия, Пруссия, Неаполь, Испания не боролись против Франции, олицетворяя собой Европу? И разве они этим не воссоздали вновь свои национальные особенности? Гражданское общество, конечно, не интересует критику. Английское, французское общества претерпевают различные политические превращения. Когда сбрасывается одна из оболочек, то критика ясно понимает, что для этого общества наступает гибель. Что же теперь доказывает, например, наполненная пустой политической болтовней глава о «calculs» и «arrière-pensées des alliés» *, как не то, что эти общества все еще борются с политическими традициями, принадлежавшими одной из предшествующих стадий развития, и что они еще не овладели той политической формой, которая соответствует потребностям новой стадии развития! А кто поручится ему, что этот союз, как бы ни был он жалок, не является средством для достижения данной, более высокой формы? То, что общество с современным способом производства нуждается в других международных отношениях, чем феодальное, есть тавтология.
Кто говорит ему , что Россия
«a formé le plan de consolider son influence sur la Turquie, sans l'aide d'un allié» **.
Не искала ли она для последней войны поочередно союза с Францией, Англией, Австрией и не сохраняла ли она всегда союз с Пруссией? И каковы бы ни были взгляды и-намерения французского и английского народов, кто поручится ему, что Россия не была постоянно уверена в тайном союзе с английским правительством, полагая, что это гарантирует ее дерзость?
Достойный Бруно Бауэр верит России, что выдвинутый ею предлог —
«cause des populations gréco-slaves de la Turquie» *** (p. il) —
* — «корыстных побуждениях» и «задних мыслях союзников». Название одной из глав брошюры Б. Бауэра «La Russie et l'Angleterre» (p. 13). Ред.
" — «выработала план упрочения своего влияния на Турцию без помощи какого-либо союзника» (В. Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 12). Ред. **♦ — «дело греко-славянских народностей Турции». Ред,
БРОШЮРЫ В. БАУЭРА О КОЛЛИЗИИ С РОССИЕЙ
271
был ее действительным мотивом. И в Израиле не нашел я такой веры! *
Значительная часть брошюры посвящена описанию уловок английского правительства (а также французского) и их уступок России. И в самом деле, не по вине английского правительства Россия не осуществила своих замыслов в Турции. Что же это доказывает? Что правительства Англии и Франции, особенно первое, были вынуждены действовать под давле нием масс? Нет, [это доказывает лишь то], что Англия сознает «свою слабость» и что правительство и общество, если даже они фактически разделены, теоретически подлежат отождествлению.
Demandes** России! Действительная цель русского правительства заключалась в том, чтобы подменить самоуправление, существующее в большей или меньшей степени у славянских и греческих народностей 863, управлением русских консулов. Критика, разумеется, доверчиво принимает декламации России за ее действительные мотивы, чтобы в одной из более поздних брошюр 8М с раздражением констатировать, что русское правительство теперь отказывается от своего false pretences ***. Бруно Бауэр упрекает газеты в незнании недавней турецкой истории. Однако он доказывает собственное невежество, не замечая повторных попыток русских (например, в Сербии, Греции) подорвать самоуправление общин. То, что Россия ста рается сохранить, — это теократическая власть греческих попов под суверенитетом Турции, власть, которая сковывает и душит всякое самостоятельное гражданское развитие греко-славянских общин. Ученость критики с блеском обнаруживается в особенности в
«gages que la Russie possède dans sa participation à l'oeuvre de l'organisation en Servie» **** и в ее «règlement organique» *****,
который она через Киселева дала Дунайским княжествам 365! C'est par trop fort ******. Южные славяне, по мнению Бруно Бауэра, должны стать русскими: во-первых, «en vertu de la nature des choses»*******, ссылка на эту абстракцию — весьма
• — Евангелие от Матфея, 8, 10. Ред. * * — Требования (« Требования России» — название одного из разделов брошюры «La Russie et l'Angleterre», p. 28). Ред. •** — притворства. Ред. *•*• — «гарантиях, которыми обладает Россия, участвуя в деле организации Сербии» (В. Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 33). Ред. **•,• — «органическом регламенте». Ред.
...... _ jjjg yj^ слишком. pea.
....... _ <<в силу природы вещей» (В. Bauer. aLa Russie et l' Angleterre»,
p. 34). fed.
272
К. МАРКС
убедительный довод; эатем не только в силу «nature des choses», но и в результате «de l'histoire» *, которая в Сербии доказывает как раз противоположное; наконец, в силу «position géographique» **, при котором мадьяры и румыны отсекают их от России. И какой диапазон! G высоты «nature des choses» он нисходит к «l'histoire», a от этой абстракции к частности «position géographique».
Австрия, доказывает он, должна ограничиться ролью посредника. Это утверждение, которое было верно «еще» в апреле, стало «ошибочным» уже в июне, несмотря на абсолютные и вытекающие из природы вещей доводы Критики. Он доказывает, что Австрия не «pourra ranger du côté des alliés»***. Проверим снова это утверждение. В своих вымученных исто рических рассуждениях о прежних отношениях между Авст рией и Англией он чисто по-русски извращает историю. Ссылаясь на Адрианопольский договор, он остерегается давать действительную историю. Что русская армия была бы уничтожена и никогда не возвратилась бы из Адрианополя даже в том ничтожном количестве, в котором ей удалось, если бы Англия не вырвала у Порты этого договора своими мистификациями. Так же неверно Бауэр передает содержание депеши Ливена. Не «traité de paix» ****, как это утверждает он, составлял ближай шую причину perplexité ***** Абердина и Веллингтона, а блокада Эноса 8в6, от которой русские также отказались из опасения вызвать оппозицию со стороны Веллингтона. Между прочим , Ливен говорит !
«that the Duke of Wellington and Lord Aberdeen have put everything in motion to extort from us confidences as to the conditions of our future peace with the Turks» ******.
Тот же Ливен нисколько не
опровергает этого хвастливой
фразой, которую приводит Бауэр из его
депеши 8в7, а продол
жает!
.
«It appeared to us useful to repeat the assurances which on this point all the declarations of the Emperor contained, aod even to add some deve lopments to them. We shall confine ourselves to these generalities, for every circumstantial communication on a subject so delicate would draw down real dangers, and it' once we discuss with our allies the articles of a
|
« • * ** » * ** * » * |
— «истории» (р. 34). Рев.
— «географического положения» (р. 33). Ред.
— «будет иметь возможности стать на сторону союзников» (р. 36). Ред.
— « мирный договор » ( В . Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 39). Ред.
— нерешительности. Ред.
— «что герцог Веллингтон и лорд Абердин пустили в ход все, чтобы вы ведать у нас конфиденциальные ceeôemw об условиях нашего будущего мира с турками», Ред.
БРОШЮРЫ В. ВАУЭРА О КОЛЛИЗИИ С РОССИЕЙ
273
Treaty with the Porte, we shall only content them, when they would have believed that they had imposed upon us irreparable sacrifices» *.
И только затем следует та хвастливая фраза, которая в связи с этими грубыми ухищрениями потеряла бы свой героический характер, что не входило в планы Критики. Затем упоминаются все плутни Пама **, чгобы доказать, что он чувствовал «слабость Англии» и что эта слабость в самом деле существует. Более того, они выдают тайну «силы» России по отношению к Англии. При этом Бауэр идет на фальсификацию, например, в истории с «Виксеном». По его словам выходит, что достаточно было России
«à lui rappeler que ce forfait inoui avait été commis dans la mer Noire, près de la côte de la Circassie» ***.
В другом месте я показал, к каким сложным маневрам прибегали Пам и Нессельроде в данном случае 368.
В разделе об Австрии мы узнаем также, что в 1848—1849 гг.
«toute l'Allemagne réduite à la passivité par les illusions du principe national, aurait taxé de crime politique chaque tentative d'intervenir dans cette lutte des nationalités» ****.
«Как будто бы» франкфуртское Национальное собрание не выступило против Италии, а также против Польшизв9! Совершенно излишне говорить еще что-нибудь об этой брошюре, кроме только того, что Критика считала дунайский поход Омер-паши газетной уткой.
Написано К. Марксом в январе 1857 », Печатается по рукописи
Впервые опубликовано на русстиш языке Перевод о немецкого
в журнале «Летописи марксизма», т. VI , 1928
* — «Нам казалось полезным повторить уверения, которые содержались по этому пункту во всех декларациях императора, и даже несколько дополнить их. Мы ограничимся этими общими заверениями, так как всякое подробное сообщение по такому деликатному вопросу может повлечь за собой действительные опасности., и если мы хоть раз начнем обсуждать с нашими союзниками статьи договора с Портой, мы удовлетворим их лишь тогда, когда они вообразят, что заставили нас пойти на невознаградимые жертвы». Ред. •* — Пальмерстона. Ред.
*•* — «напомнить ему Шальмерстону], что это неслыханное преступление было совершено в Черном море, близ черкесского побережья» (В. Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 42). Ред.
•••• — «вся Германия, доведенная до состояния пассивности неправильным пониманием национального принципа, сочла бы политическим преступлением любую попытку вмешательства в эту борьбу национальностей» (р, 43), Ред.
274 ]
К. МАРКС
* О ВОСТОЧНОМ ВОПРОСЕ
(набросок) 37°
Таким образом, мы вновь пришли к тому же заключению, которое было сделано нами в начале данной войны 371. Если Европа сохранит теперешнее устройство, то все проблемы, составляющие так называемый восточный вопрос, с необходи мостью будут решены в духе России, если же они будут отожде ствлены с делом общеевропейской революции, то они должны будут получить всецело новый аспект. Существует возможность искусственно поддерживать современное status quo *, основанное на мнимой независимости и неприкосновенности Турецкой империи. При этом положении вещей можно лишь временно уклониться от затруднений и создать видимость решения.
НЬписано К, Марксом в марте 1 S 57 г. Печатается по рукописи
Перевод о английского Публикуется впервые
* — существующее положение. Рев.
[ 275
К. МАРКС
* ЗАМЕТКИ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ (XV-XVIII вв.) 3 ™
I ) Швейцария благодаря созданному в 1315 г. Швейцарскому союзу в конце XV столетия становится союзником, которому принадлежит решающая роль в войнах ее соседей.
Как в средние века вассалы, так в XV в. иностранные государства должны были брать на себя гарантии при заключении мирных договоров. Политика завладела прежде всего западными и южными дворами, умножила число союзов и вызвала к жизни постоянные посольства.
1477— ISIS гг. Нидерланды и Италия — яблоко раздора между Францией, Австрией и Испанией. В 1477 г. после смерти Карла Смелого [борьба] за Бургундское наследство. Людовик XI овладевает частью его владений37Э. Максимилиан (австрийский) * женится на Марии — наследнице Карла Смелого. Притязания Франции на Неаполь и Милан. Сын Максимилиана Филипп ** женится на Хуане, наследнице испанской монархии.
В 1494 г. — Карл VIII в Италии. Против него Ligue du bien public *** (папа ****, Максимилиан, Испания, герцог Миланский *****) 874. (С 1416 г. — герцог Савойи.) Людовик XII в 1498 г. [вступает] в тайный сговор с Фердинандом Католиком. Уступает ему свои права на Неаполь (1506 г.) 3'6: за это по лучает (от Империи) поддержку в Милане. В 1506 г. Людовик XII добивается [создания] Священной лиги вместе с папой ******,
|
* • * • • ** * • ***** |
Максимилиан I . Ред. Филипп I Красивый. Ред. Лига общественного блага. Ред. Александр VI Борджа. Ред. Лодовико Моро. Ред. Юлией II . Ред.
276
К. И А Р К С
Венецией и другими итальянскими государствами против Максимилиана 37в. Однако после победы французов под Гьяр- дадда в 1509 г. папа во главе Священной лиги против Франции (Людовика XII) (с участием и Генриха VII английского; Генрих VIII выходит из Лиги 3"). Людовик XII , собственным владениям которого угрожает Швейцария, в 1513 г. [заключает] мир с Фердинандом Католиком в Блуа.
Что касается Италии, то ирония всего этого периода состоит в том, что Франция (Людовик XII) утвердилась в Милане, Фердинанд Католик (Арагонский) — в Неаполе, однако результатом Священной лиги явилось изгнание Франции из Италии; Фердинанд (Католик) удерживает Неаполь и порты Апулии; папа подчиняет города в Ромапье. В 1512 г. (с помощью швейцарцев) Милан возвращается в руки Массимильяно Сфорца; Медичи возвращаются во Флоренцию (31 августа 1512 г.). В течение этого периода (1494—1515 гг.) хорошая пехота — только у швейцарцев. Таким образом, многократные победы и вторжения французов (при Карле VIII и Людовике XII ) в Италию оказались безрезультатными...
II ) 1515—1559 гг. В 1515 г. Франциск I завоевывает Милан (его вечный мир со швейцарцами в 1516 г.). Карл I в 1519 г. становится германским императором Карлом V .
Четыре итальянские войны:
1521—1526 гг. Франческо Сфорца вновь посажен в Милане; Франциск I французский взят в плен при Павии (1525 г.) (Лига против Франциска I );
1526—1529 гг. Вторая священная лига против Франциска I 378. Он признает герцога Франческо II в качестве герцога Миланского, а также свободу Генуи. Франциск I сохраняет Бургундию. Отказывается от ленных прав на Фландрию и Артуа.
1536—1538 гг. Смерть миланского герцога Франческо, не оставил наследников. Франциск I требует, чтобы Милан был отдан его второму сыну Генриху в качестве лена. Война с Карлом V . Десятилетнее перемирие, во время которого Франциск I остается хозяином Савойи: Женева добивается независимости.
1541 —1546 гг. Карл отдает Милан в ленное владение своему собственному сыну Филиппу. Франция остается за пределами Италии. Она утрачивает Булонь в пользу Англии.
Немецкая религиозная война. Во второй немецкой религиозной войне Генрих II (Франция) захватывает в 1552 г. Мец, Тулъ и Верден. Согласно мирному договору, заключенному с Испанией в Kamo-Камбрези (З апреля 1559 г.), Франция должна вернуть 195 владений частично Испании в Нидерландах и Италии, а частично Савойе 3?9.
заметки по европейской истории ( XV— xviii ия.) 277
Отпадение Нидерландов. В 1572 г. разразилась революция в северных провинциях. Последние образовали в 1579 г. в Утрехте самостоятельный союз. В 1581 г. начинается 70-летняя борьба 380. 1584 г. — Республика Соединенных провинций. В конце XVI в. ее свобода уже обеспечена. В договоре о перемирии 3 апреля 1609 г. Испания рассматривает Соединенные провинции уже фактически как независимое государство.
1592 г.* Образование Генеральных штатов 881. Такой торговой державы, такой морской державы, как республика Голландия, Европа еще не знала. 1556—1618 гг. Ост-Индские владения португальцев попадают в руки голландцев; последние прибирают мировую торговлю к рукам.
III) 1608—1648 гг. Германия — центр европейской политики. С 1621 г. возобновляется голландско-испанская война. Конец франко-испанской войне был положен не Вестфальским, а только Пиренейским миром 7 ноября 1659 г.882
С 1624 г. — кабинет Ришелье. В Италии Франция и Савойя — против Испании и Генуи 883.
В 1634 г. Швеция и ее союзники уступают Франции свои завоевания в Эльзасе.
Мир в Мюнстере 884. 1645 г. — прежде всего между Испанией и Республикой Соединенных провинций.
Швеция получила большую часть Померании, Бремен, Верден** и т. п. Франция — полный суверенитет над Мецем, Тулем и Верденом*** с округой, Брейзахом и те права, которые Австрия имела в Эльзасе.
1520—1559 гг. Война между Франциском I и Карлом V 385.
Вестфальский мир (1648 г.) (Мюнстерский и Оснабрюкский мир).
«Что касается Франции.., император **** уступил ей Верхний и Нижний Эльзас, Брейзах (город), три епископства — Мец, Туль, Верден; право держать гарнизон в Филипсбурге. Швеция [получила] Померанию и т. д. и была объявлена членом Германской империи с правом участия в имперском сейме.
Вранденбург, Мекленбург, Ганновер, Гессен... компенсированы главным образом за счет церковной собственности.
Австрия в Италии утвердила свое господство над Миланом и Тоска ной. Признана независимость Швейцарии, а также независимость Голландии, фактически уже существовавшая после сепаратного мира, заключенного между ней и Испанией 38в.
* Так в рукописи Маркса. Ред. * * — епископство на Везере. Ред.
* • * — епископство на Маасе. Ред.
• •» _ Фердинанд III. Ред.
278
К. МАРКС
Религиозные распри и разногласия... все были урегулированы на основе мирных договоров в Пассау и Аугсбурге (1552 и 1556 гг.)».
Богемия... совсем забыта: даже амнистия не оговорена 887. Закреплено федеральное устройство Германии (антиунитарное). На деле — это договор о расчленении Германии.
1648 —1660 гг. Франко-испанская война. Пиренейский мир.
1660 —1697 гг. Войны Людовика XIV . Рисвикский мир 388 .
1697 —1715 гг. Война за Испанское наследство. Утрехтский мир 389.
Помимо выгод, полученных Англией в результате Утрехтского мира (Гудзонов залив, Ньюфаундленд, Новая Шотлапдия, Порт-Ройял, соглашение об «асьенто» и т. п...), Савойя простым прибавлением к ней Сицилии была превращена в королевство, в то время как Австрия получила во владение Неаполь, Милан, Тоскану, что послужило увековечению закабаления Италии. Испанские Нидерланды были переданы Австрии зв0.
1715—1740 гг.
Венский мир, октябрь 1735 г. «Август III Саксонский должен стать королем Польши; Станиславу Лещинскому — герцогства Лотарингия и Бар, подлежащие после его смерти возвращению Франции; герцогу Лотарингскому * надлежит получить Тоскану. Дон Карлос ** (испанский) останется обладателем Неаполя, Сицилии и австрийского побережья Тосканы. Сардинии следует получить Новару, Тортону и некоторые другие земли Милана. Парма и Пьяченца должны быть отданы императору».
По этому договору между Австрией и Францией (Флёри),
«к которому вскоре присоединились Испания, морские державы и Россия, Франция гарантировала Прагматическую санкциюш, которая защищала будущую наследницу Австрийской империи ***... от каких-либо посягательств в будущем».
1740—1763 гг. Война за австрийское наследство. Семилетняя война ш.
Все сговариваются, кроме России и Англии в 1741 г., против Габсбургов. По плану Беллиля (придворного Людовика XV )
Сардиния должна была получить Милан; Испания — герцогство Тосканское; курфюрст Баварский **** — имперскую корону; Венгрия и Богемия — стать независимыми; Марию-Терезию предполагалось свести до уровня мелкого немецкого суверена.
В Семилетней войне Англия и Пруссия объединились против Франции и Австрии, за которыми стояла Россия. Эта вторая война привела к союзу Пруссии и России, что имело своим последствием раздел Польши; Екатерина II благодаря атому получила возможность захватить Крым, в то время как униженная Франция мстила за свои неудачи Англии, поддерживая мятежных поселенцев Массачусетса.
* — Франциску III. Рев. •' — Карл III . Рев. *•* — Марию-Терезию. Ред. ••** — Карл VII Альбрехт. Ред.
ЗАМЕТКИ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ ( XV — XVIII ВВ.) 279
(По плану Генриха IV французского 392
Франция, Испания, Англия, Дания, Швеция, Ломбардия должны быть наследственными монархиями; Италия, Швейцария, Нидерланды — республиками. Обе ветви Австрийского дома следует лишить их владений в Венгрии, Германии, Италии и Нидерландах, они должны быть сведены к Испании и нескольким островам у побережья Средиземного моря. Что касается Италии, то папа должен быть объявлен светским владыкой, объединяющим под своей властью Рим, Неаполь, Апулию, Калабрию. Флоренция, Модена, как и небольшое число других мелких государств, подлежат объединению с республикой Венецией; герцог Савойский должен стать королем Ломбардии. Богемия — выборное королевство, включая Моравию, Силезию, область, заселенную лужичанами. Венгрия — выборная монархия, ее необходимо сделать более сильной путем присоединения к ней архиепископства австрийского, Штирии и Каринтии. Равным образом следует укрепить и Польтпу. Швейцария должна быть увеличена за счет Эльзаса, Тироля и других территорий.) 393
Hanuca .no К. Марксом, Печатается по рукописи
не раньше середины 1857 г. Перевод с немецкого и английского
Публикуется впервые
280 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
АБЕНСБЕРГ
Абенсберг — небольшой город с 1200 жителей в округе Реген Баварского королевства. Предполагают, что на этом месте был римский город Абасинум. В окрестностях имеются горячий источник и развалины красивого замка. 20 апреля 1809 г. Бонапарт дал под Абенсбергом сражение австрийцам и разбил их; они потеряли в этом бою 12 орудий и 13 тысяч солдат. Эта победа предшествовала победам при Ландсхуте и Экмюле и открыла дорогу на Вену.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по тексту энциклопедии
между 11 и 14 июля 1857 г, „ „
" Перевод с английского
Напечатано в «New American
Cyclopaedia», v, I, 1818
[ 281
Ф. ЭНГЕЛЬС
АКР 3 "
Акр, Сен-Жан-д\ Акка, Птолемаида, или Акко — сирийская гавань у подножья горы Кармель, 32°54' северной широты, 35°4' восточной долготы; население — около 15 тысяч человек. Это лучшая бухта в данной части побережья, хотя и очень мелкая. Славу Акру принесли ожесточенные осады и оборонительные сражения. В 1104 г. город был захвачен генуэзцами, а в 1187 г. отвоеван вновь Саладином. Штурм Акра Ричардом Львиное Сердце в 1191 г. был одним из самых смелых подвигов времен крестовых походов. До 1292 г. он оставался под властью рыца рей св. Иоанна 30в, которые сильно его укрепили, но турки вынудили их покинуть крепость. Именно здесь турки при поддержке благородного Сиднея Смита и горстки британских моряков 60 дней задерживали в бухте Наполеона и французскую армию, пока тот не снял осаду и не отступил. Когда Мухаммед-Али поднял восстание против Порты, Ибрахим-паша после шести месяцев осады в 1832 г. взял Акр штурмом и захватил Сирию. В 1839 г. Сирия тем не менее была возвращена Турции, город же вновь пережил ужасы войны: Ибрахим отказывался его покинуть до тех пор, пока объединенный английский, австрийский и турецкий флот не подверг Акр 4 ноября 1840 г. бомбардировке.
Написано Ф. Энгельсом между 11 и 14 июля 1867 г.
Напечатано в «New American Cyclopaedia», v. 1, 1SS8
Печатается по тексту энциклопедии
Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
282 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
АКЦИЙ
Акций (Аитюи), ныне Ла Пунта — мыс и селение в Акар-нании при входе в Амбракийский залив, вблизи которого между Цезарем Октавианом, впоследствии императором Августом, и Марком Антонием 2 сентября 31 г. до н. э. произошло морское сражение, в котором Октавиан одержал полную победу. Это сражение решило вопрос о мировом господстве. До того Окта виан властвовал на Западе, Антоний — на Востоке 397. Лагери обеих армий были расположены на противоположных сторонах Амбракийской бухты. У Октавиана было 80 тысяч пехотинцев, 12 тысяч всадников и 260 боевых кораблей. Антоний располагал 100 тысячами пеших солдат, 12 тысячами всадников и 220 кораблями. Флот Антония был оснащен катапультами, но отличался неповоротливостью. Корабли Октавиана были невелики, но более быстроходны. Клеопатра дала Антонию в подкрепление 60 кораблей, и по ее наущению и вопреки советам собственных опытнейших капитанов он предложил Окта- виану морское сражение. Вызов был принят. После нескольких часов безрезультатного сражения Агриппа, адмирал Октавиана, произвел быстрый маневр, и Клеопатра со своими галерами обратилась в бегство. Сластолюбивый Антоний не мог удержаться и бросился за ней с небольшим числом кораблей. Флот, брошенный своим командиром, сдался, то же сделала и его армия, прождав возвращения Антония семь дней. Жал кий человек бежал со своей возлюбленной в Египет. В ознаменование своего триумфа победитель украсил храм Аполлона, находившийся в Акции, и построил Никополь (город победы) на северной стороне залива.
Написано Ф. Энгельсом между 11 и 14 июля 1857 г.
Напечатано в «New American Cyclopaedia», v. I, 1858
Печатается по тексту энциклопедии
Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
[ 283
Ф. ЭНГЕЛЬС
АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
Аландские острова — группа скалистых островов числом около 200, из которых 80 заселены, расположенных при входе в Ботнический залив между 59° и 60°32" северной широты и 19° и 21° восточной долготы. Острова принадлежат России, они уступлены ей Швецией в 1809 г. и составляют часть губернаторства Або в Финляндии. Жители островов, насчитывающие около 15 тысяч человек, шведского происхождения, пре восходные моряки и рыбаки. На скалах, покрытых тонким слоем почвы, растут сосны и березы; здесь выращивают рожь, ячмень, картофель, хмель, лен; жители держат большое количество крупного рогатого скота и экспортируют сыр, масло, кожу; они производят также холст для домашнего пользования и для парусов. Главный остров называется Аланд; его площадь — 28 кв. миль, население — 10 тысяч человек; в западной его части расположена хорошая гавань. Все гавани более или менее укреплены. Среди них на первое место следует поставить остров и гавань Бомарсунд, захваченную и взорванную в 1854 г. союзным флотом Англии и Франции во время их войны с Рос сией 8в8. В 1714 г. русский адмирал Апраксин одержал решающую победу над Швецией на море вблизи утесов Сигнильдс-шер 3".
Написано Ф. Энгельсом между 11 и 14 июля 1SS7 г.
Напечатано в «New American Cyclopaedia», v. I, 1SSS
Печатается по тексту энциклопедии
Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
284 ]
Ф . ЭНГЕЛЬС
АЛДЕНХОВЕН
Алденховен — небольшой город в Рейнской Пруссии, рас положенный на дороге из Юлиха в Ахен. Он дал название сражению, в котором австрийцы под командованием принца Кобург-ского одержали 1 марта 1793 г. победу над частью французской армии Дюмурье. После завоевания Бельгии в 1792 г. Дюмурье, задумав вторжение в Голландию, оставил 70 тысяч солдат между Маасом и Руром для осады Маастрихта и Венло и для прикрытия этой осады, начав с остальной армией наступление на Голландию из Антверпена. В силу необходимости войска на Маасе были весьма рассредоточены; дивизии, прикрывавшие осаду, были расквартированы вблизи Ахена, Алденхо- вена и Эшвейлера. Кобург собрал 40 тысяч солдат и двинулся двумя колоннами к двум последним пунктам, обогнул позиции у Эшвейлера, взял лобовой атакой укрепления у Алден-ховена и отбросил французов в беспорядке к Ахену, который был взят на следующий день. Осада Маастрихта была снята, и австрийский авангард преследовал французов даже за Маасом, разбив их под Тонгром. Рассеявшиеся французские дивизии соединились, только достигнув Тирлемона, где стали ждать Дюмурье. Таким образом путь союзникам в Бельгию был открыт, и несколько дней спустя в результате последующей победы под Неервинденом завоевание страны было закончено. Потери французов в сражении под Алденховеном и во время их преследования не могли быть менее 10 тысяч убитыми, ранеными и пленными, помимо 10 тысяч дезертировавших немедленно же после сражения; в руки австрийцев попало также большое количество военного снаряжения 400.
Написано Ф. Энгельсом между 11 и 14 июля 1857 г.
Напечатано в «New American Cyclopaedia», v. I, 1SSS
Печатается по тексту энциклопедии
Перевод с английского На русскож языке публикуется впервые
f 285
Ф. ЭНГЕЛЬС АЛЕССАНДРИЯ 401
Укрепленный город в Пьемонте, при слиянии Бормиды и Тонаро, в нескольких милях от По. Был основан миланцами в 1178 г. как оплот против вторжений германских императоров, а в современную эпоху вновь приобрел значение нацио нальной итальянской крепости против Австрии со времен кампаний 1848 и 1849 годов. Французы безуспешно осаждали Алессандрию в 1657 г., а принц Евгений Савойский взял ее в 1707 г. только после длительного сопротивления, хотя до начала нынешнего столетия укрепления города были устаревшими и малозначительными. В современном виде главную мощь крепости со ставляют достройки, осуществленные Наполеоном после присоединения Пьемонта к Франции. Это единственная крепость, построенная Наполеоном, и в ее укреплениях, хотя и не полностью, была впервые применена система казематных батарей Монталамбера для защиты рва. Наполеон особенно усилил цитадель, шестиугольный бастион с многочисленными внешними укреплениями, а на противоположном берегу Бормиды соорудил предмостное укрепление. Недавно пьемонтское правительство решило добавить еще несколько сооружений к кре пости, которая, будь переправа через По у Баденцы должным образом защищена, могла бы стать опорным пунктом обширного укрепленного лагеря, занимающего командные позиции. В городе есть лицей, духовная семинария, 13 церквей, включая кафедральный собор; здесь вырабатываются шерсть, шелк, сукна и восковые свечи. Население, включая пригороды, составляет 36 тысяч человек.
|
Написано Ф. Энгельсом между 11 и 14 июля 1SS7 г. Напечатано в «JVeu? American Cyclopaedia», v. I, 1858 |
Печатается по тексту знциклопедии Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
286 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
АЛЬМЕЙДА *02
Город в Португалии, в провинции Бейра, между реками Коа и Дуас Каза. Население 6200 человек. Город сильно укреплен; здесь 5 августа 1811 г. герцог Веллингтон нанес поражение французам под командованием Массены.
Написано Ф. Энгельсом .. Печатается по тексту энциклопедии
между 11 и 14 июля 1857 г. ,
Перевод с английского
Напечатано в a New American TI e _
Cyclopaedia », v. I , 1 SSS Ыа РУ^™м языке публикуется впервые
Г 287
Ф. ЭНГЕЛЬС
АМЮЗЕТ
Амюзет — небольшое легкое орудие с однофунтовым ядром, прежде применялось в горных местностях. Эту пушку высоко ценил маршал Сакс, но теперь она полностью вышла из употребления.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по тексту энциклопедии
между 11 и 14 июля 1857 г. „
Перевод с английского Напечатано в «New American
Cyclopaedia », v , 1, 1838 H ° РУССко-и языке публикуется впервые
288 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
АНТВЕРПЕН
Антверпен — бельгийский приморский город, административный центр одноименной провинции. Расположен на северном берегу Шельды в 26 милях севернее Брюсселя и в 32 милях северо-восточнее Гента. Население (1855 г.) — 79 тысяч человек. Город имеет форму лука: стены образуют дугу, а река тетиву. Протяженность весьма совершенных укреплений, включая цитадель, составляет примерно 2,75 мили. Мощная цитадель в форме пятиугольника была построена герцогом Альбой в 1567 году. Антверпен — очень старый город. Он достиг вершины своего расцвета в XV и XVI вв., став в то время торговым центром Европы, державшим в руках обширную внешнюю торгов лю, его посещали корабли всех национальностей (в порту одновременно стояло до 2500 кораблей), а население города, как утверждают, равнялось 200 тысячам. В 1576 г. разграблен и сожжен испанцами. В 1585 г. после продолжительной осады его взял Александр, принц Пармский *. С этого времени тор говля Антверпена переместилась в Амстердам и другие города Соединенных провинций. В 1794 г. город перешел в руки французов. После восстания бельгийских провинций он был в 1832 г. взят французским маршалом Жераром в результате памятной осады 403. Хотя сейчас город и не имеет такого важного значения, как в средние века, торговля и промышленность Антверпена в настоящее время далеко не незначительны. Река судо-ходна для самых больших судов. Бассейны, построенные Напо леоном и превращенные в просторные коммерческие доки,
• — Александр Фарнезе Ред.
АНТВЕРПЕН
289
могут вмещать 1000 судов. Развитая сеть путей сообщения по каналам дает Антверпену возможность вести широкую внутреннюю торговлю: в 1846 г. здесь побывали 1970 судов водоизмещением в 286 474 тонны. Город имеет регулярное и достаточно частое пароходное сообщение с Англией, а в последнее время стал пунктом отправки многочисленных эмигрантов в Соединенные Штаты. Здесь один из самых значительных рынков кож Европы. Главное производство Антверпена — черный шелк и бархат; есть также хлопчатобумажные и полотняные фабрики, предприятия по выработке кружев, ковров, шляп, ножевых изделий, а также рафинадные заводы и верфи. До наших дней город сохранил многое от прежнего великолепия. Большинство домов — очень старой, крепкой постройки. Много прекрасных общественных зданий, главное из которых — кафедральный собор, великолепное готическое здание, заложенное в начале XV столетия и законченное не ранее чем через 84 года. Есть три другие достопримечательные церкви, построенная в 1583 г. биржа, ратуша, дворец для короля, когда он избирает своей резиденцией Антверпен, и здание Ганзейских городов. Кроме того, в городе есть академия живописи, скульптуры и наук; публичная библиотека в 15 тысяч томов; картинная галерея, имеющая 200 очень ценных полотен, многие из них — шедевры старых фламандских мастеров; ботанический сад и разного рода школы, больницы и приюты.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по тексту энциклопедии
между 11 и 14 июля 1857 г. „ .
Перевод с английского Напечатано в «New American
Cyclopaedia », v. I , 1858 Ha PVCC *° M языке публикуется впервые
290 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
АРБЕЛЫ
Арбелы, ныне Арбиль или Эрбиль — небольшое селение в Курдистане, расположенное на проезжей дороге между Багдадом и Мосулом на 36°11' северной широты согласно Ни-буру. Дома построены из необожженного кирпича. Арбелы дали название третьей и последней из великих битв между Алексан дром и Дарием в 331 г. до н. э. В действительности же битва происходила не в Арбелах, а в 36 милях северо-западнее, около маленькой деревни под названием Гавгамелы, ныне Кармелес. После сражения Александр перешел Ликус и остановился в Арбелах.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по тексту тциклопевии
между 34 и 24 июля 1857 е. _ . .
Перевод с английского
Напечатано
е
«New American
„
,
Cyclopaedia », ». II , 1858 Ha Русском языке публикуется впервые
[ 291
Ф. ЭНГЕЛЬС
БЕННИГСЕН И БАРКЛАЙ 404
О Беннигсене я не знаю ничего, кроме того, что в 1807 г. в начале кампании он командовал первой армией (их было две — второй командовал Буксгевден) под общим началом Каменского; 26 декабря 1806 г. при Пултуске был атакован Ланном и, превосходя его численно, выстоял (потому что Наполеон главными силами наступал на другую армию), а затем, полагая себя победителем, хотел перейти в решительную атаку. Вскоре он стал главнокомандующим и в конце января 1807 г. предпринял наступление на войска Наполеона, стоявшие на зимних квартирах; вскоре был оттеснен и только благодаря случаю спасся из ловушки, устроенной ему Наполеоном; 7 и 8 февраля сражался при Эйлау. 7-го Наполеон взял Эйлау (при атом отличился Барклай-де-Толли, который руководил обороной) 406, а 8-го произошло главное сражение, которое Бен- нигсен должен был дать, чтобы избежать ожесточенного преследования со стороны Наполеона; в этом сражении Бенниг-сена спасли от полного поражения только стойкость его войск, прибытие пруссаков под командованием Лестока и медлительность, с которой отдельные корпуса Наполеона появлялись на поле боя. Весной Беннигсен закрепился под Хейльсбергом, так как силы его были слабее; пока отсутствовала часть фран цузской армии, занятая осадой Данцига 40в, он не атаковал Наполеона, но когда пал Данциг и французская армия объединилась, он перешел в наступление (!) и был остановлен аван гардом Наполеона, силы которого составляли лишь треть его собственных, а затем Наполеон вынудил его отступить в укрепленный лагерь. Наполеон безуспешно атаковал этот лагерь
292
Ф. ЭНГЕЛЬС
10 [июня] силами лишь двух корпусов и нескольких батальо нов гвардии, однако уже на следующий день он заставил Бен-нигсена покинуть лагерь и вынудил его к спешному отступле нию; но внезапно Беннигсен перешел в наступление, не дождавшись 28-тысячного корпуса, который еще был в Тильзите; взял Фридланд и обосновался там, имея в тылу реку, то есть только единственный путь к отступлению — фридландский мост (сражение перед дефиле — всегда ошибка). Вместо того чтобы быстро продвинуться вперед, прежде чем Наполеон смог сосредоточить свои войска, он позволил Ланну и Мортье задерживать себя в продолжение пяти-шести часов («coupe-gorge dans lequel B[ennigsen] s'était engagé» *, — говорит Жомини об этой позиции), пока к пяти часам Наполеон не был готов и не приказал начать наступление. Русские были отброшены за реку, Фридланд взят, мост разрушен самими же русскими, когда на той стороне находился еще весь правый русский фланг, который спасся только благодаря броду, но потерял артиллерию. Потери составили 20 тысяч человек. Беннигсен в течение этого дня совершал ошибку за ошибкой... его поведение являло собой смешение безрассудной опрометчивости и нерешительности.
В 1812 г. он находился около русской главной квартиры, поносил Барклая, чтобы занять его место, и интриговал против него, пока Александр не уволил Беннигсена. В 1813 г. он получил приказ привести из России в Богемию резервную армию, которая по прибытии была расформирована, а Беннигсен исчез.
Барклай-де-Толли при Эйлау командовал бригадой и т. д. (см. выше). 1812 г. — командующий первой Западной армией и военный министр, после отъезда Александра и до прибытия главнокомандующего Кутузова Барклай-де-Толли искусно ру ководил отступлением русской армии; его большая заслуга заключается в том, что он противился требованиям- русских и всей главной квартиры дать сражение. Там, где он вынужден был принять бой, как это было под Смоленском, он занял такую позицию, которая не позволила втянуть его в решающее сражение 407, а когда последнего уже нельзя было избежать — недалеко от Москвы, — Барклай-де-Толли избрал под Гжатском почти недоступную атаке с фронта позицию, которую можно было обойти лишь далеким кружным путем. Армия уже заняла ее, но тут прибыл Кутузов, который, конечно, не согласился с этой позицией, поскольку не он ее выбирал, и рус-
• — «разбойничий притон, в который дал завлечь себя Б[енншсен,1». Рев,
ВЕННИГСЕН И БАРКЛАЙ
293
ские, таким образом, должны были сражаться на плохих позициях под Бородином. В 1813 и 1814 гг. Барклай-де-Толли командовал не какой-либо самостоятельной группой войск, а всеми русскими частями в объединенных войсках под нача лом Шварценберга; а так как эти части находились в отдельных группах войск и часто переформировывались, то он выполнял скорее административные и дипломатические функции, чем боевые 408; как и раньше, он показал себя лучшим среди генералов среднего масштаба, обладающим здравым смыслом и выдержкой, во всяком случае, лучшим из генералов более старшего поколения, которыми располагали русские.
Написано Ф. Энгельсом 10 сентября 1857 г.
Печатается по рукописи Перевод с немецкого Публикуется впервые
294 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
КАНОНАДА 40в
Канонада в широком смысле — артиллерийский огонь во время боя или осады. Как специальный тактический термин канонада означает бой между двумя армиями, в котором действует только артиллерия, а другие войска либо пассивны, либо их действия, по крайней мере, не выходят за рамки чистой демонстрации. Наиболее ярким примером действий подобного рода является канонада у Вальми в 1792 году. Келлерман, ожи давший атаки прусской армии на линии высот, расположил артиллерию впереди своих отрядов. Пруссаки построились на противоположной гряде холмов, выдвинув вперед артиллерию, и канонада началась. Несколько раз прусская пехота строилась для атаки и немного выдвигалась вперед; но французы оставались непоколебимыми, и пруссаки снова отступали, не входя в сферу досягаемости ружейного выстрела. Так прошел день, а назавтра началось общее отступление прусской армии. Такие канонады имеют место в большинстве генеральных сражений. Часто они представляют собой первый акт спектакля; они заполняют антракты между отбитой атакой и новой попыткой выбить противника с позиции; и они же являются финалом большинства сражений, не принесших победы ни одной из сторон. В большинстве случаев они не преследуют никакой иной цели, кроме демонстрации, давая на больших дистанциях при огромной трате снарядов почти невероятно малую долю попаданий по сравнению с промахами, что весьма характерно для артиллерийской практики современной войны.
|
Написано Ф. Энгельсом около 7 января 18S8 3. Напечатано в «New American Cyclopaedia», v. IV, ISSU |
Печатается по тексту энциклопедии
Перевод с английского Ви русском языке публикуется впервые
[ 295
Ф. ЭНГЕЛЬС
КАРТУШ
но
Картуш (фр. cartouche ) — термин, иногда употребляемый в старых военных сочинениях как синоним слова «картечь», а также «крупная картечь». В отдельных случаях этот термин употребляется также для обозначения патронной сумки пехотинца.
В архитектуре и скульптуре — блок или модильон в кар низе и вообще всякое лепное украшение, на котором помещена какая-нибудь эмблема или надпись.
Написано Ф. Энгельсом Печатается по тексту энциклопедии
около 21 января 1868 г. „ .
Перевод с английского Напечатано в « New American Cyclopaedia », v, IV , 1859
296 ]
К. МАРКС
БЮЛОВ *"
Бюлов (Фридрих Вильгельм, барон, с 1814 г. граф фон Денневиц, королевско-прусский генерал от инфантерии и т. д.) родился 16 февраля 1755 г. в родовом именье Бюловых Фаль-кенберг в Старой марке. 14-ти лет в Берлине он поступил в полк графа Лоттума юнкером. С 1772 г. — прапорщик, с 1777 г. — подпоручик, с 1786 г. — поручик. С 1793 г. — штабс-капитан и наставник принца Людвига Фердинанда Прусского; в этом звании участвовал в походе 1793 г. и вскоре был произведен в майоры. Во время осады и завоевания Майнца (1793 г.) показал блестящие образцы мужества. Произведенный в 1805 г. в подполковники, он в 1806 г. принял участие в обороне То-руни под командованием генерала Лестока и отличился со своим батальоном в бою под Вальтерсдорфом. В 1808 г. стал генерал-майором и командиром померанской бригады, которую он временно получил в начале года, еще будучи полковником. В 1811 г. переведен в Мариенвордер в западнопрусскую бри гаду, а в начале франко-русской войны временно стал генерал-губернатором Восточной и Западной Пруссии. В начале кампании 1813 г. — генерал-лейтенант, на него была возложена осада Штеттина. После смены его генералом Тауенцином Бюлов соединился с генералами Йорком и Витгенштейном и двинулся навстречу французским подразделениям, которые под командованием вице-короля Италии * переправились на правый берег Эльбы. Дал здесь первый удачный бой при Мёккерне 5 апреля и вслед за тем вскоре взял Галле, который, однако,
* — Евгения Богарне, Рев.
БЮЛОВ
297
в самом непродолжительном времени вынужден был вновь оста вить в результате отступления союзных армий. Перешел обратно Эльбу, чтобы взять на себя оборону Берлина, которому угрожал Удино. Победа под Луккау 4 июня увенчала операцию. После перемирия под верховным руководством кронпринца шведского * командовал третьим прусским армейским корпусом. Во главе этого армейского корпуса он во второй раз спас Берлин в результате сражения при Грос-Берене 23 августа; 6 сентября в сражении при Денневице защитил Берлин в третий раз, вынудив здесь маршала Нея отступить к Виттенбергу. После осады Виттенберга участвовал вместе с северной армией в битве под Лейпцигом. Пока союзные армии форсировали Рейн, он вторгся в Голландию, взял штурмом Дусбург, Зютфен, Арнем; 2 декабря разместил свою главную квартиру в Утрехте и обложил Горкум и Хертогенбос. В 1814 г. он выступил из Бреды, 11 января одержал победу при Хогстратене, бомбардировал Антверпен, вошел в Брюссель, взял Ла-Фер и Суассон, соединился с силезской армией, во время боя при Лаоне 9 и 10 марта командовал центром. Кавалер ордена Черного орла, произведен в генералы от инфантерии. После заключения мира стал генерал-губернатором Западной и Восточной Пруссии, а когда в 1815 г. вновь началась война, получил под начало четвертый прусский армейский корпус. Не участвовал в битве при Линьи (15 июня) из-за того, что опоздал приказ, однако его соединение с Блюхером, осуществленное благодаря форсированному маршу, способствовало исходу битвы при Бель-Альянсе 41а, за что хам ** назначил его шефом столь мужественно руководимого им 15-го линейного полка, который должен был к тому же носить его имя. 11 января 1816 г. вернулся в свое губернаторство. 25 февраля умер в Кенигсберге от болезни печени. Король ** сделал Бюлова кавалером Железного креста первой степени, а в 1814 г. в Париже возвел его и его потомков в графское достоинство. Участвовал в битве народов 418. Затем двинулся в Голландию и изгнал оттуда французов.
Написано К, Марксом в марте 1858 г. Печатается по рукописи
Перевод с немецкого Публикуется впервые
* — Бернадота. Ред. *• — Фридрих-Вильгельм III . Рев.
298 ]
К. МАРКС
БЮЛОВ, ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ 4 "
Бюлов, Фридрих Вильгельм, граф фон Денневиц, прусский генерал, родился 16 февраля 1755 г., умер 25 февраля 1816 года. С самого раннего этапа наполеоновских войн в Европе Бюлов участвовал в сражениях против французского императора. В 1808 г. был возведен в чин бригадного генерала. В 1813 г. за победы, одержанные под Мёккерном, Луккау, Грос-Береном и Денневицем, ему было пожаловано дворянство. Затем Бюлов отличился в Вестфалии, Голландии и Бельгии, способствовал в значительной мере (как это с теплотой признает Веллингтон) победному исходу сражения под Ватерлоо, во время которого он командовал 4-й дивизией союзной армии.
Написано И. Марксом в конце марта 1858 г.
Напечатано в «New American Cyclopaedia», v. IV, 1869
Печатается по тексту энциклопедии
Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
[ 299
Ф. ЭНГЕЛЬС
ПЕРЕВОЗКА ВОЙСК В ИНДИЮ 415
Лондон, 27 июля 1858 г.
С началом англо-индийской войны возник спор вокруг двух интересных вопросов: один из них касался преимуществ, которыми обладают соответственно паровые или парусные суда, другой — использования сухопутного пути для переброски войск. Поскольку британское правительство высказалось в пользу парусных, а не паровых судов, а также за плавание вокруг мыса Доброй Надежды, а не за сухопутный путь, палата общин по предложению сэра де Лейси Эванса 4 февраля 1858 г. при няла решение о создании под председательством этого опытного генерала комиссии, вменив ей в обязанность провести расследование «относительно проведенных мероприятий». В связи со сменой кабинета, имевшей место за это время, состав комиссии был полностью изменен: лорд Стэнли и сэр Джон Пакингтон заменили трех сторонников Пальмерстона. Поскольку отчет комиссии оказался в целом благоприятным для прежнего правительства, генерал сэр де Лейси Эванс опубликовал и распространил протест. Он заявил в нем, что заключение комиссии находится в полном несоответствии с предпосылками, на основании которых, как утверждают, оно было сделано, и совершенно не отвечает фактам и данным, находившимся в ее распоряжении. Рассмотрение самих фактов должно заставить всех беспристрастных лиц полностью согласиться с этой точкой зрения.
Нет никакой нужды доказывать решающее значение короткого пути сообщения между действующей армией и ее базой, с которой необходимо поддерживать связь. Во время американской войны за независимость главной трудностью, которую пришлось преодолевать Англии, оказался морской путь
11 И . ■ 8., Т . 44
300
Ф. ЭНГЕЛЬС
протяженностью в 3 тысячи миль, этим путем она должна была перебрасывать свои войска, материальные средства и подкрепления. Расстояние от Великобритании до устьев Инда и Ганга, до Калькутты, Мадраса, Карачи и Бомбея, согласно последним данным, можно считать равным примерно 14 тысячам миль, но применение пара дает возможность значительно сократить его. До сих пор при всех обстоятельствах смена полков в Индии производилась этим дальним морским путем на парусных судах. Прежнее британское правительство сочло это достаточным основанием для заявления в момент, когда начались волнения в Индии, что при доставке войск предпочтение будет отдано не паровым, а парусным судам. Вплоть до 10 июля 1857 г. почти все из использовавшихся для этого 31 судна были парусниками. Тем временем под влиянием общественного мнения в Англии и неблагоприятных вестей из Индии в период с 10 июля до 1 декабря в число 59 судов, предназначенных для перевозки войск, было включено 29 винтовых паровых судов. Таким образом, стало возможным нечто вроде предварительного испытания сравнительных качеств паровых и парусных судов в перевозках. Согласно отчету морского ведомства Ост-Индской компании, в котором приводятся названия транспортных судов и продолжительность рейсов из Англии в четыре главных порта Индии, следующие показатели можно считать средними при сопоставлении скорости паровых и парусных судов:
Из Англии в Калькутту
Дни
За время с 6 августа по 21 октября
1857 г. в сред
нем для парового судна, исключая
случаи по
ломки
...............................................................................
82
За время с 10 июня по 27 августа 1857 г. в сред
нем для каждого из 22 парусных судов ..............
116
Разница в пользу паровых судов ............... _. 34
В Мадрас
В среднем для каждого из 2 паровых судов.......... 90
В среднем для каждого из 2 парусных судов........ 131
Разница в пользу паровых судов.................. 41
В Бомбей
В среднем для каждого из 5 паровых судов ......... _ 76
В среднем для каждого из 9 парусных судов........ 118
Разница и пользу паровых судов ............... _ 42
ПЕРЕВОЗКА ВОЙСК В ИНДИЮ 301
В
Карачи
В среднем для каждого из 3 паровых
судов ....
91
В среднем для каждого из 10 парусных
судов
128
Разница в пользу паровых судов ................ 37
В среднем для всех 19
рейсов паровых судов в че
тыре порта Индии
83
Средняя продолжительность
рейса для 43 парус
ных судов................................................................
120
Разница между средними показателями па
ровых и парусных судов
................
37
Тот же самый официальный отчет на 27 февраля 1858 г. дает следующие сведения:
Было перевезено
Человек
В Калькутту паровыми судами ............................ 6 798
!» » парусными судами ......................... 9 489
Всего перевезено в Калькутту...................... 16 287
В Мадрас паровыми судами ................................... 2 089
» » парусными судами ................................... 985
Всего перевезено в Мадрас .......................... 3 074
В Бомбей паровыми судами.................................... 3 906
» » парусными судами ................................... 3 439
Всего перевезено в Бомбей........................... 7 345
В Карачи паровыми судами..................................... 1 351
» » парусными судами................................. 2 321
Всего перевезено в Карачи ........................... 3 672
Таким обраэом, ив вышеприведенных цифр явствует, что 27 паровых судов перевезли к месту назначения, в четыре порта Индии, 14 444 человека — в среднем, следовательно, по 548 человек на каждом судне; на 55 парусных судах было переправлено 16 234 человека, в среднем по 289 человек на каждом. Далее, из тех же официальных средних данных явствует, что 14 444 человека, перевезенных на паровых судах, прибыли в соответствующие места назначения в среднем на 37 дней быстрее, чем 16 234 человека, следовавших на парусных судах. Со стороны британского адмиралтейства и других официальных ведомств не было приведено никаких иных аргументов
И»
302
Ф. ЭНГЕЛЬС
в пользу традиционного способа перевозки, кроме ссылки на прецедент и установившуюся практику, которые ведут свое начало с тех времен, когда паровое судоходство было еще совершенно неизвестно. Однако главным оправданием проволочек для лорда Пальмерстона послужили расходы: стоимость перевозки на паровых судах в большинстве указанных выше случаев превышала почти втрое стоимость на парусных судах. Не говоря уже о том, что эти значительно более высокие расходы для перевозки на паровых судах по мере сокращения первого необычного спроса должны будут постепенно уменьшаться и что в столь жизненно важном вопросе чрезвычайные траты не должны приниматься в расчет, очевидно, что возросшая стоимость перевозок была бы более чем компенсирована уменьшением шансов для восстания.
Еще более важным, чем вопрос о превосходстве паровых судов перед парусными, представляется спор о плавании вокруг мыса Доброй Надежды, с одной стороны, и сухопутном пути, с другой; причем лорд Пальмерстон заявил об абсолютной непригодности последнего. Раздоры по этому вопросу между его Контрольным советом по делам Индии и директорами Ост-Индской компании начались, по-видимому, одновременно с получением в Англии первых вестей о восстании в Индии. Фактически же вопрос был разрешен в начале нынешнего столетия. В 1801 г., когда еще не было агентов пароходных компаний для оказания помощи военным мероприятиям и не существовало железных дорог, значительные военные силы под командованием сэра Давида Бейрна отправились из Индии и в мае — июне высадились в Кусейре; в течение девяти дней они пересекли пустыню Кери * до Нила; спустившись по этой реке, они расположились гарнизоном в Александрии, а в следующем, 1802 г., в июне, несколько полков возвратились в Индию через Суэц и Красное море. Этот отряд численностью до 5 тысяч человек имел батарею конной артиллерии с шестью пушками, стрелковое оружие, боеприпасы, лагерное оборудование, возимое имущество и 126 ящиков с казной. Состояние здоровья солдат было, как правило, очень хорошим. Марш через Суэцкую пустыню, от озера Святых паломников ** близ Большого Каира до Суэца, был проделан в четыре дня с величайшей легкостью, причем переходы совершались ночью, а днем войска разбивали лагерь. В июне же корабли достигли Индии, так как ветры в это время года дуют вдоль Красного моря. Кораб-
* — Вади-Карейм. Ред. »♦ —- Бвркет-эль-Хаг (ныне ве существует), Р*в,
ПЕРЕВОЗКА ВОЙСК В ИНДИЮ
303
лям был обеспечен быстрый ход. Еще раз, во время последней войны с Россией, летом 1854 г., 10-й и 11-й драгунские полки (1400 лошадей, 1600 человек) прибыли в Египет из Индии и были переправлены оттуда в Крым. У этих войск, как известно, хотя их переброска и происходила в жаркие месяцы, во время муссонов, и хотя они вынуждены были задержаться на некоторое время в Египте, здоровье солдат и их боеспособность находились в удивительно хорошем состоянии и сохранялись в продолжение всей службы в Крыму. Наконец, есть опыт нынешней войны в Индии. После потери почти четырех месяцев несколько тысяч солдат были переправлены через Египет, что дало чрезвычайную выгоду, позволив сэкономить время и целиком сохранить здоровье людей. Первый полк, отправленный этим путем, преодолел путь из Плимута в Бомбей в течение 37 дней. Из первого полка, посланного с Мальты, первая половина солдат прибыла в Бомбей через 16 дней, а другая — через 18. Подавляющая масса свидетельств многочисленных и заслуживающих доверия очевидцев подтверждает исключительные выгоды сухопутного пути для транспортировки [войск], особенно в случае крайней необходимости. Полковник Пеклингтон, заместитель главного квартирмейстера, назначенный в октябре 4857 г. для руководства перевозкой войск и контроля за ней, утверждает в отчете для комиссии по расследованию, который был специально подготовлен по приказу военного министерства:
«Преимущества сухопутного пути весьма значительны, и переезд крайне прост. Власти в Египте, занимающиеся перевозками, могут пере править через перешеек, не нарушая обычное пассажирское движение, тысячу человек в неделю, 300—400 человек могут следовать одновре менно, преодолевая расстояние от одного корабля до другого в течение 26 часов. Переезд по железной дороге заканчивается примерно в 20 милях от Суэца. Эту последнюю часть пути солдаты проделывают на ослах в течение около шести часов. Не может быть никакого сомнения в том, что этот опыт прошел успешно».
Время, необходимое войскам для преодоления расстояния от Англии до Индии сухопутным путем, составляет 33—46 дней. От Мальты до Индии — 16—18 или 20 дней. Сравните эти сроки с 83 днями, нужными для преодоления длинного морского пути паровым судам, со 120 днями, необходимыми парусным, и разница окажется поразительной. К тому же при более длинном пути у Великобритании в течение 3—4 месяцев в году от 15 до 20 тысяч солдат по существу hors de combat * и находятся
» — рыходят из строя, Ред,
304
Ф. ЭНГЕЛЬС
вне пределов досягаемости в случае изменения приказа, в то время как при более коротком пути они лишь в течение недолгого срока, около двух недель, во время плаванья из Суэца в Индию, находятся вне досягаемости приказа о возвращении в случае непредвиденных событий в Европе.
Прибегнув к сухопутному пути только через 4 месяца после начала войны в Индии и то лишь для переброски незна чительной горстки войск, Пальмерстон пренебрег всеобщими ожиданиями как в Индии, так и в Европе. Генерал-губернатор Индии * полагал, что правительство метрополии пошлет войска через Египет. Ниже приводятся слова из письма генерал-губернатора правительству метрополии * * от 7 августа 1857 г.:
«У нас также существует связь с Пиренейской и восточной пароходной компанией в вопросе о перевозке из Суэца войск, которые, возможно, будут отправлены в Индию этим путем».
В тот самый день, когда в Константинополь пришли вести о восстании, лорд Стратфорд де Редклифф телеграфировал в Лондон для выяснения, должен ли он обратиться к турецкому правительству за разрешением пропустить английские войска в Индию через Египет. Тем временем султан *** 2 июля издал и передал соответствующий фирман, Пальмерстон же ответил по телеграфу, что не намеревается отправлять войска этим путем. Поскольку во Франции также предполагалось, как нечто само собой разумеющееся, что ускоренная переброска воинских подкреплений должна в тот момент являться первостепенной задачей британской политики, то Бонапарт по собственной инициативе дал разрешение на пропуск английских войск через Францию, предоставив возможность при желании грузить их в Марселе для отправки в Египет. Недавно, когда, наконец, г-н Холтон, управляющий Пиренейской и восточной пароходной компании в Египте, был уполномочен сделать разъ яснение по этому вопросу, египетский паша **** немедленно ответил, что
«ему было бы приятно облегчить переход не только двум сотням людей, о которых идет речь в данный момент, но в случае необходимости и 20 ты сячам и не только en bourgeois *****) a, если потребуется, в военной форме и с оружием».
• — Чарлз Джон Канвинг. Ред, ** — Великобритании. Ред, **• — Абдул-Меджид. Рев, **** — Саид-naina. Ред. »*•♦* — в штатском. PfOi
пкревозка поиск в пндшо 305
Таковы были благоприятные возможности, которыми так опрометчиво пренебрегли и надлежащее использование которых могло бы предотвратить разрастание войны в Индии до столь грозных размеров. Мотивы, побудившие лорда Паль-мерстона предпочесть парусные суда паровым и линию ком муникации, простирающуюся более чем на 14 тысяч миль, расстоянию, не превышающему 4 тысяч миль, принадлежат к тайнам современной истории.
Написано Ф. Энгельсом между 16 и 20 июля 1858 г.
Напечатано в газете « New - Yorh Daily Tribune« M 5i01, 13 августа 1858 г.
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
На русском языке публикуется епервы*
306 ]
К. МАРКС
НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАНИФЕСТ 41в
Лондон, 24 сентября 1858 г.
Вчера вечером на общественном собрании, созванном в честь 66-й годовщины установления первой Французской республики, г-н Феликс Пиа зачитал в высшей степени примечательное «Письмо к мандаринам Франции», в котором он неистово осуждает всех французских литераторов за отсутствие нравственного мужества в условиях существующего режима. Мы намерены привести его в общих чертах, иногда уклоняясь от оригинального текста, с тем чтобы ярче передать его дух:
«Во мраке, окутавшем всю Францию после катастрофы coup d'état *, вы, джентльмены прессы, потеряли себя больше, чем другие. Вы сносите репрессии с ужасающим терпением и покорностью. Вы переносите их молча, как если бы кара была заслуженной, и так смиренно, как если бы это было навеки. Возможно ли это? За десять лет — ни единого поступка, ни единого звука, ни единого слова протеста, ни единого слова надежды. Сильные и слабые, старые и юные, великие и малые, учителя и ученики — все немы, все упали духом. Ни единого голоса не слышно в пустыне. Во французском словаре нет больше слова, означающего свободу. Англичане спрашивают нас, звучит ли еще французская речь во Франции, а мы опускаем глаза. Даже австрийская печать издевается над вами, даже русская — скорбит о вас. Такая французская пресса стала предметом жалости и презрения для Казака! Буонапарте наплевал на солнце и загасил его. Кто должен зажечь его снова или же заменить эту погасшую звезду? Солнц нет, остаются вулканы. Если небо не дает больше ни света, ни тепла, то есть еще скрытое солнце, подземное пламя, луч из тьмы, огонь народный. Мы уже видим пламя этого Везувия, а потому отчаянию нет места».
Начиная свой обзор французского литературного мира с членов Institut * *, г-н Пиа обращается к ним с такими словами:
• — государственного переворота. Ред. * * — Института, то есть Французской академии. Ред,
НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАНИФЕСТ 307
«Начнем с тех, кто уже безнадежно мертв — с immortels *. (Членов «Института» называют «immortels».) Вот они, кресла, а точнее, гробы этих четырех десятков; тени авторов, бормочущие тени эпиграмм, высохшие мозги которых гальванизируют лишь воспоминания и сожаления о прошлом. Вот он (Гизо), дряхлый Иксион, очарованный доктринерским туманом 417, преследующий свою конституционную химеру, мечущийся между Годом и Фросдорфом по порочному кругу монархического колеса, символ, закутанный в солому «фузионизма» 292. А вот и другой кудесник, его современник (Кузен), покинувший Сорбонну ради царства любви, подобно Фаусту ищущий компенсации за потерянное время, с грузом шести с лишним десятков лет за плечами вновь возвращающийся к юности и посвящающий себя служению Маргаритам фронды 418, потому что в двадцать он чересчур любил эклектизм] А вот и третий (Тьер), он не стар и не молод, в нем что-то не дозрело, а что-то сгнило, состарившееся дитя, окаменевший perpetuum mobile **, перепархивающий с искусства на политику и с политики на историю, брюзжавший на Революцию, превозносивший Империю и дважды похоронивший великого мужа ***, в Dôme dos Invalides **** и в своих сочинениях 41а — одним словом, национальный историк, tenia ***** истории, ординарный Тацит cent- gardes ******} имеющий патент от Его Величества и полномочия от правительства. И наконец, последний, но не худший из них, Гомер без «Илиады» (Ламартин), не нюхавший пороху Велизарий, рассеявший только орды горе-учителей и воспевший только пленение Эльвиры, историограф Грациэллы, поэт жирондистов, трубадур Реставрации, оратор Республики, честный бедняк Империи».
«Но перейдем от окаменелостей к людям. Бросим взгляд на наиболее живых из них — хотя бы на тех, кто прикидывается таковыми, — на тех, кто отстаивает свои принципы под развернутыми знаменами: легитимистов, орлеанистов и либералов. Другое кладбище! Но здесь хоть что-то слышно. Что? Вздох, хныканье, намек. На это у них хватает духу. Но не на большее. Они вздыхают, плачут; слез-то не видно. Это лишь молчаливый бунт, отвага ночали и храбрость сожалений. Оплакивается конституция и Хартия 208, и Генрих V , все и вся, вплоть до герцогинь *******> которых они сами выпроводили. Беранже набальзамирован, Вольтер воскрешен из мертвых... Беранже отправился в тюрьму, Вольтер — в изгнание. А их плакальщики отправляются в церковь. Умереть за неблагодарных, заявляет храбрая «Débats» ********; значит погибнуть напрасно, а она предпочитает выжить любой ценой... Уж если умирать, заявляет «Siècle», то только во имя умеренности. Мудрые представители своего поколения примиряются с существующим положением дел и довольствуются тем, что торгуют собой на панели». «...Истинные бруты среди них станут в позу умеренной оппозиции к Вейо 421. Да, в середине XIX в., после трех революций, совершенных во имя суверенитета народа и разума, через 66 лет после сентябрьской, через 28 лет после июльской и через 10 лет после февральской революций, в 1858 г. во Франции обсуждают... Что? Чудеса... О Ламенне, образец мужества и благородства, страстный поклонник справедливости, который на следующий день
* — бессмертных. Ред. " — вечный двигатель. Ред. *** — Наполеона I . Ред. ••*• — Доме инвалидов. Ред. • *••« _ червь. Ред. ...... _ гвардии 42«. рев.
• •..... — Беррийской и Орлеанской. Ред . ....... — «Journal des Débats», Ред .
308
К. МАРКС
после июньской битвы 1848 г. предпочел лучше сломать свое перо, чем обрубить его по мерке сабли, который выразил свой протест против богатого победителя смелым возгласом: «Бедные должны молчать» 42а, который превратил в орудие протеста и самый свой возраст в неволе, и само свое погребение в общей могиле ш, ты был лишь трусом и глупцом! Мудрость заключается в том, чтобы писать, ничего при этом не высказывая, смелость — в том, чтобы высказываться ради лжи и предательства, ради мира с режимом ограничений, ради приспособления к диете, предписанной доктором Фьяленом, ради чтения масла и патоки передовых статей, ради поглощения законодательных дебатов в Пьемонте и Бельгии 424. Все это время режим декабря продолжает распоряжаться жизнью, правами и будущим Франции. Бывших представителей народа, журналистов, лучших граждан — все, что осталось от революции — перевезут из темниц Бель-Иля в темницы Корсики с тем, чтобы по истечении срока наказания отправить их еще дальше — в огнедышащие пески Кайенны, как это сделали с Делеклюзом,.. и даже такие известия должны тайно просачиваться во Францию из глубин английской прессы. Позор, неслыханный даже в языческом Риме, даже среди фанатиков Джидды 4261 Некая замужняя женщина, оставившая своего мужа, приезжает в чужой для нео Париж; здесь ее подвергают аресту и препровождают в караульню; а теперь послушайте, что устраивают солдаты декабря! Цитируем официальный обвинительный акт. Сержант караула заключает ее в камеру и тщетно докучает ей своими грязными предложениями. Затем он приказывает двум из своих chasseurs * войти в камеру и попытать счастья. Женщина оказывает сопротивление и этим двоим. Сержант силой валит женщину здесь же, в казарме, на лавку, подложив ей под голову мешок. Затем тушит свечу, и все присутствующие — (девять мужчин) во главе с сержантом и капралом, держа женщину за руки и ноги, совершают над ней насилие, она же кричит: «Боже! Отпустите меня, отпустите меня!». Сержант, показав пример, отдает приказание: «Справа налево по порядку номеров рассчитайсь! Проходи по очереди!»... Потом они выпивают две кварты бренди за счет пострадавшей. И этих стражей порядка, этих спасителей, увешанных медалями, этот цвет нации, этих chasseurs Венсена, которые совершили декабрьский переворот и которые теперь совершают групповое насилие повзводно, приговорили к шестидневному заключению и штрафу за нанесенный ущерб в сумме 16 франков. Насильники неприкосновенны, а газете, сообщающей эти факты, велено заявить, что в деле были «смягчающие обстоятельства». Да здравствует император! Поистине « Times » права: всякий человек, обладающий здравым смыслом и чувствами, должен предпочесть полное уничтожение французской прессы ее соучастию в подобных преступлениях. Светильнику, не дающему огня, да не дозволено будет чадить! Зачем дальше лгать, зачем тревожить общественное мнение? Довольно лжи под маской правды, довольно проституции под личиной стыдливости, довольно малодушия под именем постоянства, довольно разложения под видом жизни. Лицемерные, лживые мумии, не прикидывайтесь больше живыми, сойдите в могилу... и подумать только, что это еще лучшие, эти мужи прессы, кичащиеся тем, что они, по крайней мере, являются приверженцами той или другой точки зрения!.. Ну, а как же остальные? Здесь, во-первых, есть нейтралы, равнодушные к общественной жизни, удалившиеся под сень прохладных гротов, чтобы там кокетничать с искусством ради искусства или с философией ради философии; своего рода отшельники, приходящие в экстаз по поводу рифмы пли линии; хлыщи, придающие значение одной только форме; педанты,
* — егерей. Реф,
НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАНИФЕСТ 309
склонные к абстракции, оправдывающие свое равнодушие никчемностью вульгарного и вместе с тем разрешающие императорскому орлу наделять их понемногу пирогами и крестами, а сами они, подобно насекомым в коконе, кончают жизнь самоубийством в своих произведениях; эти гусеницы тщеславия, эти куколки эготизма, бессердечные, погибающие, подобно Нарциссу, от любви к самим себе. Затем следует вторая клика, представители которой некогда участвовали в революции, а теперь участвуют в спекуляциях... Прекрасные результаты империи мира 42в... Когда-то они служили принципам, теперь же служат капиталу; когда-то они представляли партии, теперь — банкиров; когда-то они именовали себя монархистами или республиканцами, теперь они действуют именем северозападного или большого восточного банков, как подданные конторы Ми-реса или дома Милло, легитимисты на содержании у этих банкирских династий, левиты 427 биржевых кумиров, воспевающие Ренту и проповедующие право на вознаграждение в храме торгашей; эти последыши сенсимонизма, возглавляющие хор у алтаря золотого тельца, снова ставшего богом, и у трона шулера *, превращенного в Цезаря... Фу! Мы чувствуем запах отвратительных подонков пишущего мира, казенной гнилости, трупов в ливреях, скелетов, обшитых галунами, — «Pays», «Patrie», «Moniteur», «Constitutionnel» — этих отечественных паразитов, водящих хоровод в навозе авгиевых конюшен».
Во второй части своего «Письма к мандаринам» г-н Пиа противопоставляет активную преданность французской прессы времен Реставрации и Луи-Филиппа ее теперешнему полному отречению. При режиме октроированной Хартии
«все, от самых знаменитых до совершенно безвестных, выполняли свой долг. От Беранже до Фанто, от Магалона до Курье, Таи, Туи, Берта, Каншуа, Шатлена — все они отправились в тюрьму, одни — в Сент-Пелажи, другие — в Пуасси. То же самое произошло во времена «лучшей из республик»: Ламенне был заключен, а также Распайль, Каррель, Марраст, Дюпоти, Эскирос, Торе — все республиканцы. Арман Каррель, к вечной славе своей, сопротивлялся тогда насилию силой, защищая свою газету своей шпагой и заставив Перье отступить перед таким незабываемым вызовом: «Жизнь человека, исподтишка убитого на улице, ничего не стоит, но дорого будет стоить жизнь честпого человека, с которым бы в его собственном доме расправились sbirri ** г-на Перье во время законного его сопротивления. Его кровь будет взывать к мщению. Каждый писатель, проникнутый чувством собственного достоинства, должен противопоставить закон беззаконию и силу силе. Что бы ни случилось, таков мой долг...» 428. Однако если после декабря все «мандарины» Франции покинули поле битвы, то центром политической жизни" стал рабочий класс и даже крестьянство. Они одни приняли на себя преступные гонения, подготавливали заговоры, переходили в наступление — никому не известные, безымянные, просто плебс как он есть... С ними связано и дело Ипподрома 429, и попытки вооруженных восстаний, прокатившихся от Парижа до Лиона, от Сент-Этьенна до Бордо. В Анже это были carriers ***, в Шалоне — бочары, простые рабочие, которые действовали на свой страх и риск без руководителей из высших классов» *30.
• — Луи Бонапарта. РеО. •• — тайные полицейские агенты. Рев, ••• — рабочие каменоломен. РеО.
310
К. МАРКС
Относительно заговора в Шалоне г-н Пиа сообщает некото рые доселе не известные подробности, которыми мы и закончим эти извлечения. Главой заговора был рабочий (бочар) Ажене, 32 лет от роду. Г-н Льевр, государственный обвинитель, выступая перед трибуналом, рисует его следующим образом:
««Этот человек — трудолюбивый, дисциплинированный, обученный и бескорыстный рабочий, вследствие этого он тем более опасен и тем более заслуживает внимания полиции и руки правосудия. Он заявил, что не потерпит, чтобы итальянец был удостоен чести снасти Францию». С целью убедить судей в том, что этого человека следует отнести к числу «врагов семьи, религии и собственности», г-н Льевр зачитал следующее письмо, посланное Ажене из Алжира своей матери и исрехваченноо полицией декабрьского режима: «Мои африканские тюремщики, осведомленные о моих отношениях с семьей, часто ставили меня перед выбором — сердце или разум, чувство или долг. Эти мучения возобновлялись каждый раз, когда я получал письма от тебя, за их действием па меня они неотступно следили. Так продолжалось долго. В конце концов, истощив свои уловки и устав от борьбы, главный тюремщик — офицер высокого ранга — как-то вечером зашел ко мне в камору и, обменявшись со мной несколькими слонами, сказал в заключение: «Если ты но согнешься, тебя сломают». «Может быть меня сломают, — сказал я в ответ, — но я не согнусь». Через несколько дней мне сообщили, что есть приказ об отправке меня в Кайенну. Мне дали 12 часов па размышление. Я употребил их с пользой для себя. Таким образом, я но согнулся и меня не сломали. Человек предполагает, а бог располагает — все та же старая поговорка. Поздравляю тебя потому с тем, что тебе было дано увидеть меня не поддавшимся на соблазн, на твои просьбы и действовавшим только в соответствии с зовом собственной совести. Этот верный советчик не раз повторял мне, чтобы я жил только велением сердца и во имя долга, ибо без этого от меня ничего не останется, кроме грубой оболочки; и с каждым днем я все яснее ощущаю, что этот внутренний голос есть голос истины... Вот чем могу я оправдать себя перед семьей»».
«Прокурор Империи, — замечает г-н Пиа, — но мог бы, конечно, такого выдумать».
Ажене, не пожелавший ни согнуться, ни сломаться, бежит из алжирской тюрьмы, чтобы избежать заключения в Кайенне, вплавь добирается до корабля, возвращается в Испанию, а оттуда во Францию, где снова появляется в Шалоне. Таков верный солдат Марианны и стойкий защитник Республики.
Составлено К. Марксом 24 сентября 1858 г.
Напечатано в газете « NewYork Daily Tribune » JV5 5458, 19 октября 1858 г.
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
Г 311
К. МАРКС
Г-Н ДЖОН БРАЙТ 431
Г-н Джон Брайт не только один из самых даровитых ораторов, которых когда-либо производила на свет Англия, но и ны нешний лидер радикальных членов палаты общин, он поддерживает равновесие сил между традиционными партиями вигов и тори 43а. Выброшенный из парламента избирателями от Манчестера за возражения против китайской войны лорда Паль-мерстона 433, он был призван вновь в тот момент, когда находился в состоянии прострации под совместным влиянием и этого политического поражения, и тяжкой болезни, и избран от бирмингемского избирательного округа. Он покинул палату общин в важный исторический момент, точно так же и его возвращение в палату после длительного периода страданий и молчания явилось другой такой вехой. Это возвращение было отмечено вынужденной отставкой правительства лорда Пальмер-стона 434. Придя в палату общин, где Пальмерстон уже обрел авторитет диктатора, г-н Брайт, почти не имея личных приверженцев, опрокинул этого опытного тактика и не только создал новый кабинет, но и сумел, в сущности, продиктовать условия, на которых он должен исполнять свои обязанности. Значительность этой позиции придала необычную важность первой встрече г-на Брайта с его избирателями, которая произошла в последнюю неделю октября. Впервые с момента выздоровления великий оратор обращался к массовому собранию, и поэтому событие это вызвало столь мелодраматический интерес. В то же время официальные партии страны с беспокойством ждали объявления мира или войны со стороны человека, кото рый, если и не возьмется сам за создание нового билля о реформе
312
К. МАРКС
избирательного права, во всяком случае, решит, какая из партий должна заняться этим.
Г-н Брайт выступал перед своими избирателями дважды: один раз на публичном собрании, созванном для встречи с ним, вторично — на банкете в его честь. В другом месте мы приводим основные положения и наиболее впечатляющие места из этих речей 435. Если рассматривать их лишь с точки зрения оратор ского искусства, то они уступают его прежним выступлениям. Хотя в них и содержатся великолепные примеры красноречия, все же в этом отношении они слабее, чем знаменитая речь о войне с Россией или произнесенная прошлой весной речь о восстании в Индии 436. Но это было вызвано необходимостью. Непосредственная цель оратора заключалась в выдвижении политической программы, пригодной для разрешения двух весьма от личных друг от друга задач. С одной стороны, она была предназначена для немедленного представления в парламент в качестве законодательного мероприятия, а с другой — должна была послужить призывом к объединению всех отрядов сторонников реформы и на деле создать сплоченную партию реформы. Эта задача, которую г-ну Брайту надлежало разрешить, не позволила ему особенно выставлять напоказ ораторское искусство, а потребовала прямоты, здравого смысла и ясности. В похвалу ему в этом случае достаточно сказать, что г-н Брайт вновь проявил себя как непревзойденный оратор, приспособив свой стиль к теме выступления. Его программу можно было бы определить как сведение того, что называлось Народной хартией, до уровня буржуазии 437. Он полностью приемлет один пункт этой программы — баллотировку488. Он сводит другой ее пункт — всеобщее избирательное право — к праву голоса для налогоплательщиков, хотя и заявляет, что он лично возлагает на всеобщее избирательное право большие надежды; таким,образом, избирательный ценз, вводимый теперь для выборщиков от прихода или города, достаточен и для того, чтобы сделать человека избирателем в масштабе империи. И наконец, Брайт сводит третий пункт Хартии, а именно уравнение избиратель ных округов, к более справедливому распределению представительства от различных избирательных округов. Таковы его предложения. Он хотел бы, составив законопроект, представить его в парламент как собственный билль о реформе в противовес тем мероприятиям землевладельцев, которые, по-види мому, собирается выдвинуть кабинет Дерби; при этом Брайт полагает, что единство, как это имело место в случае с биллем о реформе 1830 г. 362, возникнет, лишь только проект будет внесен на обсуждение палаты общин. Когда предложенная
Г-Н ДЖОН БРАЙТ
313
реформа будет поставлена на рассмотрение, в ее поддержку из различных городов должны быть посланы петиции. Палата общин, вероятно, отступит перед всеобщим волеизъявлением, а если правительству, что вполне возможно, придется прибегнуть к новым выборам, возникнет еще одна возможность для агитации. И наконец, г-н Брайт желает, чтобы партия реформы отвергла любой проект, требующий меньшего, чем он.
Впечатление, произведенное этими выступлениями в Англии, вне всякого сомнения, достаточно полно отражено лондонскими газетами. «Times» с плохо скрываемым раздражением сравнивает последнюю и самую значимую речь с легендарной мышью, которую, согласно римскому поэту, произвела на свет гора *. Содержание речи, утверждает газета, банально. В ней нет ничего нового. Даже ее словесная оболочка не нова. Любой уличный оратор, разглагольствующий по поводу реформы, мог бы произнести точно такую речь, в точно таких же выражениях. Единственное, что кажется новым «Times» — по причине ее собственной устарелости, — это дурной вкус г-на Брай-та, откопавшего давно забытые ругательства в адрес палаты лордов, — словно лорды не снизошли до того, чтобы стать популярными проповедниками социологии, поучающими низшие сословия, как с бодростью переносить предопределенное им подчиненное положение! — словно Бирмингем 1858 года подобен Бирмингему 1830 года с его революционным политическим союзом! Только дурно воспитанный человек может допустить такие вышедшие из моды анахронизмы. С другой стороны, «Times» приведена в" недоумение недостатком проницательности со стороны г-на Брайта, выступившего в защиту баллотировки, ведь не может же он не знать, что все ниспосланные небом государственные деятели — виги и тори, пилиты и последователи Пальмерстона — единодушные противники этой политической ереси. Торийская пресса, со своей стороны, оплакивает заблуждения столь «честного» человека, как г-н Брайт. Она утверждает, что он позволил завлечь себя в ловушку, предательски расставленную для него фарисеями вигами. По-видимому, она считает эту речь явным нарушением перемирия между радикалами и консерваторами. Однако пальмерстоновская газета « The Mor ning Post» вовсе не разочарована, ибо она давно понимает, что от этого упрямого круглоголового 439 ничего хорошего ждать не приходится. « The Morning Chronicle», занимающая промежуточное положение между пальмерстоновской прессой и
* — Гораций. Наука поэзии. 139. Ред.
314
К. МАРКС
прессой последователей Дерби, в интересах самого г-на Брайта горюет по поводу того, что он якобы отбросил всякую сдержан ность и выступил не как государственный деятель, а как демагог. С другой стороны, радикальная пресса и особенно радикальные дешевые газеты единодушно одобряют как принципы г-на Брайта, так и форму, в которой он изложил их 440.
Написано К. Марксом 29 октября 1858 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в газете « New- York Daily Перевод с английского
Tribune» M 5479, 12 ноября 1858 г.
в качестве передовой На русском языке публикуется впервые
[ 315
К. МАРКС
* СИМПТОМЫ ВОЗРОЖДАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ 441
Париж, 9 ноября
Жителям этого города в общем так надоели успехи свободы за границей, что они почти забывают следить за успехами рабства у себя дома. И все же то там, то здесь на социальной поверх ности общества появляются симптомы возрождающейся внутренней жизни.
Напомним, в частности, энергичное осуждение г-ном Берье упадка роли barreau * и растущего сервилизма французского правосудия. Другое доказательство — попытки либералов всех оттенков возобновить борьбу и, по крайней мере, в печати поставить преграду потоку низостей, который ежедневно низвергается на страну через шлюзы декабрьской прессы. Так, в Париже господа д'Осонвиль, Жюль Симон, Бартелеми-Сент-Илер, Одилон Барро, Дювержье де Оран, Барни, Оро и другие пытаются делать в этом направлении все возможное. В департаменте Мёрт ** группа независимых писателей приступила к публикации периодического издания под названием ((Varia» с целью борьбы с чудовищной централизацией, сжимаю щей Францию в своих смертоносных объятиях, подобно змеям, опутавшим тело Лаокоона; такого же рода издания предпринимаются и в Эльзасе. Тем не менее, по-видимому, руководящую роль в новой либеральной оппозиции берет на себя парижский еженедельник ((Courrier du Dimanche». Достаточно даже беглого взгляда на. его страницы, чтобы представить себе сразу огромные трудности, которые стоят на его пути, да, кроме того,
* — адвокатуры. Ред. *• — Мёрт и Мозель. Рев.
316
К. МАРКС
похоже, что и авторы его в большей или меньшей степени заражены духом коррумпированной среды, воздухом которой они дышат. И все же прилагаются значительные усилия для выяснения, и поэтому я предполагаю дать обзор их последних критических выступлений по поводу памфлетной литературы о Бонапарте *.
Написано К. Марксом 9 ноября 1858 г. Печатается по рукописи
Перевод с английского Публикуется впервые
* На этом рукопись обрывается. Ред.
[ 317
К. МАРКС
* ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКИ О РОССИИ
ДЛЯ ОСВЕДОМЛЕНИЯ ЦАРСТВУЮЩЕГО ИМПЕРАТОРА» 442
Сразу же после урегулирования вопроса о регентстве в Прус сии и отставки министерства Мантёйфеля его преемники обнаружили среди прочих официальных бумаг весьма любопытную «Памятную записку о России». Несмотря на все меры предосторожности, извлечение из этой Записки попало в руки посторон них лиц, которые сочли данный момент подходящим для публикации подобного государственного документа.
Все цитаты, дословно приводимые по оригиналу, взяты в ка вычки. Опуская общие соображения о русской истории, которыми открывается документ, начнем с того, что относится ко времени Петра Великого *.
Написано К. Марксом 14 июля 1859 г.
Напечатано в газете « New- York Daily Tribune » M 5703, S августа 1859 г.
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
• В «Das Volk» публикации «документа» Маркс предпослал следующее: «Под этим заголовком орган уркартистов «Free Press» опубликовал документ, который имеет такое большое значение для Пруссии и Германии, что мы его приводим здесь полностью. Мы сами в одном из ближайших номеров займемся тайными нитями драмы, где в роли комедианта выступает Бонапарт, а в роли распорядителя — Россия. А пока, мы предоставляем слово «Free Press»». Ред.
318 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА. 1859 г.443
1 января Новогодняя речь Бонапарта 444.
26 февраля Миссия Каули 446 с целью успокоения и вы-
вода [войск] обоими [государствами *] из Папской области.
Март Австрия вооружает и усиливает армию,
находящуюся в Италии.
23 апреля Австрийский ультиматум Турину: немедлен-
ное разоружение или начало военных дей ствий. Кавур обращается к конгрессу, на который по предложению Англии дали согласие Франция, Пруссия и Россия *4в.
24 » Часовые на границе.
25 » Французские войска высадились в Генуе.
26 » Австрийцы перешли через Тичино, открыв
военные действия.
27 » Бегство великого герцога ** из Тосканы ввиду
революции. Временное правительство. 11 мая заменено пьемонтской комиссией 447. По сообщениям из Вены: оборонительно-наступательный союз между Францией и Россией.
29 апреля Австрия укрепилась в Ломеллине.
Францией и Австрией. Ред. Леопольда II . Ред.
ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА. 1859 г.
319
1 мая
|
W |
» |
|
20 |
» |
|
SI |
» |
|
4 июня |
|
|
7 |
» |
|
24 |
» |
|
5 июля |
|
|
7 |
» |
|
XI |
» |
Герцогиня Пармская была вынуждена бежать, вернулась на несколько дней, но затем покинула [герцогство] навсегда.
Бонапарт [отправляется] в Италию.
Сражение при Монтебелло 448.
То же при Палестро 449.
Битва при Мадженте 450 .
Сражение при Меленьяно.
Сольферино 4 И .
Лорд Рассел в депеше отговаривает от аннек сии Савойи 452.
Перемирие в Виллафранке.
Там же прелиминарный мир im .
Написано Ф. Энгельсом около 19 июля 1859 г.
Печатается по рукописи Перевод с немецкого Публикуется впервые
320 ]
К. МАРКС
БУДУЩЕЕ ИТАЛИИ 454
Опубликованная 9 сентября в «Moniteur» и ставшая уже знаменитой статья об итальянских делах получена, как полагают, непосредственно от самого Луи-Наполеона; статья, вызвавшая столь широкие комментарии, включает, можно считать, три основных момента. Первым из них является апология Виллафранкского договора 453, особенно той его части, которая предусматривает реставрацию изгнанных эрцгерцогов. Второй момент — это признание, что договор и предшествовавшая ему дорогостоящая война не принесли никакого урегулирования итальянских дел, а также попытка переложить вину за эту неудачу с самого договора на плечи тех, кто препятствовал осуществлению предусмотренной им реставрации изгнанных суверенов. Третий момент — предостережение итальянцам: коль скоро они не желают сообразоваться с порядком, который счел нужным установить для них французский император, то им больше нечего ждать от него; они должны быть готовыми к тому, что Австрия при полном невмешательстве Франции снова вернет себе прежнее положение угнетателя итальянцев, находящихся под ее непосредственным владычеством, ревнивого, жестокого и вечно неусыпного врага итальянской нации, постоянно угрожающего Италии большой армией и постоянно держащего эту страну в состоянии тревоги и недоверия.
В оправдание самого факта заключения договора и того, что вопреки провозглашенной в начале войны программе значительная часть Италии осталась под властью Австрии, приводится ссылка, во-первых, на мощь самой Австрии, которая,
БУДУЩЕЕ ИТАЛИИ
321
несмотря на поражение, все еще располагает численным пре восходством войск с мощными крепостями за ними, во-вторых, и это главное, на нависшую опасность вмешательства со стороны Германии, что вынудило бы императора Наполеона перенести свои военные действия на берега Рейна, тем самым серьезно рискуя потерей уже полученных в Италии преимуществ. В оправдание же соглашения о реставрации изгнанных эрцгерцогов Наполеон ссылается на то, что только этой уступкой ему удалось побудить императора Австрии * войти в предлагаемую Итальянскую конфедерацию, тем самым признать итальянскую нацию и по доброй воле отказаться от господства и контроля над итальянским полуостровом, которыми он обладал ранее и которые явились причиной минувшей войны. В качестве еще одной причины своего согласия на реставрацию эрцгерцогов Наполеон ссылается на контробязательство Австрии (о котором говорится впервые) дать Венеции собственное управление, отличное от общей администрации Австрийской империи. Иными словами, превратить Венецию из австрийской провинции, удерживаемой рукой завоевателя при помощи военной силы, в итальянское княжество с собственной местной администрацией, пользующееся в качестве члена Итальянской конфедерации преимуществами, вытекающими из принадлежности к итальянской нации. Наполеон выдвигает и другой довод в оправдание соглашения, которое выглядит как предательство по отношению к тем, кого он сам же поощрял действовать, и в результате которого так пострадала его популярность среди итальянцев. Он говорит, что возвращение эрцгерцогов предусматривалось с согласия народа и при наличии гарантий на будущее, а ни в коем случае не с помощью иностранных войск.
В статье далее яркими красками расписывается, чего можно было бы ждать, если бы итальянский народ искренне принял и претворил в жизнь соглашение об Италии, на котором сошлись оба императора. Из грозы и ужаса Италии Австрия сразу превратилась бы в дружественную или по меньшей мере безобид ную силу. Итальянская конфедерация, обеспечив на деле существование итальянской нации, в лице Сардинии, как своего самого влиятельного члена, обрела бы представителя дела Италии. Но к великому горю августейшего автора из «Moniteur», все эти надежды были разбиты недальновидностью и своекоры стием, как он утверждает, тех, кто стоял и все еще стоит на пути реставрации изгнанных эрцгерцогов; и он заявляет, что
f — Франца-Иосифа ре$.
322
К. МАРКС
по причине такого их поведения война и договор потерпели полную неудачу. Поскольку эта часть договора не достигла своей цели, Наполеон заявляет, что Австрия освобождается от своих обязательств в отношении Венеции и Итальянской конфедерации. В обоих этих вопросах у нее теперь развязаны руки, и она вольна продолжать свою старую политику: рассматривать вооруженные силы по южному берегу реки По как основание для того, чтобы держать на военном положении свои собственные войска на противоположном берегу и фактически занимать по отношению ко всей остальной Италии ту самую позицию, которая явилась причиной минувшей войны и которая в конечном счете не преминет вызвать новые смуты и бедствия.
Заявление, что в Виллафранке не предполагалось использовать вооруженную силу для реставрации изгнанных эрцгерцогов, было, по-видимому, понято в Италии как равнозначащее декларации со стороны Наполеона о недопустимости использования иноземных войск в этих целях, и с этой точки зрения статья в «Moniteur» была принята там с удовлетворением. Но она не дает никакого основания для подобного толкования. Самое большее, что она означает, это следующее: Наполеон не связал себя обязательством прибегнуть к силе для выполнения данного пункта договора и не намерен это делать. Но в этом заявлении нет ни малейшего намека на то, что он счи тает себя обязанным вмешаться в случае, если бы Австрия нашла нужным переправиться через По, для чего ей изыскать предлог вовсе нетрудно. С другой стороны, его слова можно понять только как предупреждение, что его игра с вмешательством в итальянские дела окончена и что он снимает с себя всякую ответственность за могущее произойти в Италии в будущем. Касаясь предполагаемого европейского конгресса по итальянским делам, он даже высказывает предположение, что от Австрии нельзя ничего добиться без компенсации. Во всяком случае, единственной альтернативой является война. В этом отношении Франция сделала все, что намеревалась, и итальянцы напрасно будут ждать, что кто-либо еще захочет ввязаться из-за них в войну.
Действительно, статья, по-видимому, предлагает итальянцам альтернативу: либо согласиться с реставрацией эрцгерцо гов, либо оставить все надежды на дальнейшее французское вмешательство и готовиться иметь дело с Австрией самим, как уж они сумеют. И в самом деле, судя по благосклонному тону, каким в статье говорится об императоре Австрии и его готовности ради взаимопонимания с Францией пойти на жертвы,
БУДУЩЕЕ ИТАЛТТИ
323
которые были принесены им при заключении Виллафранкского мира, по-видимому, не приходится сомневаться в отсутствии всякого намерения затевать с ним новую ссору. С другой стороны, главная цель этого манифеста, видимо, заключается в том, чтобы дать понять Австрии, что, поскольку это зависит от Франции, она вольна поступать с Италией так, как ей заблагорассудится. Истратив 100 млн. долларов и уложив на поле брани 50 тысяч солдат ради создания Итальянской конфедерации, которая оказалась химерой, французский император намерен оставить всякое дальнейшее попечение об итальянских делах.
Написано К. Марксом около 12 сентября 1859 г.
Напечатано в газете
« New - Yorh Daily Tribune »
M 5752, 29 сентября 1859 г,
в качестве передовой
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
324 ]
К. МАРКС
* О РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА 485
...образуя [общественное целое. Мой труд выступает, таким образом, как самостоятельная часть всего общественного труда. Различные виды труда составляют различные части общественного труда и взятые в совокупности выступают, таким образом, как разделение труда, которое посредством обмена представляется как целое, как дополняющие друг друга части, как звенья системы общественного труда.
В этом разделении труда, которое находит выражение в обмене различными видами полезного труда, следует различать две стороны.
Во-первых, то, что связывает виды труда, это их разность, а не их тождественность, их разнообразие, а не их единообра зие. Разделение общественного труда представляет собой совокупность разнообразных видов труда, взаимно дополняющих друг друга именно благодаря различию между ними, благодаря их разности.
Свой труд сапожника, воплощенный в башмаках, сапожник хочет обменять на хлеб, чай, сахар, уголь, мясо, одежду, шляпу и т. д., то есть на труд булочника, труд крестьянина, выращивающего чай, труд рабочего сахарного завода, труд мясника, труд портного, труд шляпника и т. д. Он обменивает свой труд на труд других, потому что труд других отличается от его собственного труда, и таким образом удовлетворяются потребности, которые его собственный труд не удовлетворяет; этот труд других воплощается в жизненных средствах, в которых его собственный труд воплотиться не может. Будь труд других того же рода, что и его собственный, он не нуждался бы в их
О РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА
325
труде и не стал бы обменивать на него свой. Следовательно, труд, поскольку он является полезным трудом, обменивается на другие виды труда, потому что они отличаются друг от дру га в той мере, в какой они отличаются друг от друга и принадлежат к различным сферам человеческих потребностей.
Во-вторых, если бы я выполнял сам все виды труда, которые необходимы мне для жизни, то есть сам производил бы для себя все жизненные средства, то я не нуждался бы в труде других и не стал бы обменивать свой труд на труд других, ко торые равным образом выполняли бы сами все виды труда, необходимые для поддержания их жизни. Если я не только тачаю сапоги, но и сам пеку свой хлеб, варю свое пиво, выращиваю свою пшеницу, тку свою одежду, я не стану обменивать свой труд сапожника на труд пекаря, пивовара, земледельца, ткача.
Мой труд односторонен, но он удовлетворяет некую общественную потребность, потребность других членов общества. Я не смог бы заниматься только этим односторонним трудом, если бы не знал, что другие члены общества выполняют другие необходимые виды труда и таким образом дополняют мой. Труд для удовлетворения одной общественной потребности является, таким образом, исключительным трудом отдельного определенного индивида, который превращает его в свою профессию.
Написано К, Марксом осенью 1SS9 г. Печатается по рукописи
Перевод с немецкого Публикуется впервые
326 ]
К. МАРКС
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН III И ПРУССИЯ «и
Берлин, 12 июня 1860 г.
Ниже следуют выдержки из самоновейшей брошюры г-на Абу, выходящей в ближайшие дни в Париже:
«Да будет известно Германии, что дружба Франции кое-чего стоит. Разве наши солдаты не ринулись к Черному морю спасать от гибели Оттоманскую империю? Разве освобождение молдаван и валахов не было осуществлено без кровопролития исключительно благодаря нашему влия нию? Под нашей эгидой Италия вступила на путь независимости и единства, наши армии проложили дорогу, по которой она сейчас идет вперед под руководством Пьемонта, и, если небо позволит завершить этот вели кий труд, если у наших ворот организуется 26-миллионная нация, Франция не будет в обиде». «Ибо она считает, что пока существуют угнетенные национальности и монархи, невыносимые для своих подданных, в Европе нельзя установить никакого порядка».
«Никогда еще эта благородная нация»
(Германия)
«не была столь великой, как с 1813 по 1815 г., ибо никогда она не была столь единой. Когда француз о восхищением говорит о таких страшных для Франции кампаниях, его свидетельство заслуживает внимания. Чувства чести и независимости Германии, пробужденные завоеванием, сотворили чудеса. У страны была только одна страсть, одно сердце. Вся страна поднялась как один человек, и поражение наших несравненных армий показало, на что способна единая Германия».
«Пусть же Германия снова станет единой. Франция этого горячо желает, ибо она испытывает к немецкой нации бескорыстную любовь. Если бы нас снедало жестокое честолюбие, которое нам приписывают некоторые государи, мы не побуждали бы Германию к единству. Пусть Германия будет единой и образует столь монолитное целое, что всякое вторжение станет невозможным. Без всякого страха Франция смотрит, как на ее южной границе поднимается Италия с населением 26 миллионов человек, она не испытает ужаса и при виде 32 миллионов немцев на ее восточных рубежах»,
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН III И ПРУССИЯ
327
«Немцы начинают понимать, какое это безумие сохранять 37 разных правительств»,
они полны решимости добиться объединения.
«Их ядром будет Пруссия, ибо Пруссия олицетворяет свободу торговли и мысли, тогда как Австрия представляет протекционизм, деспотизм и все ужасы, порождаемые ее конкордатом 457. Поэтому они сплотятся вокруг Пруссии. Но Пруссия должна выбирать между божественным правом и правами народа. В то время как некоторые монархи цепляются за ложный легитимизм, действительно легитимные империи создаются на основе всеобщего избирательного права. Неаполитанский король * утверждает, что его подданные принадлежат ему, они же противопоставляют этим притязаниям вооруженное сопротивление. Французский император ** и король Сардинии *** заявляют в духе современной философии, что народы принадлежат только самим себе, и две великие нации почти единодушно избирают их своими вождями. Выскажется ли принц Прусский **** за божественное право или за права народа? Для него такое заявление тем более необходимо, что в 1849 г. Национальное собрание, плод всеобщего голосования, принесло во дворец королю ***** законную корону. А что сделал он? Он высказался за божественное право против прав народа; он согласился принять корону лишь при условии, что ее предложат ему государи»,
и прусские олухи аплодировали, заявляя:
««Мы не хотим трона, заплеванного демократией». Саксония и Баден свергли своих государей. Две прусские армии двинулись вперед во имя божественного права и вторглись в Саксонию и Баден. Саксонского короля ****** вновь усадили на престол, как и герцога Баденского; и после того как подобным образом все было улажено и баденская демократическая армия нашла убежище в Швейцарии, пруссаки хладнокровно расстреляли 26 немецких патриотов».
«Один прусский демократ недавно писал вюртембержцам: «Почему вы не присоединяетесь к нам?». Они ответили: «Будь мы пруссаками, мы все во главе с поэтом Улапдом оказались бы в изгнании»».
«Нет ничего более странного и более верного, чем это утверждение. После 1848 г. все европейские монархи, включая даже папу, предоставили амнистию. Прусская же амнистия еще не объявлена. Если принц-регент хочет заслужить награду своей страны, пусть он' вернет изгнанников и станет душеприказчиком Собрания 1849 г., подобно тому как Наполеоны стали душеприказчиками французской революции!».
«Позвольте нам опровергнуть некоторые ошибочные представления, существующие в Германии. Там полагают, доверяя некоторым феодальным газетам, что французская империя пребывает в состоянии рабства, что императорская власть сковала мысль, уничтожила народное представительство»
и выкинула к чертям собачьим наши свободы.
• — Франциск II. Ред. *• — Наполеон III . Ред. *•• — Виктор-Эммануил II. Ред. • *•• _ Вильгельм, будущий прусский король Вильгельм I , Ред, ••*•• — Фридриху-Вильгельму IV . Ред. »•»*♦• _ Фридриха-Августа II . Ред.
328
К. МАРКС
«Пруссаки полагают, что они более нас свободны и счастливы при своем либеральном и парламентском правлении. Верно, что французский император воздвигает величие и благоденствие Франции»,
прибегая к диктаторской власти,
«но в сущности своей это власть демократическая, ибо вручена она ему народом».
Но разве в Пруссии феодализм не пронизывает все стороны жизни?
«Французская армия предана императору, но она принадлежит не ему, а нации. А прусская армия, принадлежит она королю или нации? «Королю, — сказал на днях министр-президент Гогенцоллерн. — Представителям народа но должно быть никакого дела до армии»».
«Верно, что свобода печати у пас подвергается суровыми ограничениям, но право печатать и печататься не уничтожено, а лишь отсрочено. Нация согласна молчать в присутствии монарха, творящего великие дела, подобно тому как друзья философа или крупного писателя хранят молчание у него в кабинете. Что касается права, то оно остается неприкосновенным, и французы имеют возможность потребовать его в надлежащее время и в надлежащем месте, если император позабудет ( I ) вернуть его им». Берлинские авторы, вероятно, более свободны, несмотря на налоги, залог и т. п., «но кто гарантирует им продолжительность привилегии?». Дающая рука сможет и забрать их назад. Разница между нами и ими в том, что мы ссужаем наши свободы императору, тогда как они берут их взаймы у принца-регента».
«Немцы воображают, что мы позволили лишить себя своего парламентского режима. Это верно. С 1848 г. наш парламент изменился. Он перестал быть кликой, представляющей 400 или 500 тысяч человек; вся нация посылает своих депутатов в Законодательный корпус. Это собрание, избранное, как и сам император, всеобщим голосованием, уже не пользуется нелепой привилегией (!) нарушать ход государственных дел, подменять действие речами, единение — коалицией, государственный интерес — личным тщеславием, серьезный прогресс великого народа — потворством мелкому ораторскому честолюбию; зато собрание пользуется бесценным правом вотировать все налоги и все законы империи». «Имеется ли у нас какое-либо основание завидовать прусской конституции? Разве в Пруссии применяется принцип министерской ответственности? Вовсе нет. Разве палаты обладают призпанным правом отказа от вотирования налогов? Нет. И что такое прусские палаты? Та из них, которая соответствует нашему Законодательному корпусу или ( I ) палате общин, составляется при помощи скорее хитроумного, чем демократического меха низма». Положим, имеется округ, выплачивающий 300 тысяч франков прямых налогов. Налогоплательщики делятся на три группы: 15—20 круп ных собственников, уплачивающих 100 тысяч франков, составляют первый класс избирателей; второй класс состоит из 200—300 человек, которые вносят следующие 100 тысяч франков, и третий — из 2—3 тысяч человек, уплачивающих остальное. Каждый из этих классов избирает по шесть выборщиков, а эти 18 выборщиков, в свою очередь, избирают депутйга. Следовательно, представительство средних классов совершенно исключается, и потому-то г-н фон Финке, заседавший во Франкфуртском парламенте на стороне консерваторов, сейчас, не переменив своих убеждений, является самым передовым демократом в прусском ландтаге. Многого ли может добиться либеральная Германия с такси палатой? И даже если ниж-
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН III И ПРУССИЯ
329
няя палата проявит какое-то стремление к прогрессу, то разве не свяжет ее по рукам и ногам и не оттеснит верхняя палата? «Это собрание состоит из знати, занимающей место по праву рождения, и лиц, избранных королем среди кандидатов, представленных ему дворянством, университетами и крупными городами, с одной стороны, право рождения, с другой — выбор монарха. Верхняя палата пополняется только из этих источников и поэтому противится всем либеральным мерам». За последнее время «она значительным большинством отвергла принцип гражданского брака, а недавно чуть не подняла восстание против министра *, предложившего обязать дворянство, подобно всем другим классам граждан, платить налоги».
«Эта конституция далека от совершенства. И если Германия решится броситься в объятия Пруссии, ее следует основательно изменить».
«Было бы весьма желательно, чтобы Пруссия проявила несколько большую справедливость по отношению к правительствам, опирающимся на всеобщее избирательное право. Мы не упрекаем берлинский двор за оскорбительные выпады немецкой печати. Мы и но ждем, что принц-регент будет затыкать рот своим подданным, даже когда они нас оскорбляют. Да будет нам, однако, позволено заметить, что если «Siècle» и «Opinion nationale» оскорбительно отзовутсн о монархе, не являющемся врагом Франции, то «Moniteur» или, по меньшей мере, официозные газеты поспешат загладить обиду суровой отповедью».
«Было бы также крайне желательно, чтобы прусские политические деятели воздерживались в прусском парламенте от громовых нападок, открыто направленных против Франции. Когда г-н фон Финке заявляет в прусской палато депутатов о необходимости отвоевать у нас Эльзас и Лотарингию, это неблагоразумное выступление не настолько волнует французскую нацию, чтобы она взялась за оружие, но это доставляет повод с удовлетворением заявить, что опрометчивые поступки подобного рода невозможны во Франции». «Со времени вступления на престол Наполеона III и особенно после аннексии Ниццы * * и Савойи немецкие публицисты и, пожалуй, даже немецкие государи довольно громко выражают ни на чем не основанное недоверие к французской политике. Они упорно приписывают нам проект аннексии Рейнских провинций и захвата немецкой земли. Об этой беспочвенной тревоге заявляют так громко и настойчиво, что будь мы не столь беспристрастны, это могло бы навести нас на дурные мысли. Бесспорно, что если вы подойдете на улице к самому мягкому и безобидному человеку и скажете ему: «Милостивый государь, вы намерены дать мне пощечину. Можете клясться, что у вас нет такого намерения, но я знаю, что вы хотите дать мне пощечину. Незачем клятвенно уверять меня в обратном, потому что я не поверю вам и вашим клятвам, так как знаю, что вы намерены дать мне по физиономии. Но я сильнее вас. Я вас не боюсь. Я раздавлю вас, как муху. И я вызываю вас, попробуйте дать мне пощечину», — разве мягкий и самый безобидный человек не нашел бы зто достаточным поводом для совершения того, что от него требовали, разве он не дал бы пощечины провокатору?».
«Но никакие провокации не заставят Францию отступить от линии, которую она себе начертала. Мы слишком справедливы, чтобы думать о завоевании территории, принадлежащей другой нации. Дай бог, чтобы Германский союз вдохновлялся теми же идеями! Тогда он не захватил бы герцогства Познанского, не напал бы на северный Шлезвиг, не объявил бы Триест немецким городом. Что касается нас, то мы не боимся утверждать, что Лотарингия и Эльзас являются французскими, ибо они сами
• — Роона. Ред. ** Слово «Ницца» ывсано » текст брошюры Лбу Марксом. Р«в,
330
К. МАРКС
подтвердили это вопреки немцам. Мы храним то, что нам принадлежит. Большего мы не хотим! Мы считаем, что все естественные границы, все реки Европы и вполовину не так ценны для защиты нашей территории, как полк зуавов или пеших егерей с примкнутыми штыками».
«Будет ли нам позволено добавить к этим дружеским советам еще одно пожелание? Оно покажет, как глубоко мы заинтересованы в единстве Германии и будущем Пруссии».
«Насколько имя Пруссии, ее конституция, личность ее августейшего принца-регента вызывают симпатию в Германии, пожалуй, еще более сильно чувство отвращения, которое внушает ее бюрократия, и не только в Германии, но и у честных людей во всех странах. 12 мая 1860 г. луч света озарил махинации прусской полиции; он явил взорам самую странную смесь неуклюжести и безнравственности, усердия и неосторожности, провокационных подстрекательств и неуклюжего макиавеллизма».
«Вот факты в том виде, как они были доложены прусскому ландтагу достопочтенным депутатом от великого герцогства Поинанского г-ном Не-голевским. Три прусских чиновника — президент Познанской провинции г-н фон Путкаммор, нолицей-ирезидент г-н фон Берешпирумг и секретарь-переводчик г-н Пост — искали способ проявить свое усердие и снискать признательность правительства. Г-н фон Путкаммер — важная персона, нечто большее, чем префект, нечто меньшее, чем министр; г-н фон Беренга-прунг — человек известный и значительный; Пост — мелкая сошка».
«Первый сочиняет, второй диктует, третий пишет. Эти три достойные личности, раскинув своими чиновными мозгами, набрели на великую мысль поднять восстание в Познани, чтобы затем снискать собе честь и славу его подавлением. Роль агента-провокатора, перед которой отступил бы и Видок, не внушала им отвращения. Они приняли личину поляков, недовольных прусским правлением. У себя в канцелярии они создали мнимый демократический комитет и вошли в сношения с центральным комитетом, находящимся в Лондоне. «Шлите нам, — повторяли они, — шлите нам эмиссаров, прокламации, оружие». Со своей стороны они посылали в Лондон деньги, взятые из бюджета, талеры, вырванные у злосчастных налогоплательщиков. Налогам было найдено неплохое применение. Казначеем этого предприятия стал секретарь полиции г-н Штольценберг. Письма следовало адресовать жене советника Верховного суда г-же Рух».
«Лондонский комитет поддался на приманку не сразу. Он колебался, не доверял. По-видимому, он чуял измену. Но чиновное трио так смиренно умоляло прислать несколько писем и циркуляров, с таким восхищением говорило о генерале Мадзини, с таким волнением отзывалось о прозе Феликса Пиа, этом хлебе насущном, что некоторые революционеры в Лондоне, включая даже самого Мадзини, вступили в переписку с ними. Эта вероломная игра шла три года, она продолжалась бы по сей день, если бы не была внезапно остановлена громами г-на Неголевского».
«Красноречивый познанский оратор выложил на стол подлинники 24-х писем, написанных г-ном Постом и продиктованных г-ном Берен-шпрунгом по внушению г-на Путкаммера. Первое датировано 19 августа 1858 г., последнее — апрелем 1860 г. Никто, даже министр внутренних дел г-н фон Шверин, не рискнул оспаривать подлинность этих документов. Мы располагаем переводом, осуществленным приведенным к присяге переводчиком. Письма свидетельствуют о том, что прусская полиция побуждала лондонский комитет посылать зажигательные прокламации в великое герцогство Познанское, оплачивала расходы по печатанию этих прокламаций в Лондоне и способствовала их распространению среди лиц, находящихся на подозрении, с тем чтобы их потом можно было схватить, а полиция сумела бы продемонстрировать свое усердие sa счет некоторых
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН III И ПРУССИЯ 331
подданных прусского короля; письма доказывают, что Путкаммер, Берен-шпрунг и их сообщники уговорами и посулами побудили лондонский комитет прислать к ним эмиссара по имени Рьюитт, которого они»
(то есть полиция)
«снабдили паспортом, дали ему возможность свободно передвигаться, с тем чтобы он скомпрометировал как можно больше народу, затем его арестовали и приговорили к двум годам тюремного заключения». После этого славного подвига г-н фон Береншпрунг, спаситель им же нарушенного порядка, выставил свою кандидатуру в парламент, однако был забаллотирован, «но он продолжал свою переписку с Мадзини и лондонским комитетом, клятвенно заверяя их, что Рьюитта выдала польская знать (письмо от 5 июля 1859 г.) и что ряд польских дворян находится на службе у полиции (письмо от 19 июля 1859 г.)».
«Эти чиновники в своих письмах стремились очернить в глазах лондонского комитета польскую знать и духовенство, включая князя Чарто-рыского. Они говорят о захвате помещичьих имений и разделе их в интересах народа. 27 марта 1859 г. они узнают о том, что император французов собирается сделать великодушный жест, выступив в пользу итальянской независимости. Дабы опередить это, они пишут лондонскому комитету, умоляют Мадзини поднять страну до прихода французской армии, просят его водрузить красный флаг, прежде чем Наполеон сумеет вмешаться в итальянские дела. 21 мая они благодарят лондонский комитет за присылку им «рецепта изготовления бомб Орсини». Не надо быть провидцем, чтобы догадаться, зачем они получили этот рецепт. Мы знаем, что эти господа служат в полиции, а поэтому они не могли быть заговорщиками; намерения у них, должно быть, были самыми чистыми. Несомненно, они намеревались предостеречь императора от опасности, этим-то и объяснялась приписка к письму: «Долго ли еще французские демократы будут откладывать новое покушение на Наполеона?». После Вилла-франки 463 были основания предполагать, что каждый немец должен быть доволен тем, что Венеция осталась за Австрией, однако они писали Мадзини: «Революция разразится в Италии, Венгрии, Германии, Пруссии, может быть, во Франции и даже в Польше. Предательство Наполеона открыло глаза всему миру, и все угнетенные нации рады избавиться от него». И далее эти прусские полицейские агенты пишут: «Что происходит во Франции? Неужели не найдется второго Орсини? Разве республиканцы ничего не хотят сделать, чтобы свергнуть тирана?» (20 августа 1859 г.)».
«Мы не хотим возлагать ответственность за эти опрометчивые поступки на слишком высокие сферы. Полиция оказалась более неловкой, чем виновной, ибо ей не хватило такта скрыть свои секретнейшие бумаги от взоров честных людей. Но прусскому правительству следовало бы совлечь свою полицию с этого опасного пути; никогда не следует подталкивать людей к преступлению, даже как к средству узнать их подноготную».
«Всякий знает, что если бы Орсини преуспел в своем преступном покушении, он убил бы будущего освободителя Италии и причинил бы своей стране больше вреда, чем пользы. Можем также добавить, что если бы прусская полиция без всякого злого умысла, а просто из глупого усердия отыскала второго Орсини, она лишила бы Пруссию очень полезного союзника, который призван, может быть, оказать ей крупные услуги, лишь бы она пошла ему навстречу» 458.
|
Печатается по тексту газеты Перевод с английского |
Корреспонденция составлена К. Марксом Щ июня I860 г.
Напечатана в газете « New- York Daily Tribune » Л 5986, 30 июня I860 г.
12 М. и Э., т. 44
332 ]
К. МАРКС
* ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ [И. САБО]
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ С НАЧАЛА XVI СТОЛЕТИЯ
ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ» .
В 2-х ТОМАХ. ЛОНДОН, 1857 *
[ТОМ I ] 459
I ) 1520—1559 гг. Франциск I и Карл V
(1523 г. Расторжение Кальмарской унии4в0; Густав Ваза избран королем Швеции.)
В 1520 г. Карл ( V ) коронован императором в Экс-ла-Шапели (владетель Бургундии, Испании, Сицилии, Неаполя и Наварры, а также Австрии (после смерти Максимилиана I в 1519 году)).
Милан, на который Людовик XII притязал на основании права своей бабки из рода Висконти, отвоеван в 1515 г. Франциском I у Сфорца **, а теперь Карл притязал на него как на ленное владение Империи. Франциск также возобновил притязания Франции па Неаполь и Бургундию. Так началась четырнадцатилетняя война — несомненно из-за Милана.
Генрих VIII в союзе с Австрией. Испанская армия принуж дает французов (после поражения при Бикоко) оставить Миланское герцогство. Рим, Венеция, Флоренция и Генуя вступают в союз с Австрией.
У Франциска I ни единого союзника;
Шарль Бурбон (коннетабль) переходит на сторону Карла.
Вторая французская кампания (в Италии) под командованием генерала Бонниве. Французы разбиты. Карл Бурбон вступает в Прованс, англичане готовятся к вторжению в Пикардию.
Франциск изгоняет захватчиков с французской террито рии, отвоевывает Миланское герцогство (после битвы при Ма-риньяно).
• The State Policy of Modern Europe, from the Beginning of. the Sixteenth Century to the Present Time. In two volumes . London , 1857. Peä, • • — Франческо II. Рев,
выписки из книги [и. сабо] «гос. полит, современной европы» 333
В 1525 г. Франциск терпит поражение при Павии, его увозят пленником в Мадрид. Коалиция против Карла — мелкие итальянские государства, новый папа (Климент VII), Генрих VIII , Луиза Савойская (регентша Франции, мать Франциска). В 1526 г., чтобы получить свободу, Франциск соглашается с мадридским миром.
Союз между Франциском, папой, Венецией, Миланом, Флоренцией, Генрихом VIII 461 .
Бурбон вместе с имперскими войсками вытесняет Сфорца из Милана, подвергает грабежу Рим. Франциск и Генрих VIII объявляют Карлу войну.
Французская армия завладевает Римом, осаждает Неаполь. Болезни во французском лагере, возвращение во Францию.
Карла сдерживают лютеранские князья Германии и войска Су-леймана. Османы захватывают почти всю Венгрию, которую стремился получить для себя Фердинанд, брат Карла. Сулейман подходит к стенам Вены.
1529
г. Камбрейский
договор (traité
des dames) M2. Франциск
снова
отказывается от своих притязаний на Милан, Неаполь и Фландрию. Что
касается Бургундии, одной из главных причин раздора, — лишь времен
ное соглашение: женитьба Франциска на Элеоноре Португальской, сестре
Карла, снова оговаривалась в качестве особого условия.
Карл обращается против лютеран.
Отныне у государей две линии в политике в отношении внутренних и внешних дел, папа даже ищет союза с неверными.
1530
е.
Аугсбургский рейхстаг ш. Постановление,
осуждающее ново
введения. Протестанты создают Шмалькальденский союз ш, ищут
помощи
Франции и Англии. Франциск идет навстречу предложению; заключает
также союз с Яношем Заполья из Венгрии, соперником Фердинанда
Австрийского, и посылает Ринкона в Константинополь, чтобы заручиться
поддержкой султана. Франциск женит своего сына * на Екатерине Медичи,
племяннице папы, в то время как Генрих
VIII
рвет связи между
Англией
и римским престолом 4М.
1532 г. Временный Нюрнбергский мир
(между Карлом и протестантами).
Экспедиция Карла против Барбароссы **. 1535 е. После шести лет мира
Франциск возобновляет войну (третья война),
вновь появляется в Италии; успех; диктует условия Милану и Савойе. Карл возвращается победителем из Алжира, вытесняет французов из Италии, вторгается в Прованс, откуда его, в конце концов, изгоняют.
1538 г. Мир в Ницце сроком на 10 лет. Однако два французских посланника (Ринкон в Порте, Фрегосо в Венеции) по приказу Карла схвачены в Италии, вероломно убиты. Франциск возобновляет войну. Пять армий приведены в движение, но все тщетно.
В 1544 г. мир в Креспи: Франциск отказывается от своих притязаний на Неаполь и Артуа, обязывается не вмешиваться в дела Наварры.
* — Генриха II. Ред. *• — Хайраддина Барбароссы, Ред,
12*
334
К. МАРКС
(Генрих VIII снова склонился на сторону Карла.) 1547 в. Умер Франциск I ; его сын Генрих II .
Карл обращается против Шмалькальденского союза.
В 1547 г. благодаря Морицу Саксонскому победа имперских войск при Мюлъберге, распад союза.
Карл провозглашает Interim 30 '.
Мориц, заручившись содействием Генриха II , внезапно нападает на императора в Тироле.
(Карл в 1552 г. вынужден пойти на Пассауский мир с протестантами)
в том самом году, когда французы вторглись в Лотарипгское герцогство, чтобы захватить там Мец, Туль и Верден. Карл отброшен от Меца и в 1556 г. удаляется с политической сцены, разделяет свои владения между своим братом Фердинандом Австрийским и своим сыном Филиппом II .
В Италии и Нидерландах продолжается война между Генрихом II и Филиппом II.
1559 г. Като-Камбрезийский договор. Каждая сторона была обязана возвратить все завоеванное ею с 1551 г.; Франция отдала, кроме Савойи 37в, более 180 крепостей. Брак Елизаветы, дочери Генриха II, с Филиппом II . Смерть Генриха П.
В сущности, это был период (период Карла V ) господства Габсбургов. Франция первой поднялась против него, но при поддержке лютеран в Германии, Сулеймана, Венгрии (Заполья) и папы (Климента), а также используя соперничество мелких итальянских государств.
II ) 1559—1618 гг. Нидерланды и Филипп II 1559 г. Франциск II во Франции.
(Религиозные войны во Франции.) 1566 г. Начало волнений в Нидерландах.
1572 г. Вильгельм Оранский провозглашен правителем Голландии, Зеландии, Утрехта. 1579 г. Утрехтская уния.
Елизавета в Англии.
В 1562 г. (после договора Елизаветы с протестантами во Франции) договор с Карлом IX (французским). В этот договор вовлечены Фердинанд (император) и Филипп II .
1572 г. Варфоломеевская резня.
До 1585 г. Нидерланды предоставлены самим себе, В 1585 г, союзный договор Елизаветы с Нидерландами,
ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ [И. САВО] «ГОС. ПОЛИТ. СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ» 335
1589 г. Убит Генрих III, последний из Валуа.
Генрих Наеаррский (Генрих IV).
1593 г. Союз между Елизаветой и Генрихом IV в Гааге; Нидерланды включены в него.
1598 г. Мир в Вервене между Генрихом IV и Филиппом II (взаимное возвращение эемель, завоеванных с 1559 г.). Этот мир возвестил о том, что преобладание Испании пошло на убыль. (В том же самом году Нант-ский эдикт.) Смерть Филиппа II. Филипп III . (1588 г. Разгром Армады.) Смерть Елизаветы. Яков I .
1609 г. Договор между Генрихом и Испанией о прекращении военных действий против Соединенных провинций (по форме — перемирие на 12 лет; фактически — признание независимости Нидерландов). (Испанская ветвь Габсбургов еще сохранила владычество над Италией и в 1581 г. приобрела Португалию.)
План переделки Европы, принадлежащий Генриху IV (унижение Австрии) 382.
Согласно этому плану:
Италия: папа — светский владыка (Рим, Неаполь, Апулия, Калабрия под его властью); Венеция (республика, объединяется с Флоренцией, Моде-ной и небольшим числом других мелких государств); герцог Савойский (должен стать королем Ломбардии).
Богемия (выборное королевство; к ней следует присоединить Моравию, Силезию и область, заселенную лужичанами). Венгрия (к ней следует присоединить архиепископство австрийское, Штирию, Каринтию). Польша также должна быть увеличена в размерах. Швейцария (к ней нужно добавить Тироль, Эльзас и другие территории). Нидерланды, (должны стать республикой).
[Владения] Австрийского дома должны быть сведены к Испании и нескольким островам у побережья Средиземного моря.
Смерть Генриха IV в 1610 г.
(В этот период упадок старшей ветви Габсбургов.) III) 1618—1648 гг. (Тридцатилетняя война)
В 1617 г. договор между Густавом-Адольфом и Михаилом Федоровичем (первым Романовым). Швеция утверждается во владении Карелией, Кексгольмом и Ингрией. Московия отрезана от Финского залива и Балтики. Адольф (против Польши) утвердил свое господство в Ливонии и Польской Пруссии. Конец XVI столетия — пресечение династии Ягел-лонов.
Венгрия и Богемия теперь под властью Габсбургов, причем первой в ее попытках сбросить Габсбургов помогает и одновременно мешает Турция.
При Фердинанде I , Максимилиане, Рудольфе II (заполняющих XVI в.) Австрия не принимает никакого участия в войнах между Испанией и Францией; умиротворяет султанов уплатой дани
и ведет спор за Венгрию.
1606 г. В Венгрии устанавливается мир Венским договором (Рудольф II ). Признана независимость Трансильваиии46^. Персидский шах Аббас сдерживает Турцию; ее продвижение в Европе приостанавливается!
336
К. МАРКС
Восшествие на престол Фердинанда II (эрцгерцога Штирийского).
1618 а. Начало волнений в Богемии. Чехи предлагают корону Фридриху V (курфюрсту Пфальцскому); его союзником является Бетлен * (княяь Трансильвании).
28 августа 1619 г. Фердинанд II избран германским императором, заключает союз с Максимилианом Баварским, Испанией, папой * * и Марией Медичи (во время несовершеннолетия Людовика XIII, который женится на Анне, дочери Филиппа III). (Герцог Ангулемский заключает от имени Франции договор с Фердинандом II в Ульме в 1620 г.) Смерть Филиппа III . Филипп IV. Протестанты в Германии [находят] союзника в лице Кристиана IV Датского; армия Валленштейна. Начало войны *вв. Принц Уэльский вступает в брак с Генриеттой Французской ***.
1624 г. Приход к власти Ришелье.
1625 г. Ришелье затевает войну с Испанией, захватив Валь-теллину. Карл I (в Англии).
1626 г. Бетлен вынужден заключить мир с Фердинандом II 4в7 . Дания (участвующая в войне с 1625 г.) вынуждена пойти на сепаратный мир с Фердинандом II (1629 г.).
1629 г. Реституционный эдикт Фердинанда IIs 1 -. Ла-Рошель сдается Ришелье.
1629 г. Ришелье выступает посредником при заключении мира между Швецией и Полыней 408. Густав-Адольф (получив обещание французских субсидий) высаживает армию в Померании.
1631 г. Договор между Францией и Швецией.
(1629 г. После смерти мантуанского герцога Гонзага ***• претендентами на герцогство выступают: Карл, герцог Неверский и Фердинанд, [князь] Гуасталлы. Первого поддерживает Франция, второго — Австрия. Французская армия военной силой проложила себе путь на Сузу, утвердила герцога Неверского) 46в.
1632
г. Сражение
при Лютцене. Густав-Адольф убит.
1634 г. Поражение шведов при Нёрдлингеие.
Прямое участие Франции в войне в Германии.
Франция овладевает Эльзасом, после того как его крепости были передаиы французам их союзниками шведами. Ришелье устанавливает новый союз с Нидерландами. Курфюрст Саксонский ***** переходит на сторону императора; Пражский мир 47°.
Война возобновляется одновременно в Испании, Италии, Нидерландах, на Рейне я Дунае. Ришелье вторгается в Испанию. (1635 г.). Маршалы Шатийон и Врезе вступили в Нидерланды; Крекй в единстве с герцогом Савойским ****** в Италии; Гебриан и Тюренн действуют совместно со шведами на Рейне; другие войска вторгаются в Испанию.
Основные противники: на одной стороне Австрия и Испа ния, на другой — Франция, Швеция и Нидерланды.
#*
***
** • •
• ** * *
Габор Бетлен. Ред. Павлом V . Ред. Генриеттой Марией. Ред. Винченцо II Гонзага. Ред. Иоганн-Георг I. Ред. Виктором-Амедеем I , Ред,
ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ [И. САБО] «ГОС. ПОЛИТ. СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ» 337
1637 г. Смерть Фердинанда П. Император Фердинанд 111.
1640 г. Дьёрдь Ракоци, княаь Трансильвании, намеревается начать новую войну в Венгрии в союзе с Францией и Швецией; последняя (Франция) в союзе также с каталонцами, у которых вспыхивает восстание. Революция в Португалии; изгнание испанцев. Император, обеспечив перемирие с турками, завладевает половиной Венгрии. Победы французской армии в Италии, Испании, Фландрии, на Рейне.
4 декабря 1642 е. Смерть Ришелье. 1643 г. Смерть Людовика XIII . Маварини
(испанское регентство Анны) 471.
1645 а. Собрание полномочных представителей в Мюнстере (здесь обсуждались главным образом дела Швеции и протестантских государств) и в Оснабрюке (в основном дела Франции) зм (155 участников переговоров).
(Савойя — союзник Франции.)
Циркулярное письмо посла Франции: «Интереса Франции идентичны со свободой в Германии».
Победы французов и шведов.
«Голландцы опасались уже не своих наследственных врагов, испанцев, но французов, своих давних союзников, ныне ставших предметом их недоверия» (Бужан 4,г). «Они (голландцы) мало-помалу пришли к убеждению, что безопасность состоит в том, чтобы иметь в лице испанцев барьер против Франции» (1. с. *).
Прелиминарное соглашение между послами Испании и Голландии.
1648 «. Победы шведов. Ратификация мирного договора между Испанией и Голландией мв.
Октябрь 1648 е. Мир. (Испания не включена в мирный договор.) Франция получила: Верхний и Нижний Эльзас, Врейзах, право держать гарпизон в Филипсбурге, три епископства: Мец, Туль и Верден. Швеция —Западную Померанию, Штеттин, Гарц и т.д.; порт Висмар; епископства Верден и Бремен с правом участия в имперском сейме. Бран- денбург, Мекленбург, Ганновер, Гессен и т. д. компенсированы главным образом 8а счет церковной собственности. (Пинероло, раньше принадлежавший Савойе, передан Франции.) В Италии Австрия утвердилась в Ми лане и Тоскане. Признана независимость Голландии и Швейцарии
(последняя de facto с 1315 г.).
Что касается религиозных вопросов, то все они урегулированы на основе мирных договоров в Пассау и Аугсбурге (1552 и 1556 гг.). Импера тор даровал всеобщую амнистию на территории империи, за исключением своих собственных провинций.
(Богемия забыта.) 387 Ослабление младшей линии Австрийского дома.
• — loco of ta to — хам же , Ред .
338
К. МАРКС
IV) 1648—1660 гг. Франко-испанская война. Пиренейский мир
Кромвель.
1654 г. Война во Фландрии между Мазарини и Испанией.
1654 г. Мир между Англией и Голландией 473.
1655 г. Коалиция между Англией и Францией; торговый договор Англии с Францией. 1657 г. Кромвель посылает в помощь французам 6 тысяч солдат, приобретает Дюнкерк.
1657 г. Смерть Фердинанда III. 1658 е. Император Леопольд. Смерть Кромвеля.
1657 г. Коалиция Дании, Польши, Московии, Австрии против Швеции. (Карл-Густав — король Швеции.) Его единственный союзник — трансильванский князь Ракоци.
1659 г. Встречи между Мазарини и доном Луисом де Аро па острове Фозан (на реке Бидасоа). Брак Людовика XIV и Марии-Терезии, дочери Филиппа IV (полное отречение инфанты). Пиренейский договор 382. Франция получает: Аррасское графство в Нидерландах; некоторые земли во Фландрии; Гепнегау и Люксембургское герцогство; в Пиренеях Русильоц и Конфлан. Герцог Лотарингский обязан разрешать Франции проход ее войск [чороз свои земли].
Март 1661 г. Смерть Мазарини.
1654 г. Королева Кристина отрекается в пользу Карла X (сына сестры Густава-Адольфа) *.
Он связан союзом с курфюрстом Бранденбургским **, вторгается в Польшу. Тогда против него союз Дании с Московией и Голландией.
В 1660 г. Карл X вынуждает датчан к миру, получает Сконе, Халланд, некоторые земли на острове Рюген, освобождение от уплаты зундской пошлины 474, 1660 г. Смерть Карла X; ему наследует сын Карл XI . Возоб новляет договор с Данией; заключает Оливский мир ш с Польшей, которая уступает ему Ливонию, Эстонию и Эзель. 1661 г. Мир с Московией на основе status quo ante bellum ***.
«Таким образом Швеция утвердила свое преобладающее влияние на севере в то самое время, когда Франция сделалась всесильной на юге и западе Европы».
V) 1660—1697 гг. Войны Людовика XIV. Рисвикский мир
Реставрация в Англии.
Дюнкерк продан Людовику XIV Карлом II.
Война между Англией и Голландией.
Де Рейтер и Тромп вынуждают Англию к Бредскому миру (1667 г.). (Людовик XIV действовал в этой войне вместе с Голландией.) Людовик XIV помогает Португалии против Испании.
* — Катрины, Ред. •* — Фридрихом-Вильгельмом. Ред. *** — положения, существовавшего до войны. Ред.
ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ [И. САБО] «ГОС. ПОЛИТ. СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ» 339
1665 г. Смерть Филиппа IV Испанского (тесть Людовика XIV). Карл II (сын Филиппа IV —едва ли четырех лет от роду). (Вторая дочь Филиппа IV * — супруга императора Леопольда).
Людовик XIV на основании «деволюционного права» 475 выдвигает претензию на Испанские Нидерланды.
1667 г. Людовик XIV (Тюренн) завоевывает большую часть Испанских Нидерландов.
1668 г. (Зимой) усмиряет Франш-Конте.
22 января 1668 г. Тройственный союз между Англией, Голландией и Швецией. Франция должна была отказаться либо от своих завоеваний в Испанских Нидерландах, либо от Франш-Конте.
Май 1668 г. Мир Людовика XIV с Испанией в Экс-ла-Шапели (он удер живает свои завоевания в Нидерландах, отказывается от Франш-Конте).
1670 г. Заговор знати в Венгрии против господства Габсбургов. До говор Леопольда с Людовиком XIV . Усмирив Венгрию, Леопольд идет на голландцев.
1671 г. Секретный договор Людовика XIV с Карлом II Английским.
1672 г. Французское вторжение в Голландию.
1673
г.
Карл вынужден отказаться от союза с Францией.
Коалиция
Испании, императора**, Бранденбурга, Голландии, Дании против Фран
ции. Ее союзник — одна Швеция. Театр
военных действий перенесен из
Голландии в Испанские Нидерланды и к
германским границам.
1675 г. Начинаются переговоры в Нимвегене,
где:
10 августа 1678 г. Сепаратный договор между Людовиком XIV и Голландией. Сентябрь 1678 г. Испания заключает мир. Отказывается от Франш-Конте в обмен на возвращение некоторых земель в Испанских Нидерландах. Наконец мир заключает Леопольд 47в; Людовик выговаривает у Дании, Брауншвейга, Бранденбурга возвращение Швеции земель, завоеванных у нее в ходе войны. Людовик XIV у берегов Сицилии одержи вает победу над соединенным флотом Голландии и Испании. Но Нимве-генский мир не утвердил право Людовика на несколько городов в Эльзасе. 1681 г. Присоединительная палата в Меце 477.
Император стремится к войне [с Францией!, однако — война против Венгрии и Турции; в 1684 г. он заключает мир с Людовиком XIV в Ратисбонне.
1686 г. Союз между Голландией, Австрией, Савойей, Бранденбургом.
1688 г. Людовик XIV посылает армию на Рейн. Восшествие на престол Вильгельма III в Англии. Большой наступательный союз против Франции (Англия, Голландия, император Леопольд, Испания, Бранденбург, Виктор-Амедей Савойский).
* — Маргарита Терезия. Ред. »* — Леопольда I, Ред,
340
К. МАРКС
1689 г. Голландия, Англия, Испания и Австрия объявляют войну Франции.
(Сепаратный договор между Голландией, Англией и императором в мае 1689 г.) (Императору или его наследникам будет оказано содействие в воз можном наследовании престола Испанской монархии. Его сын Иосиф, король Венгрии, должен быть избрав германским императором.) (Фран ция должна быть ограничена условиями Вестфальского и Пиренейского договоров.)
Август 1696 г. Сепаратный мир в Турине между Людовиком XIV и Виктором-Амедеем Савойским. Пинероло передан Савойе.
1697 г. Рисвикский мир М8 .
Сперва мир между Францией, Голландией и Англией. Затем Испания.
Взаимная реституция. В июле 1697 г. мир с императором. Кель, Фрейбург, Брейзах, Филипсбург отданы Людовиком XIV в обмен на Страсбург.
В остальном — реституция всех эемель, приобретенных в ходе войны, кроме Эльзаса.
VI ) 1697—1715 гъ. Война за Испанское наследство. Утрехтский мир
11 октября 1698 г. В Гааге договор о разделе (Испании) между Людовиком XIV и Вильгельмом III. (Обе Сицилии, Тоскана, Гипускоа передапы дофину *. Милан — эрцгерцогу Карлу, второму сыну императора. Испания и другие ее владения — курфюрсту Баварскому ** и его наследникам.)
Февраль 1698 г. Смерть курфюрста Баварского.
11 марта 1700 г. Вильгельм и Людовик [соглашаются] на второй план раздела.
(Кроме владений по первому договору дофин должен полу чить Лотарингию, взамен которой герцог Лотарингский [получит] Милан. Все другие владения испанской короны — эрцгерцогу Карлу.)
1699 г. Карловицкий мир между Портой, Австрией, Венецией и Польшей.
1700 г. Союз между царем Петром, Польшей и Данией против Швеции, Карл XII нанес русским поражение под Нарвой.
Октябрь 1700 г. Завещание Карла //, назначающее его наследником герцога Анжуйского ***, второго сына дофина. Ноябрь 1700 $. Смерть Карла II . Герцог Савойский, герцог Мантуанский ****, Португалия и, наконец, король Вильгельм признают Филиппа V.
• — Людовику. Ред. ** Речь идет об Иосифе-Фердинанде. Ред. *** — Филиппа Анжуйского (Филиппа V ), Ред. »»** _ Фердинанао Карло. Ред.
выписки из книги [и. сабо] «гос. полит, современной европы» 341
Февраль 1701 г. Людовик XIV посылает войска в Испанские Нидерланды, вынуждает голландцев вывести оттуда их гарнизоны; особая грамота, которой он признает право Филиппа наследовать французский престол.
Сентябрь 1701 г. Второй Большой альянс478. Смерть Якова II . Людовик XIV признает претендента *. Смерть Вильгельма. Локальная война между Австрией и Францией в Италии 479.
1702 г. Королева Анна возобновляет Альянс. Май. Англия, Голландия и император ** объявляют войну Франции. (Португалия, Ганновер, Пруссия присоединяются). (Некоторые мелкие германские государства [так же].) (На стороне Людовика XIV — Бавария, Брауншвейг, Кёльн, герцог Савойский.)
1704 г. Гибралтар захвачен англичанами. 1706 г. Победа при Рамийи*** (Мальборо). Гражданская война в Венгрии480. Австрия завоевывает Неаполь.
1707 г. Карл XII в Саксонии.
(Венгрия в состоянии войны с Австрией с 1703 г.)
1709 г. Полтавское сражение. Карл XII [бежит] в Турцию.
1710 г. Порта объявляет войну России.
1711 г. Прутский мир между Турцией и Россией.
Предварительные соглашения о мире между Англией и Францией.
Апрель 1711 г. Смерть императора Иосифа. Наследником всех его владений становится его сын эрцгерцог Карл ш.
Согласно предварительным соглашениям (между Англией и Францией):
Дюнкерк подлежал разрушению; Англии предназначались Гибралтар и порт Маон, Ньюфаундленд и Гудзонов залив.
12 января 1712 г. В Утрехте открылся Генеральный конгресс. (Филипп отказывается от своих притязаний на Францию.) (Герцог Бер-рийский и герцог Орлеанский отказываются от своих притязаний на Испанию.)
Апрель 1713 г. Заключен Утрехтский мир между Англией, Францией, Испанией и Голландией. Помимо вышеупомянутых Франция уступила Англии свои владения на острове Сент-Кристофер, Новую Шотландию, Порт-Роял. От имепи Испании Людовик уступил Пруссии Верхний Гельдерн, признал за Фридрихом I **** королевский титул и его суверенитет над Невшателем. Савойя получила Сицилию и в случае отсутствия потомства у Филиппа V право наследования престола. Граница между Францией и Савойей — вершины Альп. Голландия получает торговый договор и обменивает некоторые земли. 11 апреля 1713 г. Торговый договор между Францией и Англией.
1711 е. Венгрия умиротворена договором, заключенным в Сатмаре. Царь Петр обещал помочь ему***** 30-тысячной армией,если получит возможность удержать за собой Лифляндию в качестве ленного владения Германской империи. Короткая кампания; на Рейне Франция одерживает верх над Австрией.
* — Якова Стюарта. Рев. •• — Леопольд I. Ред. ••* — Рамийи-Оффю. Ред. • ••• _ Фридрихом-Вильгельмом I . Ред. ■•••• _ императору Карлу VI . Ред.
342
К. МАРКС
7
сентября 1714 г. Баденский мир
между Францией а Австрией.
Франция признает право императора на
Неаполь, Милан, Тоскану,
Испанские Нидерланды; возвращает Брейзах и Фрейбург. Кёльнскому
и Баварскому курфюрстам должны быть
возвращены их владения.
1715 г. Георг I и Пруссия присоединились к новому союзу против Швеции.
Филипп V еще не признан Австрией. Лишь в 1715 г. — договор между Голландией и Австрией, которая уступает Голландии некоторые земли в Испанских Нидерландах в дополнение к праву держать гарнизоны в некоторых других землях.
1 сентября 1715 г. Смерть Людовика XIV .
VII) 1715-1721 гг.
Георг I и герцог Орлеанский объединяются в союз против Испании. (Альберони.)
8
1699 г. Карловицкий мир.
Петр получает Азов; вся Венгрия, за
исключением Ваната, передана Австрии; Морея возвращена Венеции;
Подолия и Украина отданы Польше.
if 19 г. Аландский конгресс (открылся 24 апреля) И2.
По договору между Англией (Ганновером), Пруссией, Польшей (Саксонией) и Данией царь получил прибалтийские провинции; Пруссия — Штеттин и прилегающие земли; Август Саксонский, король Польши, — Курляндию; Ганновер — Бремен и Верден; Дания — остров Рюген с частью Шведской Померании. Затем на Аландских островах договорились, что:
царь окажет помощь Карлу XII в получении обратно у Пруссии Штеттина и части Померании, занятой прусскими войсками; царь даст в помощь Швеции 20-тысячную армию для ведения войны в Германии и поможет Карлу приобрести Норвегию в качестве компенсации за при балтийские провинции, уступленные России; царь окажет помощь Карлу в том, чтобы отобрать у Георга I Бремен и Верден и т. д.
(а также в реставрации Стюартов).
Смерть Карла XII. Новое правительство Швеции заключает мир с Англией, Данией и Пруссией.
(Стокгольмский договор, 1 ноября 1719 г.)
Ништадтский договор (в Финляндии) 30 августа 1721 г. (Швеция уступает Лифляндию, Эстляндию, Ингрию, часть Карелии, Выборгский округ, острова Эзель, Даго, Мён и другие острова у побережья упомя нутых провинций. Царь возвращает Финляндию, за исключением части, подлежащей определению при уточнении границ.) мз
(По Стокгольмскому миру Шлезвиг достался Дании. Петр выдает свою дочь Анну замуж за герцога Голштинского *,
• — Карла 1, Ред,
ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ [И. САВО] «ГОС. ПОЛИТ. СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ» 343
забирает себе «права» последнего. Первоначально же — союз Петра с Данией против этого герцога.)
«Преобразование севера Европы, основанное на расчленении Швеции».
VIII ) 1715—1740 гг. Всеобщий хаос в Европе
Война между Испанией и Австрией в Италии. Австрии оказывает поддержку Англия. Война Англии и Франции против Испании.
Альберони отправлен в изгнание.
Январь 1720 г. Испания присоединяется к Четверному союзу 484. Сицилия передается императору *, в качестве возмещения за нее Савойя получает Сардинию, Парму, Пьяченцу, Тоскану обещают отдать после смерти последнего Медичи ** дону Карлосу, сыну Филиппа V от его второй жены Елизаветы Пармской.
В 1724 г. Намбрейский конгресс (Англия, Франция, Испания и Австрия).
1725 г. Секретные договоры между Испанией и Австрией. Ганноверский контрдоговор 48?.
1728 г. (Открыт 14 июня) Суассонский конгресс.
1729 г. Севилъский мир между Испанией, Англией и Францией. 1731 г. Венский договор между Австрией, Англией и Голландией. Смерть короля Августа.
Сентябрь 1733 г. Станислав Лещинский провозглашен королем Польши. Россия (под управлением Анны с 1730 г.) и Австрия (Карл VI)—за сына*** умершего короля, который обещал императору гарантию Прагматической санкции321, а царице—не требовать возвращения Курляндии, бывшей прежде ленным владением Польши.
Война за польскую корону. Франция напала на Австрию.
Маршал Бервик действует на Рейне. Другая французская армия под командованием Виллара переходит через Альпы и, соединившись с Карлом-Эммануилом Сардинским, вытесняет австрийцев из Милана. Вскоре после этого доп Карлос
(Испанский) (сын Елизаветы)
• вторгается в Неаполь и Сицилию, где его провозглашают королем, он рассеивает (с помощью народа, доведенного до отчаяния австрийским тираническим правлением) всю императорскую армию; таким образом, вскоре в руках у австрийцев в Италии не осталось ничего, кроме крепости Мантуи. Лишь 1 500 французских солдат послано в Данциг.
(Октябрь) 1735 г. Венский жир между Францией и Австрией. (Август III Саксонский должен стать королем Польши. Станислав с королевским титулом получает герцогства Лотарингию и Вар, которые после его смерти должны быть возвращены, Франции. Дон Карлос сохраняет за собой
• — Карлу VI. Ред.
•• — Козимо III. Ред.
••• — Августа III. Ред.
344
К. МАРКС
Неаполь, Сицилию и австрийское побережье Тосканы.) Герцог Лотаринг-ский в возмещение за свои наследственные земли получает во владение Тоскану. Сардинии следует получить Новару, Тортону, а также некоторые другие миланские земли. Парма и Пьяченца должны быть отданы императору. Все другие земли, завоеванные союзными армиями, под лежат возвращению. Франция, Испания, морские державы и Россия гарантируют Прагматическую санкцию. (Мария-Терезия, дочь императора, выходит замуж за Франца Лотарингского *.)
1736 г. Русско-австрийская война против Порты. Вторжение русских в Крым. Миних берет Перекоп, опустошает южную часть полуострова.
1737 г. Миних берет Очаков. Генерал Ласси (русский) снова втор гается в Крым. Немироеский конгресс. Россия требовала: 1) отмены всех прежних договоров; 2) уступки Крыма, Кубани и других татарских про винций; 3) независимости Дунайских провинций под ее протекторатом; 4) за царем должен быть признан титул императора; 5) свободы судо ходства по Черному морю, через Босфор и Дарданеллы и по Средиземному морю.
Австрия требовала обширных территорий за Дунаем, включая Белград, Видин, некоторые районы Молдавии и Валахии.
1739
г. Белградский мир:
Порте возвращены все земли, за исключе
нием Азова. Далее: во владении Порты
остались Белград, Оршова и оспа
риваемые части Валахии и Боснии.
(Венгрия никогда не имела лучшей
возможности вернуть свою независимость.
Ракоци, бывший князь Трансильвании, в Турции вместе с антиавстрийски настроенными венгерскими вождями.)
Война в Индии между Испанией и Англией. Англия объявляет войну Испании.
1740
г.
Смерть Фридриха-Вильгельма
I
Прусского; смерть импера
тора Карла VI; смерть
Анны Российской.
1713—1740 гг. Бесплодный союз Франции с Англией. Жалкое состоя ние Швеции, разделившейся на партию «шляп» (профранцузскую) и пар тию «колпаков» (прорусскую), (из них последняя вскоре добилась преобладания).
IX) 1740—1763 гг. Война за Австрийское наследство. Семилетняя война
1740 г. Вторжение Фридриха II в Силезию.
1741
г. Договор в Нимфенбурге, основанный на
разделе Ав
стрии (между Францией, курфюрстом Баварским **, Испанией,
Августом III
(Саксонским и Польским) и Пруссией).
Габсбурги спасены благодаря энтузиазму венгров, а также предательской политике и полумерам кардинала Флёри. 1741 г. (весна). Фридрих II вступает в Моравию; Сардиния, которую впоследствии перетянули на другую сторону, готовится к вторжению в Милан#
• — Франца Стефана Лотарингского (Франца I). Ред. ** — КарломVII Альбрехтом. Рев.
выписки из книги [и. сабо] «гос. полит, современной европы» 345
1742 г. Англия объявляет себя сторонницей Австрии.
11 июня. Бреславльский мир между Фридрихом и Австрией (он получает Нижнюю Силезию).
Война между Францией и Австрией продолжается в Германии и Италии.
Карл VII (Баварский) коронован императором во Франкфурте (1742 г.).
Чтобы помешать России оказать помощь Марии-Терезии, французы вызвали русско-шведскую войну; она вскоре окончилась в пользу России. 1743 г. Абоский мир; Швеция должна уступить ряд земель в Финляндии; назначить по требованию царицы * герцога Голыптейн-Готторп-ского ** наследником шведской короны.
1745 г. Договор в Варшаве между Англией, Саксонией и Австрией против Фридриха.
(1743 г. Договор в Вормсе между Австрией, Англией и Сардинией.) Фридрих снова вступает в союз с Францией.
(Весна 1744 г. Франция и Англия объявляют друг другу войну.)
1745 г. (декабрь). Дрезденский мир между Фридрихом и Австрией: возобновление Бреславльского договора, благодаря чему Фридрих удержал Силезию, обещав отдать свой голос Францу Лотарингскому, супругу Марии-Терезии. Император Карл-Альбрехт (Баварский) умер, а его сын *** заключил мир с Марией-Терезией. (Это второй сепаратный австро-прусский мир.)
Данный мир позволил Марии-Терезии послать крупные подкрепления в Италию, где Милан, Парма и Пьяченца попали в руки франко-испанских армий; положение изменилось.
Англия победоносно ведет войну в Индиях и в Средиземном море. Смерть Филиппа V Испанского. Вывод испанских войск из Италии.
В то время как Беллиль разбит в Италии, победы маршала Саксонского ***• и Ловендаля в Нидерландах. Продвижение маршала Саксонского в 1747 а. по территории Голландской республики, взятие крепости Верген-оп-Зом. Победы на море английских адмиралов Ансона, Уоррена и Хоука. 40-тысячная русская армия приведена в движение Елизаветой, соблазненной обещанием английских субсидий.
1748 г. (октябрь). Ахенский мир, на который Мария-Терезия не могла не согласиться. Франция и Англия возвращают друг другу захваченные земли. В обмен на Кейп-Бретон Франция отдала землп в Нидерландах и вернула Англии Мадрас; спор о границах в Канаде отложен до последующего разрешения. Парма, Пьяченца, Гуасталла отданы дону Филиппу и его мужским наследникам. Сардиния сохранила status quo. Договор об асьенто продлен для Англии на четыре года, гарантирован [порядок] престолонаследия в Англии, изгнание Стюартов из Франции. Гарантирована Прагматическая санкция, Нижняя Силезия утверждена за Фридрихом II . Семена новой войны — еще не разрешенные противоречия между Францией и Англией.
1751—1753 гг. Секретные переговоры Кауница в Париже. Это приводит к назначению министром сперва аббата де Берни, а затем герцога де Шуазёля.
* — Елизаветы Петровны. Ред. •• — Адольфа Фредрика. Ред. *" — Максимилиан III Йозеф. Ред. *♦>• _ Морица Саксонского. Ред.
346
К. МАРКС
1754 г. В Америке возобновляется война между Францией и Англией: борьба ведется из-за границ Новой Шотландии, или Акадии, уступленной Англии по Утрехтскому миру зв0; из-за строительства французских фортов вдоль Огайо, захвата французами нейтральных островов: Антильских, Тобаго, Сент-Винсента, Сент-Люсии.
Январь 1756 г. Англо-прусский договор в Вестминстере. Против него франко-австрийский оборонительный союз в Версале (май 1756 г.). (Одновременно переговоры между Австрией, Саксонией и (Елизаветой) Россией.) Июнь 1756 г. Захват французами порта Маон. Фридрих наносит поражение саксонцам у Пирны (принуждает к сдаче 18-тысячную армию)
(осень 1756 г.).
1757
г. (Зима).
Австрия, Франция, Россия, Швеция и некоторые
«круги» Германии собирают против Фридриха силы численностью в
400 тысяч солдат. Весной 1757 г. Фридрих разбивает австрнйцоп под
Прагой; будучи разбит Дауном у Колина, вынужден отступить в Саксо
нию. Ришелье наносит поражение ганноверско-госсенским войскам 488.
(Конвенция в Клостер-Цевене, в соответствии с которой герцог Камбер
лендский обязан распустить ганноверско-гессенские войска.) Фридрих
склоняет Ришелье к бездействию, а в »то время сам нападает на Субиза
и немцев, которыми командует герцог Хильдбургхаузен. 5 ноября. Победа
Фридриха при Росбахе, в то время как Ришелье оставался в бездействии
на своих квартирах у Хальбергатадта. Затем — в Силезшо. Победа при
Лисе 487.
1758 г. Приход к власти Питта. (Лорд Чатам) у руля.
Декабрь 1758 г. Второй франко-австрийский договор в Версале. Людовик XV обязуется субсидировать шведов, содержать 100-тысячную (французскую) армию в Германии, а также и саксонскую армию; Силезия и Глац подлежат возвращению императрице *; Рейнские провинции должны быть отвоеваны у Пруссии и уступлены Австрии; однако доходы [с них] за время войны должны быть отданы Франции. Франция забыла о собственной войне на море М8 ради того, чтобы сражаться в интересах Австрии.
1759 е. Поражение пруссаков при Хохкирхене.
1759—1760 ег. Победы англичан в Ост-Индии, в Америке (захват Квебека Вулфом, а следовательно, завоевание Канады) и в Вест-Индии.
Шуазёль — в интересах Австрии.
1761 а. Фамильный пакт между французскими и испанскими Бурбонами.
Чатам хочет предупредить [действия] Испании. Заменен лордом Бьютом.
Вторжение Испании в Португалию.
Январь 1762 г. Смерть Елизаветы Российской Император Петр III . Сделанные царю через русского посланника князя Голицына предложения лорда Бьюта вынудить Пруссию к миру на любых условиях отклонены.
♦ — Марии Терезии. Рев,
выписки из книги [и. сабо] «гос. полит, современной евгопы» 347
(Петр III сообщил Фридриху об этих донесениях).
Секретные переговоры Бьюта с Австрией о расчленении Пруссии оказались столь же безуспешными.
Февраль 1763 г. Мир в Париже между Англией, Францией и Испанией. Англия получила Новую Шотландию, Канаду, Кейп-Бретон, тогда как Франция — право участия в рыбном промысле у берегов Ньюфаундленда. Миссисипи объявлена границей между Луизианой и британскими колониями. В Вест-Индии Франция уступила Англии Гренаду и нейтральные острова: Сент-Винсент, Доминику, Тобаго. В Африке англичане вернули Горею, сохранили за собой Сенегал; Менорка возвращена Англии. Франция получила обратно свои мелкие владения в Ост-Индии, но обязалась не держать войск в Беигалии. Испания отдала Англии Флориду, подтвердила ее право вырубать кампешевое дерево на берегах Гондурасского залива, но ей возвращалась Куба и Гавана. Португалия — status quo ante bellum *.
Губертсбургский мир 322 между Фридрихом и Австрией (не что иное, как подтверждение Бреславльского и Дрезденского мирных договоров **). (Фридрих обязуется отдать свой голос за сына Марии-Терезии, эрцгерцога Иосифа, при проведении выборов короля Румынии.) После семи лет войны никаких территориальных изменений в Европе.
Если Фридрих и возвысил Пруссию до такого ранга, каким прежде обладала Швеция (со времени Вестфальского мира *10), то он был достаточно осторожен для того, чтобы воспользоваться ростом честолюбивых устремлений московита; но слишком слаб для того, чтобы ему воспрепятствовать.
У Фридриха II не было никакого значительного политического плана. Его всепоглощающая и единственная идея — Силезия.
Характерная черта этого периода — упадок Франции. В первой войне политическим союзам Франции с Фридрихом, которые он дважды выбрасывал за борт, не удалось вырвать скипетр Германской империи из рук пришедшей в упадок Австрии. Во второй войно Франции, в союзе с той же самой Австрией, Саксонией, Швецией и Россией, не удалось отобрать у Фридриха даже Силезию.
X ) 1763—1774 гг. Раздел Польши. Кайнарджийский мир
Смерть Августа III Саксонского, короля Польши.
Июнь 1762 г. Екатерина узурпирует российский престол. Екатерина и Фридрих высказываются за Понятовского.
Оборонительный союз между ними, секретная статья которого не допускала никаких изменений в аномальной конституции Польши 48в.
1764 г. Русские войска вступают в Польшу. В сентябре Понятовского. возводят на престол Русский посланник *** в Варшаве — фактический президент польских сеймов. Екатерина выступает в защиту
* — в положении, существовавшем до войны. Ред. *• См. настоящий том, стр. 345, Ред, •*• — Н. В. Репнин. Ред,
348
К. МАРКС
диссидентов (православных и протестантов), которых поддерживают также Англия и Швеция в качестве гарантов Оливского мира äU .
Сейм 1767 е. Русский посол князь Репнин присваивает себе роль диктатора. Польская Барская конфедерация (в Подолии). Война с русскими; остатки Барской конфедерации вытеснены во владения Порты, подстрекаемой Францией к вмешательству в русско-польскую войну.
В конце 1768 или начале 1769 г. султан * бросает русского посла ** в Семибашенный замок. 1770 г. Русско-турецкая война.
(Генуя продала Франции Корсику.) ***
1772
г. Раздел
Польши. В результате этого раздела
Пруссия полу
чила Западную Пруссию (600 тыс. душ; стала хозяйкой Вислы, ключе
вого пути польской торговли); Екатерина — Литву и территорию между
реками Двиной и Днепром (1 млн. 800 тыс. душ); Австрия — Лодомерию,
Галицию и другие земли, окружающие Венгрию (3 млн. душ).
Июль 1774 з. (Кайнарджийский мир.) (Независимость Крыма.) Азов, Кинбурн, Керчь, Еникале — к России и т. д. Право России делать устные представления в Константинополе в пользу Молдавии и Валахии.
Австрия получает часть Молдавии — Буковину (Австрия — союзница Турции).
XI ) 1774—1783 гг. Американская война за независимость ****. Парижский мир
1763 г. Суровые меры (британские) с целью предотвращения контрабанды; гербовый сбор 490.
1773
з.
Бостонская демонстрация (груз чая сброшен с кораблей
в море).
Декабрь 1776 г. (Франклин прибывает во Францию.)
6 февраля 1778 г. Договор между Францией и восставшими колониями.
Апрель 1778 ». Французский флот под командованием графа д'Эстена со значительной сухопутной армией на борту отплывает в Америку.
Иосиф (Австрийский) пытается присоединить к Австрии Нижнюю Баварию (после смерти курфюрста Максимилиана-Йозефа).
Картофельная война ш .
Он также пытается силой оружия открыть свободное судоходство по Шельде.
1779 в. Испания присоединяется к Франции в войне против Англии.
• — Мустафа III. Рев. •• — А. М. Обрескова. Ред. *•• Эта фраза в конспекте Маркса стоит после слов: «1772 г. Раздел Польши», однако в данной публикации в соответствии с содержанием конспектируемой книги она поставлена перед ней. Ред.
*••• У И. Сабо: «Война британско-американских колоний» (« State Policy ...», v . 1, p. 296). Ред.
ВЫПИСКИ ИЗ КНИГИ [И. САБО] «ГОС. ПОЛИТ. СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ» 349
1780 г. Россия провозглашает вооруженный нейтралитет 492.
3 сентября 1783 г. Версальский мир между Францией, Испанией, Америкой и Англией.
Май 1784 г. Мир между Англией и Голландией.
XII) 1783—1790 гг. Окончательное присоединение Крыма к Российской империи
Австрия в союзе с Россией, готовая получить долю в добыче.
1790 г. Прусско-турецкий союз... Рейхенбахский конгресс (полное примирение Пруссии и Австрии) 4вз... Верельский мир (на основе status quo ) между Швецией и Россией 484... Недовольство венгров и бельгийцев... Систовский мир между Австрией и Турцией 495... Ясский мир (между Россией и Турцией) 4М.
Со времен Карла V Австрия была неспособна ни завоевать, ни вернуть себе ни одной провинции.
[Том III 497 1а) 1790—1796 гг.
25 августа 1791 г. Австро-прусская Пилышцкая декларация.
1792 г. (20 апреля). Объявление Францией войны Австрии.
1792 г. (25 июля, Кобленц). Прокламация герцога Брауншвейгского.
21 января 1793 г. Казнь Людовика Капета.
25 марта 1793 г. Конвенция Питта с Россией; за этим последовали союзные договоры и конвенции о денежных субсидиях с Сардинией, Испанией, итальянскими государями из династии Бурбонов, Пруссией, Австрией, Португалией и некоторыми мелкими государствами Германии
(против Франции).
Первая коалиция. (Посылая свои войска в глубь Франции, прусский король * замышлял вместе с Екатериной второй раздел Польши.)
Июль 1793 г. Второй раздел Польши. Пруссии — Данциг и Торунь.
(Новая конституция Польши провозглашена 3 мая 1791 г.) (Наследственный престол.) (Русская кампания в Польше в 1792 г.) (Конвенция между Пруссией и Россией в Санкт-Петербурге 23 января 1793 г. Пруссаки вступают в Польшу. Россия получает почти половину Литвы (воеводства Подольское, Полоцкое и Минское, половину Новогрудкского, Брестского, а также Волыни) (3 млн. жителей).)
Екатерина обрушивалась на Францию с яростной руганью, но войска свои держала дома.
Апрель 1794 г. (Соглашение о субсидии между Пруссией и Англией.)
24 марта 1794 г. Костюшко (диктатор). Восстание в Варшаве и Вильне. Австрия также посылает армию. 9 ноября 1794 г. Суворов вступает в Варшаву.
3 января 1795 г. Сепаратная Петербургская декларация Австрии и России (о разделе). 24 октября 1795 г. Пруссия вместе
• _ Фридрих-Вильгельм II . Ред,
350
К. МАРКС
с Австрией подписывает Петербургскую конвенцию. Краков — Австрии. Россия получает оставшуюся часть Польши и Литвы вплоть до Немана и территории Бреста, Новогрудка, большую часть Самогитии, всю Курляндию и Семигалию; в Малой Польше — часть территории Холмского округа, расположенную на правом берегу Буга, и остаток Волыни (1 млн. 200 тыс. жителей).
Австрия [получает] кроме главной части Краковского [воеводства] воеводства Сандомирское и Люблинское, часть Холмского округа, Брестское, Подляшское и Мазовецкое воеводства (по левому берегу Буга) (около 1 млн. душ).
Пруссия — часть Мазовии и Подляшии на правом берегу Буга, часть Трокского воеводства и Самогитии в Литве и небольшой округ в Малой Польше, часть Краковского воеводства (около 1 млн. жителей).
Третий раздел Польши.
До сих пор Россия оказывалась в наибольшем пыпгрыто от воины с Францией. С успохом внушая Англии, Австрии, Пруссии представления об опасности революционных принципов, Екатерина преследовала свои сепаратные интересы, но выделив при этом ради «общего дола» ни одного казака и ни одного рубля. Посылка ею нескольких кораблей в помощь Англии выглядела насмешкой.
5 апреля 1795 г. Базельский мир Франции с Пруссией. Окончатель ный и секретный договор в августе. Пруссия уступала свои владения на левом берегу Рейна, за что вознаграждалась секуляризацией некоторых немецких епископств. Затем Испания. (Франция удержала за собой лишь испанскую часть Сан-Доминго.) 4М Тоскана еще раньше заключила мир с Францией. Два прибалтийских государства нейтральны. С Англией оставались еще только Сардиния и Австрия. Бельгия включена в состав Франции. Франции уступлены части Голландии *м.
Па) 1796—1801 гг. (Люневилъский мир)
Апрель 1796 а. (Три последовавших одно за другим сражения — Бонапарт — решают судьбу Сардинии.) (Франция получила Савойю, Ниццу и право занять несколько крепостей.) Бонапарт в Ломбардии. Колонии Батавской республики попали в руки Великобритании.
17 ноября 1796 г. Смерть Екатерины.
18 апреля 1797 г. Австрией подписан прелиминарный мир в Леобене. Цизальпинская республика (Модена, Феррара, Романья, Мантуя).
Лигурийская республика (Генуя и т. д.).
17 октября 1797 г. Кампоформийский мир. (Австрия отказывается от Нидерландов, соглашается с приобретением левого берега Рейна Францией; она получает Венецию и далматинскую часть венецианских владений. Албания и Венецианские, или Ионические, острова отходят Франции)324.
(19 мая 1798 г. Бонапарт отплывает из Тулона в Египет.) (Мальту Бонапарт завоевывает в июне 1798 г.) 15 марта 1798 г. Раштаттский конгресс 500.
выписки из книги [и. сабо] «гос. полит, современной европы» 351
Декабрь 1798 г. Договор между Англией и Россией. (Обе страны вступили в сепаратные союзы с Турцией и Сицилией).
Швейцарская республика — под французским протекторатом.
Оккупация французами папских владений.
Вторая коалиция.
Апрель 1799 г. Роспуск Раштаттского конгресса.
Австрия вступает во вторую коалицию. Постепенно в нее вступают Португалия, Бавария, курфюрст Майнцский *, герцог Вюртембергский **.
Война в Италии и Германии. Неаполь терпит поражение. Партено-пейская республика 501.
Под ложным предлогом Пьемонт становится французским (de facto. Карл-Эммануил IV удаляется в Сардинию).
(9 октября 1799 г. Бонапарт высаживается во Франции.)
14 июня 1799 г. Маренго. Англичане захватывают Мальту. Император Павел: вооруженный нейтралитет вместе с Данией, Швецией и Пруссией.
23 марта 1801 г. Смерть Павла. Александр I .
9 февраля 1801 г. Люневилъский мир. (Австрия признала Рейн границей Франции. Раздел венецианских владений. Бельгия уступлена Франции.) (Признаны Цизальпинская, Лигурийская, Гельветическая, Батавская республики.)
II 1а) 1801-1805 гг.
Январь 1802 г. Бонапарт — президент Италийской республики.
27 марта 1802 г. Амьенский мир (Франция, Англия, Испания, Голландия). (Англия удерживает Тринидад и Цейлон.) (Англичане должны покинуть Мальту, ее независимость.) (Франция обещает покинуть Неаполь, папские владения; Англия — все порты и острова в Средиземном и Адриатическом морях. Дается гарантия республике Ионических островов и целостности Турции.)
18 мая 1803 г. Англия объявляет войну Франции.
18 мая 1804 г. Бонапарт становится императором. 2 декабря 1804 г. его коронует папа ***.
IVa) 1805—1807 гг. Третья коалиция. Тильзитский мир
Петербург — центр новых союзов против Франции.
11 апреля 1803 г. Союзный договор между Англией и Россией. (Швеция уже связана с Англией декабрьским договором 1804 г., по которому Штральзунд сделан базой англичан.)
• — Фридрих Карл Йозеф, князь Эрталь. Ред. ** — Фридрих I. Ред. ••* — Пий VII . Ред.
352
К. МАРКС
Петербургские декларации 9 августа, которыми обменялась Австрия с Англией и Россией.
17 октября 1805 г. Капитуляция в Ульме. 2 декабря Аустерлиц.
26 декабря 1805 г. Сепаратный Пресбургский мир (Австрия и Бонапарт). (Наполеон признан королем Италии. Австрия утрачивает венецианские области. Уступает Тироль Баварии, а другие свои земли — Бадену и Вюртембергу. Бавария и Вюртемберг становятся королевствами, а Баден — великим герцогством.)
23 января 1806 г. Смерть Питта. Переговоры Фокса с Францией. Россия расстраивает эти мирные переговоры. (13 сентября 1806 г. Смерть Фокса.)
12 июля 1806 г. (Париж. Рейнский союз, 16 немецких государей.)
6 августа 1806 г. Австрия отрекается от [права на1 титул германского императора. (Конец империи.)
14 октября 1806 г. Сражение под Йеной и Ауэрштедтом.
14 июня 1807 г. Сражение при Фридлаиде.
7 июля 1807 г. Тилъзитский мир (Варшава и часть Западной Прус сии отданы Августу III (Саксонскому) и возведены в ранг королевства; Восточная Пруссия — царю. Секретные статьи: Молдавия и Валахия —-России, Морея и Кандия * — Франции, континентальная система. Ниа-ложение Бурбонов в Испании).
Va) 1807—1814 гг. (Парижский мир)
Октябрь 1808 г. Эрфуртское совещание. Завоевания России в Швеции (Финляндия) и в Турции (Дунайские княжества).
(Одновременно русские ведут закулисные переговоры с Пруссией и Австрией против Франции.)
Март 1809 г. Австрийский манифест призывает тирольцев к оружию. Эрцгерцог Иоганн вторгается в Италию, Фердинанд идет на Варшаву, Карл — в Баварию.
12 мая 1809 г. Наполеон вступает в Вену. 5, 6 июля Ваграм. 10 ок тября Шёнбруннский мир. (Австрия уступает Каринтию, часть Тироля, территорию Триеста, часть Хорватии, венгерское побережье Адриатического моря с Фиуме. Король Саксонии ** получает Западную Галицию. Россия в качестве союзницы Франции — оставшуюся часть Австрийской Польши за свои медлительные, совершаемые с явной неохотой действия в ходе кампании.) (Австрия получила секретные заверения в нейтралитете царя.)
Сентябрь 1809 г. Мир России со Швецией. (Она получила Финляндию и Аландские острова.)
Декабрь 1810 г. В России издан указ, направленный против принципов континентальной системы.
if концу 1811 г. все заговоры между северными дворами и сент-джем-ским двором были готовы к исполнению. Каналами связи между Петер-
* — Крит. Ред. •• — Фридрих-Август I , Ред.
выписки из книги [и. сабо] «гос. полит, современной европы» 353
бургом и Лондоном служили Поццо-ди-Борго и князь Любомирский. На Бернадота уже смотрели как на верную карту. Англия уже поддерживала Пруссию и Россию оружием и снаряжением. В Италии Поццо-ди-Борго подготовил всеобщее восстание. 1812 е. Бухарестский мир
при посредничестве Англии;
приобретение Россией Бессарабии и части Молдавии.
Февраль 1813 г. Прусско-русский Калишский договор.
12 апреля 1814 г. Отречение Наполеона.
30 мая 1814 г. Парижский мир. (Франция возвращена к границам 1792 г., некоторые территориальные приращения на севере страны.)
Via) Май 1814 — ноябрь 1815 г.
1 ноября 1814 г. Открытие Венского конгресса.
9 января 1815 г. Секретный договор между Австрией, Францией и Англией.
1 марта 1815 г. Бонапарт высаживается во Франции.
18 июня 1815 г. Ватерлоо. (26 сентября 1815 г. Священный союз.)
Конец июня 1815 г. Окончание Венского конгресса. («Королевство Польское» — России; часть Варшавского герцогства (Познань) — Пруссии, Галиция — Австрии. Пруссия получает половину Саксонии, часть Шведской Померании, несколько провинций Вестфалии и на левом берегу Рейна. Бельгия и Люксембург — Голландии. Австрия (в обмен на Бельгию) кроме своих прежних владений получает всю Венецию, Мантую и т. д. (Модена, Тоскана и Парма — другим членам династии Габсбургов.) Неаполь возвращен Фердинанду *; Генуя — Пьемонту. Дания должна отдать Норвегию Швеции. Австрия становится председателем Франкфуртского сейма ?оа. Швейцария: к ней присоединены Вале, Невшатель, Женева. Англия: некоторые колонии в обеих Индиях, мыс Доброй Надежды, Мальта, Ионические острова, Гельголанд — добыча, захваченная у Франции, Голландии, Венеции, рыцарей св. Иоанна и Дании.)
26 сентября 1815 г. Священный Союз.
20 ноября 1815 г. Второй Парижский договор. Франция обязана отдать несколько крепостей по рейнской границе, по границе с Нидерландами и в Альпах.
Vila) 1815-1825 гг.
Октябрь 1817 е. Вартбургское празднество немецких студентов. Буршеншафт ?03. Отмена конституции (1812 г.) в Сицилии. То же с конституцией кортесов в Испании ш.
Сентябрь 1818 г. Ахенский конгресс. (Вывод войск из Франции. Война в Португалии. Война между Испанией и ее американскими колониями. Предложение Меттерниха о периодических встречах с целью подавления революционного духа. 15 ноября подписан протокол относительно этих встреч. Его подписал Каслри. Франция также принята в Священный союз.)
* — Фердинанду I . Ред.
354
К. МАРКС
Каслри уезжает по требованию своего правительства.
(Меттерних, Гарденберг, Нессельроде образуют триумвират.)
1819 г. Карлсбадский конгресс под австро-прусским влиянием; затем перенесен в Вену. Конституция Германии переделана. Полицейская комиссия в Майнце а0!?. Карбонарии. (Сформировались в 1809 г. вокруг престола императора Франциска *) §06. Папа** мечет громы и молнии против карбонаризма и франкмасонства.
Январь 1820 г. Фердинанд Испанский*** вынужден восстановить конституцию кортесов, неаполитанский король Фердинанд тоже (6 июля). (Генерал Гильельмо Пепе, вождь карбонариев.)
Август 1820 г. Император Франц I в Ломбардо-Венецианской области издал прокламацию против карбонаризма.
Октябрь 1820 е. Троппауский конгресс. Вооруженное вмешательство в Неаполе, предложенное Меттернихом. (Несогласие Каслри) (который, однако, «но будет чинить долу Австрии препятствий»); конгресс перенесен в
Лайбах (1821 г.)
Февраль 1821 г. Австрийская армия под командованием барона Фри-монта вступает в Неаполь. Восстания в Сардинии, Валахии, Греции. Австрийская вооруженная интервенция в Сардинии.
Сентябрь 1822 г. Веронский конгресс. Протест Каннинга. Французская интервенция в Испании.
28 января 1823 г. Тронная речь Людовика XVIII .
Объявляет об интервенции в Испании.
Александр I определенно заявляет о своей решимости помочь Франции в случае нападения на нее Англии.
(Меттерних начал изворачиваться.)
Контрреволюция в Португалии. (В 1822 г. дом Браганса даровал конституцию по образцу испанской 60'. (Король Жуан VI .) (Совершает контрреволюционный переворот с помощью своего сына дона Мигела и графа Амаранте.) Каннинг препятствует интервенции Испании; признает независимость американских колоний).
2 декабря 1823 г. Послание американскому конгрессу Джеймса Монро, президента.
1825 г. Мексика признана Каннингом.
Сентябрь 1824 г. Смерть Людовика XVIII . Карл X.
1 октября 1825 г. Смерть Александра I («белый ангел» г-жи де Крю-денер 608). Николай.
Villa) 1825-1834 гг.
Махмуд II (реформатор). (Мятеж янычар, недовольство улемов 50в, измена некоторых пашей.) («Гетерия».) (Впервые создана в Москве 61°.) (Каподистрия, ионический министр Александра ш, — главное орудие в греческом движении.) (Али-паша Янинский дал в 1821 г. сигнал к всеобщему восстанию греков.) (Первым было восстание Александра Ипси-ланти в Валахии. Одновременно восстания на Пелопонесе, островах архипелага и т. д. Ликвидация корпуса янычар.)
* — Франциска I. Ред. •* — Пий VII . Ред. *** — Фердинанд VII . Ред,
выписки из книги [и. сабо] «гос. полит, современной европы» 355
Февраль 1825 г. Ибрахим-паша (сын Мухаммеда-Али) высаживается в Морее.
Конфликт Турции с Россией перед смертью Александра.
4 апреля 1826 г. Англо-русский протокол (в Петербурге) относительно Греции.
Аккерманская конвенция, октябрь 1826 г. (между Россией и Турцией). (Соглашение относительно Дунайских княжеств * и Сербии.)
Март 1826 г. Смерть короля Португалии Жуана VI. (Его старший сын дон Педру передает Португалию своей дочери Марии.) Меттерних плетет интриги вместе с султаном ** и в его пользу.
6 июля
1827 г. Францией, Англией и Россией
подписана в Лондоне
конвенция (относительно Греции) (посредничество между воюющими сто
ронами).
20 октября 1827 е. Разгром при Наварино. (Тем временем смерть Канниига.)
Весна 1828 г. Русская армия переходит Прут, занимает княжества. Поццо-ди-Борго, интимный друг французского министра иностранных дел Лаферроне, посвящен во все секретные сообщения, идущие из Вены.
14 сентября 1829 г, Адрианополъский договор; Россия приобрела устье Дуная. Граф Каподистрия — президент Греции.
1830 г., июль. Восшествие на престол Луи-Филиппа. Сентябрь. Революция в Бельгии.
1831
г. Восстание поляков. Восстания в Италии.
Урегули
рование бельгийских дел.
Урегулирование греческих
дел.
Октябрь 1831 е. Finis Poloniae ***.
20 января 1831 г. Провозглашение независимости Бельгии.
1833 г., февраль. Ункяр-Искелесийский договор (10 июля) 61а.
7 мая 1832 г. Оттон Баварский стал королем Греции.
(Россия, которая под прикрытием греческой войны силой вырвала Аккерманскую конвенцию, а затем и Адрианопольский договор, была среди европейских держав единственной выигравшей стороной.)
1832 г.
По инициативе Меттерниха реакционные
меры в Гер
мании.
1Ха) 1834-1846 гг.
1828 г. (Мятеж дона Мигела.) 1832 г. Дон Педру высаживается на острове Терсейре.
1833. Смерть Фердинанда Испанского. 1 июля 1833 г. (Сэр Чарлз Нейпир уничтожает мигелистские эскадры у мыса Сент-Винсент.)
Апрель 1834 г. Четверной союз (Англия, Франция, Испания, Португалия) *57.
Договор 15 июля 1840 г. ш
6 ноября 1846 г. Краков включен в состав Австрии,
• — Молдавии и Валахии Ред, ** — Махмудом II . Ред. ••* — Конец Польше. Ред,
356
К. МАРКС
XIa) 1846-1850 гг.
Папа Пий IX . Война с Зондербундом es в Швейцарии. Февральская революция 1848 г.
Ноябрь 1846 г. Папа издает указ о созыве «Consulta di stato» *. Пресбургский рейхстаг. 1847 г.
9 августа 1848 г. Карл Альберт (Сардиния) вынужден купить себе перемирие в Соласко (длится до середины марта 1849 г.). 25 ноября 1848 г. Бегство Пия. Май 1848 г. Франкфуртское собрание. 23 марта 1849 г. Сражение при Новаре. 14 апреля 1849 г. Провозглашение независимости Венгрии. 9 февраля 1849 г. В Риме провозглашена республика. 30 июня 1849 г. Рим пал. 13 августа 1849 г. Сдалась Венгрия. 22 августа 1849 г. Сдалась Венеция.
Июль 1848 г. Вступление русских в Дунайские княжества. Герцог Генуэзский ** становится королем Сицилии. 1849 г. 514 Февраль. Русские в Трансильвапии.
15 марта. Русские изгнаны из Трансильвапии.
23 марта. Поражение сардинцев при Новаре.
14 апреля. Низложение Габсбургов (в Венгрии).
9 февраля. Римская республика.
1849 г. Апрель. Балта-Лиманская конвенция.
22 апреля. Французы высаживаются в Чивитавеккья.
Июнь. Русские вступают в Венгрию.
30 июня. Рим сдается французам.
13 августа. Сдача главных сил венгерской армии русским.
22 августа. Сдача Венеции.
ХНа) 1850-1853 гг.
1850 г. Январь. Блокада Греции англичанами.
|
*** |
24 мая. Договор трех королей (Пруссия, Саксония, Гая-
новер)
Октябрь. Варшавские переговоры.
Декабрь. Австро-русские переговоры в Дрездене.
2 декабря 1861 s. Coup d'Etat. ****
1851 г. Русские выводят свои войска из Дунайских кляжеств.
1852 ». 2 декабря. Провозглашена Французская империя.
6 декабря. В британском парламенте объявлено о ее признании. 1852 г. Май. Договор о датском наследстве.
ХШа) 1853—1856 гг. *****
Составлено К. Марксом в июне 18во в. Печатается по рукописи
Перевод с английского и немецкого
_________
Публикуется впервые
* — «Государственного совета» п*. Рев. ** — Фердинандо-Альберто-Амедео. Ред. • • • — Фридриха-Вильгельма IV , Фридриха-Августа II , Эрнста-Августа. Рев, **** — Государственный переворот. Рев, ***** На атом конспект обрывается. Ред.
[ 357
Ф. ЭНГЕЛЬС
НЕМЕЦКИЙ ОТЧЕТ О СМОТРЕ В НЬЮТОНЕ 615
Выходящая в Дармштадте «Allgemeine Militär-Zeitung», которая считается первой военной газетой Германии, поместила в номере от 8 сентября сообщение одного корреспондента о смо тре в Ньютоне и общие сведения о движении стрелков. Ниже публикуется перевод этой статьи (сделанный специально для «Volunteer Journal»). Эта публикация, без сомнения, представит интерес для волонтеров Ланкашира и Чешира, в особенности для тех, кто участвовал в этом смотре. Как и следовало ожидать, этот отчет составлен отнюдь не в том неумеренно хвалебном тоне, который британская пресса обычно считает своим вкладом в движение; однако характер данной статьи мог бы послужить достаточной гарантией того, что она написана компетентным лицом, а ее сочувственный тон доказывает, что автор вовсе не склонен к бессмысленной придирчивости. Что же касается предложений, содержащихся в статье, мы предоставляем нашим читателям возможность составить о них собственное мнение В1в.
Написано Ф. Энгельсом между 8 и 14 сентября I860 г.
Опубликовано в журнале
«The Volunteer Journal, for Lancashire
and Cheshire » M 2, 14 сентября 18в0 г.
Печатается по тексту журнала
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
358 ]
К. МАРКС
К ВОПРОСУ ОБ АМНИСТИИ 81?
4 января 1862 г. Вильгельм Вольф, бывший редактор «Neue Rheinische Zeitung», ныне учитель в Манчестере, направил прошение бреславльским властям. На основании недавно изданного указа об амнистии 518 он потребовал своего восстановления в правах прусского гражданства. В ответ девять месяцев спустя им получен следующий документ:
«На основании прошений от 4 января и 4 июня * с. г. сообщаем Вам, что поскольку Вы, совершив побег, уклонились от дальнейшего про ведения судебного следствия, возбужденного против Вас в 1845 и в 1848 гг., мы не считаем возможным удовлетворить Вашу просьбу о восстановле нии Вас в правах прусского подданного ( I) Впрочем, если Вы полагаете, что благодаря высочайшему указу от 12 января Вы освобожден» от наказания, то это представление основано на неправильном понимании упомянутого указа, согласно которому Вам (I) надлежит явиться (!) в данное государство для продолжения возбужденного против Вас следствия и затем ожидать результата.
Бреславль, 5 сентября 1862 г. Королевское правительство, отделение внутренних дел, подпись: Штих.
Кандидату философии, г-ну Иоганну Фридриху Вильгельму Вольфу в Манчестер».
Обратим внимание мимоходом на один курьез: хотя Вольф и. потерял свои гражданские права «в данном государстве», тем не менее он все же продолжает бессмертно существовать в нем в качестве «кандидата». А теперь к делу.
Так как бреславльские власти потратили на сочинение вышеприведенного документа три месяца, то нельзя ли было, по крайней мере, «ожидать» фактической достоверности в обосновании отрицательного ответа? Однако бреславльские власти,
• См. настоящий том, стр, 370, Ред.
К ВОПРОСУ ОБ АМНИСТИИ
359
по-видимому, «полагают», что административные органы раз деляют с юриспруденцией привилегию «Fictiones juris» *.
Вольф совершил побег в 1846 г. (а не в 1845 г.), после того как начатый против него процесс по делам печати миновал все фазы расследования, после того как он сам прошел все допросы, незадолго до вынесения приговора. Таким образом, совершив побег, Вольф уклонился от приговора, а не от «дальнейшего проведения возбужденного против него судебного следствия».
Более того. В 1848 г. народ добился силой всеобщей амнистии, благодаря которой Вольф сначала вернулся в Бреславль. В апреле 1848 г. его вызвали в уголовный суд Бреславля, чтобы он сделал письменное заявление — как он, конечно, и поступил — о том, что он со своей стороны принимает амнистию.
Таким образом, бреславльские власти, по-видимому, «полагают», что амнистия 1848 г. и приобретенные в ее результате права аннулируются амнистией 1861 года. Подобный вид зако нодательства, «имеющего обратную силу», составил бы в таком случае новую эпоху в истории права.
В не меньшей мере ложно утверждение бреславльских властей, что Вольф «в 1848 г., совершив побег, уклонился от судебного следствия, возбужденного против него». Вольф стал эмигрантом не в 1848 г., а в 1849 г. и притом до возбуждения против него какого-либо следствия. Последнее было связано с его участием в работе охвостья парламента. Летом 1849 г. Вольф отправился в Швейцарию. К этому времени против него не было возбуждено никакого следствия, и, таким образом, он ни от какого следствия «уклониться» не мог. Приказ о доставке его в суд появился осенью 1849 г., когда он уже давно находился за границей. Судебное следствие, которое предшествует побегу, и приказ о доставке в суд, который следует за ним, являются, по-видимому, в глазах бреславльских властей идентичными вещами. За что же правительственные органы оплачивают юстициария, если возможно столь школярски-грубое нарушение простейших и банальнейших правил толкования закона?
Написано К. Марксом Печатается по тексту газеты
в середине сентября 1862 г. _ .
Перевод с немецкого
Опубликовано в «Barmer Zeitung» M 226, Т, ,
28 сентября 1862 г. На Русском языке публикуется впервые
* =• Юридических фикций, Ред.
360 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
ЗАМЕТКИ ОБ АРТИЛЛЕРИИ В АМЕРИКЕ «•
Следовало ожидать, что Гражданская война в Америке при творческом духе нации и высоком техническом уровне развития гражданского инженерного дела в стране приведет к огромному прогрессу в области военной техники, составив эпоху. Сражение между «Монитором» и «Мэрримаком» 52°, к которому еще раз вернулась «Allgemeine Militär-Zeitung» ш, оправдало эти ожидания. Теперь мы должны отметить некоторые новые данные.
I
Борьба между «Монитором» и «Мэрримаком», хотя она в конечном счете и разрешилась в пользу башенного корабля, не ответила, однако, на вопрос, какой класс бронированных судов предпочтительнее: башенные суда или суда с бортовыми орудиями. Но вот недавно произошел бой 6М, который, судя по всему, навсегда внес ясность в этот вопрос и на котором мы остановимся подробно тем охотнее, что о нем, насколько нам известно, в Англии и Франции едва ли что-то знают, а в Германии совсем ничего.
В гавани Саванна конфедераты обшили торговое судно «Фин гал» шотландской конструкции четырехдюймовыми еловыми досками, четырехдюймовыми дубовыми досками и четырехдюй мовым слоем железа. Железный панцирь состоял из двух слоев полос 6-дюймовой ширины и 2-дюймовой толщины, нижний слой которых с помощью крепких болтов закреплялся горизонтально, а верхний — вертикально. По образцу «Мэрри-
ЗАМЕТКИ OB АРТИЛЛЕРИИ В АМЕРИКЕ! 361
мака» броня была положена на корабль с наклоном, наподобие крыши, но сверху она была выровнена так, что корабль стал похож на усеченную пирамиду. По его бортам были расположены четыре шестидюймовые пушки, а на корме и носу две семидюймовые пушки на вращающемся лафете.
Рано утром спускавшаяся вниз по реке Саванна «Атланта», как теперь назывался этот корабль, вскоре наткнулась на два блокирующих судна башенного типа «Уихаукин» и «Н ах ант», которые немедленно двинулись ей навстречу. (В описании сражения мы следуем за нью-йоркской газетой « Harper ' s Weekly » от 11 июля.) «Атланта» начала бой тремя залпами по «Уихау-кину», который, не открывая огня, подходил все ближе, а затем на английский манер ответил огнем своей 15-дюймовой пушки Далгрена * 440-фунтовыми ядрами. Первый выстрел пробил оба борта «Атланты» и частично осколками, а частично силой удара вывел из строя 40 человек. Среди них был один из лейтенантов, который впоследствии рассказывал, что не мог подняться в течение 10 минут. Вторым выстрелом пробило железную крышку одного пушечного люка и убило или ранило 17 человек. Третье ядро разнесло в щепы верхнюю часть бронированной рулевой рубки на верхней палубе, убило обоих лоцманов и повалило обоих рулевых. Четвертое пришлось на ребро, где смыкаются борт и палуба, и, по-видимому, отскочило, не причинив вреда. Пятое ядро пробило трубу как раз в тот момент, когда «Атланта» выкинула белый флаг и сда лась, прежде чем подошедший тем временем «Нахант» смог произвести хотя бы один выстрел. В течение четверти часа все было кончено.
* Пушка Далгрена представляет собой относительно короткое орудие длиной примерно в 12—14 калибров. Внешняя форма пушки была найдена Далгреном (ныне адмирал, командующий в Чарлстоне) следующим образом: на одинаковом расстоянии друг от друга, вдоль оси канала орудия, перпендикулярно к нему были просверлены отверстия ружейного калибра и в них заложены ружейные заряды, в это же время зарядка орудия и выстрел произведены обычным способом. Начальная скорость отдельных ружейных пуль определена принятым методом и взята в качестве шкалы давления пороховых газов на соответствующих участках стенок орудия. Для соответствующих абсцисс на оси канала орудия были отмечены ординаты и связывающая их кривая определила внешнюю форму орудия. Пушки, сконструированные по этому принципу, очень толсты в казенной части ствола и в области цапф, имея гораздо меньший диаметр у дульного среза: они напоминают бутылку из-под содовой воды. Они просверлены без нарезов и отливаются полыми над полой цапфой, через которую при охлаждении течет холодная вода. Это охлаждение изнутри придает орудиям такую большую прочность (даже если они из чугуна), что можно отливать пушки калибра 15 и даже 20 дюймов, которые без всяких опасений смогут выдержать 500 выстрелов с большим зарядом. Первоначально они предназначались только для полых снарядов, но позднее их сделали еще более прочными, так что из них можно стрелять и литыми ядрами. Эти более мощные пушки называются тлумбиадами. Примечание Энгельса,
362
Ф. ЭНГЕЛЬС
Автор этих строк осмотрел вчера в гавани Ливерпуля ан глийский флот, действующий в Ла-Манше. Там были «Уорриор», «Блэк Принс», «Роял Оук», «Дифенс», «Резистанс» — все это броненосцы с бортовыми орудиями (гладкоствольные 68-фунтовые пушки 8-дюймового калибра и 110-фунтовые пушки Армстронга 7-дюймового калибра), покрытые броней из дерева в 18—24 дюйма и железа в 4*/г—5 дюймов толщиной; вне всякого сомнения, это самый лучший и могущественный бронированный флот, который находится сейчас на плаву и который, если только позволит его осадка, сумеет спокойно пройти между любыми береговыми фортами Европы с их теперешним вооружением и войти в гавани, лежащие за ними. Но куда лучшему из этих кораблей до одного из американских башенных судов с их 440-фунтовыми пушками? Судя по экспериментам самих англичан, достаточно гораздо меньшего калибра, чтобы пробить их борта, что же натворило бы внутри судна 440-фунтовое ядро? Одного-единственного попадания на уровне ватерлинии достаточно, чтобы потопить корабль, так как такую пробоину заделать нельзя. При взгляде на эти великолепные корабли, из которых каждый, если учитывать и эксперименты, стоил немногим менее 1 млн. фунтов стерлингов, нельзя отделаться от мысли, что все они уже обречены и полностью устарели.
Вооружение бронированных судов возможно более тяжелыми орудиями, какие только может выдержать корабль, кажется поэтому абсолютной необходимостью. Однако эти пушки не могут быть использованы в качестве бортовых орудий; самое крупное судно может нести лишь небольшое число таких пушек, причем их следует располагать в середине корабля. А это возможно только на башенных судах, и поэтому отныне решающая сила каждого флота заключена в башенных кораблях.
Правда, мореходные качества башенных судов, строившихся до сих пор, были весьма ограниченными. Дело в том, что в Аме рике их строили только для определенной цели: для действий в мелких прибрежных водах. Если бы их делали большего раз мера и с большей осадкой, то наверняка они держались бы тогда на море, по крайней мере, так же хорошо, как и бронированные оуда с бортовыми орудиями, которые в этом отношении также еще оставляют желать много лучшего. Но даже на основании только вышеизложенного опыта, твердо установлено следующее:
1) башенные корабли с тяжелыми орудиями (10—15-дюймового калибра) являются, вне всякого сомнения, самыми силь-
ЗАМЕТКИ ОБ АРТИЛЛЕРИИ В АМЕРИКЕ
363
ными как для собственно оборонительных действий, так и для наступательных операций против близлежащего берега;
2) бронированные суда с 21/2—5-дюймовой железной броней и бортовыми орудиями 8-дюймового калибра могут быть весьма полезны в операциях на дальние расстояния, против берега, если иметь угольные базы и если, и это прежде всего, не ввязываться в бои с башенными судами;
3) для собственно маневренной тактики в открытом море пригодными остаются только деревянные корабли. Лишь они одни могут забрать столько провианта, угля и боеприпасов, что в течение нескольких месяцев как бы возят с собой свою оперативную базу; только они одни могут после сражения самостоятельно вновь привести себя в боевое состояние. В Индии и Китае, например, даже у англичан бронированные суда любого типа оказались бы беспомощными.
Какие из этого следуют выводы для Германии?
1) Научиться литью пушек американского калибра и строительству башенных судов. Два подобных корабля на Эльбе или Везере обеспечили бы все побережье Северного моря. Четыре таких корабля в Балтийском море подчинили бы его нам и в случае необходимости вынудили бы Копенгаген к капитуляции: о теперешнем датском флоте тогда никто бы уже больше не говорил 523. Если станут реальными усовершенствования, которые создадут возможность строительства действительно мореходных башенных судов, тогда старые башенные корабли еще останутся лучшим из существующих средством обороны гаваней. К тому же они недороги.
2) Каждое из бронированных судов с бортовыми орудиями водоизмещением 6—7 тыс. тонн типа английских и французских стоит столько же, сколько шесть башенных судов, в то время как двух башенных судов достаточно, чтобы победить один корабль подобного рода. Они не оправдывают таких затрат. Зато очень быстрые, защищенные 21/2—3-дюймовой броней из самого лучшего (например, штирийского) железа винтовые пароходы средних размеров и с меньшим числом орудий, но более тяжелыми могли бы сослужить большую службу против существующих флотов. От тяжеловесных больших бронированных фрегатов они ускользнут, а с деревянным линейным кораблем вполне справятся.
3) Для дальних операций деревянные суда — парусные, а также винтовые пароходы — незаменимы. У нас уже есть база в Китае Б24, с каждым годом она приобретает все большее значение. До тех пор пока мы не располагаем там угольной базой, в этом районе можно пользоваться только парусными
13 М- в Э., т. 44
364
Ф. ЭНГЕЛЬС
судами; к тому же их пока достаточно. Уже давно назрела потребность в базах в Вест-Индии, на восточном и западном побережьях Северной и Южной Америки, в Леванте; повсюду следует защищать немецкую торговлю, завоевывать уважение к немецкому имени. В этих районах уже достаточным было бы соотношение- четверть пароходов на три четверти парусников. Напротив, дома нам ни к чему ни большое количество деревянных судов, ни их большие размеры; суда, превосходящие 60-пушечные фрегаты, сейчас вообще нецелесообразны, так как современные линейные корабли устарели, а корабли будущего еще не изобретены.
II
Согласно прежней практике при осаде укрепленных валов брешь-батареи устанавливались на гребне гласиса, приблизительно в 50 шагах от обстреливаемой стены, Когда Монталамбе- ром были предложены казематные сооружения с неприкрытой каменной кладкой б25 и особенно когда подобные неприкрытые каменные кладки были применены в Германии во многих местах, о них, правда, очень много судили и так и сяк, утверждая, что подобную каменную кладку можно пробить даже издалека; однако из действительного опыта нам известен только веллингтоновский 1823 года; причем брешь была проделана непрямым залпом на расстоянии 500—600 шагов в не укрепленной контрфорсом стене, которая была прикрыта контргар-дом. Крымская война доказала лишь неуязвимость каменных береговых фортов для кораблей, а Бомарсунд — только то, что строительные подрядчики ужасающе надули русское правительство. Итальянская война не показала ничего, так как до осады крепостей дело не дошло. До последнего времени принято было считать, что при прежних артиллерийских средствах неприкрытая каменная кладка казематов при известных усло виях создала бы возможность такого превосходства в огне против осадных батарей, которое оправдало бы произведенные на нее расходы *. Опыт Юлиха показал, что нарезные пушки со снарядами ударного действия даже при малых калибрах спо собны пробивать бреши в каменной кладке на расстоянии 1 200 шагов даже при непрямом выстреле. А теперь и в Америке произошли события, которые учат совершенно иному.
При атаке форта Пьюласки (перед Саванной) генерал Джиль-мор (бесспорно, первый среди ныне живущих американских
* Далее Энгельсом вычеркнута фраза: «А как обстоит дело теперь?», Ред,
ЗАМЕТКИ ОБ АГТИЛЛЕРИИ В АМЕРИКЕ
365
артиллеристов) имел только тяжелые колумбиады, гладкоствольные пушки калибра до 15 дюймов, стрелявшие ядрами с сильными пороховыми зарядами526. Он установил свои батареи на расстоянии 1200 шагов и в течение немногих дней обратил в груду мусора казематированное сооружение с его мощной каменной кладкой. Впрочем, этот опыт убедил его, что на более дальнем расстоянии его пушки не смогли бы разрушить каменную кладку. К сожалению, у нас нет данных о пороховых зарядах, так как все американские сообщения составляются крайне поверхностно; однако можно представить себе, что при подобных пушках не может быть и речи о пороховом заряде в Vu веса ядра.
Поэтому для атаки Чарлстона Джильмор затребовал нарезные орудия крупных калибров и получил их. Это были так называемые пушки Паррота, орудия, заряжающиеся с казны, с 4—7 нарезами в зависимости от калибра. Нарезы плоские, ход нарезки меньший, чем в пушках Армстронга. Орудия сделаны из чугуна с наваренным на казенной части кольцом из кованого железа, доходящим до цапф; они имеют форму обычных пушек. Их цена, должно быть, составляет ровно одну четверть, центнер на центнер, цены английских тяжелых пушек Армстронга. Снаряды имели цилиндрическую продолговатую форму и корпус из мягкого металла, чтобы он мог вдавливаться в нарезы.
С этими пушками Джильмор напал на форт Вагнер (см. недавно помещенный в «Allgemeine Militär-Zeitung» план Чарлстона 527). Но это сооружение, воздвигнутое из легкого дюнного песка, устояло. Помещения, бомбоустойчивые и прикрытые сверху, защищали гарнизон, несколько атак было отбито. Пришлось перейти к регулярной осаде, и здесь тяжелые орудия себя хорошо показали. Итак, Джильмор составил из них три новые батареи, которые он разместил против форта Самтер, расположенного в центре горловины, ведущей в гавань. Эти батареи, одна из которых стояла на болоте, были удалены от форта Самтер на расстояние 3300—4200 ярдов (4—5 тысяч шагов).
Форт Самтер был выстроен на искусственном острове из особого, очень прочного кирпича. Толщина стен составляла 6—7 футов, у подошвы до 12 футов, своды казематов и контрфорсы 8—9 футов. Форт располагал двумя этажами казематов и одним этажом орудий на крыше, стрелявших через банк. Он имел форму тупоугольного люнета; огню джильморовских батарей были доступны главным образом горжа и один из фланков. В форте находилось 140 пушек.
13*
366
Ф. ЭНГЕЛЬС
Обстрел продолжался 8 дней, с 16 по 23 августа; время от времени подключался и флот, но без большого успеха. Однако нарезные 200-фунтовые орудия сделали свое дело. Стены горжи и фланков обрушились первыми, за ними и стены, расположенные с другой стороны. К концу бомбардировки форт, по словам Джильмора, представлял a shapeless mass of ruins — бесформенную груду обломков. Всего был сделан 7 551 выстрел, из них 5 626 попаданий (на таком огромном расстоянии!): 3495 пришлось на наружные, 2130 — на внутренние стены. Достаточно было небольшой пристрелки, и многие ядра стали пробивать сразу обе стены.
У Джильмора была одна нарезная 300-фунтовая пушка, кото рая разорвалась на седьмом выстреле. Первые же шесть ядер, по-видимому, пробили обе стены, вызвав местами обвал стен высотой в 20 футов.
Форт, понятно, отвечал слабо. Его батареи не могли на расстоянии немецкой полумили обстреливать видимые цели, если бы даже имели пушки соответствующей дальнобойности. Так как форт находился в сфере огня многих конфедератских батарей, то попыток занять его сразу не предпринималось 528, однако теперь, после падения фортов Вагнер и Каннингс-пойнт, эта попытка, вероятно, будет сделана.
Из этих же батарей Джильмор выпустил 15 зажигательных снарядов на город Чарлстон — на расстояние больше одной немецкой мили — и прекратил бомбардировку лишь потому, что его ударные снаряды не разрывались, так как после длительной перевозки острия ударников не сработали.
Что же следует сказать нам в Германии в связи с этой бомбардировкой? Сможет ли устоять наша неприкрытая каменная кладка? Что будет с выдвинутыми на 800—1 200 шагов от глав ной стены фортами, которые должны защищать центр от бомбардировки? Что останется от редюитов фортов Кёльна, от фланкирующих ворот Кобленца и от Эренбрейтштейна? Наши враги — они морские державы — вскоре будут иметь доста точно нарезных орудий самых крупных калибров, а железные дороги для их перевозки имеются повсюду. Напротив, на сколько нам известно, самыми крупными из принятых на вооружение [в Германии] до настоящего времени нарезных орудий являются 24-фунтовые пушки калибра до 41/2 дюймов — настоящие карлики в сравнении с теми, которые будут выставлены против нас; и если бы даже наши казематы располагали такими пушками, то на расстоянии 5 тысяч шагов они не могли бы поражать осадные батареи. Наши крепости на Рейне, какой бы несовершенной ни была береговая линия укреплений,
ЗАМЕТКИ ОБ АРТИЛЛЕРИЯ В АМЕРИКЕ
367
до сих пор были нашей главной опорой против первого нападения французов; но что они стоят теперь, после такой практики?
Здесь не место долгим раздумьям. Здесь нужно действовать и действовать немедленно. Всякая затяжка может нам стоить проигранной войны. Videant consules, ne quid respublica det riment ! capiat *.
Написано Ф. Энгельсом в конце сентября 1863 г.
Первая часть статьи опубликована
в издании «Schriftenreihe
de* Forschungsinstitute
der Friedrich-Ebert-Stiftung».
Bd. SS. Friedrich Engels 1820—1970.
Referate, Diskussionen, Dokumente.
Internationale wissenschaftliche
Konferenz in Wuppertal vom 25 —29.
Mai 1970. Hannover, 1971, S. 69—71
Печатается по рукописи
Перевод с немецкого
Полностью публикуется впервые
* — Пусть консулы следят, чтобы государство не потерпело какого-либо ущерба. — Формула обращения римского сената к консулам в опасное для государства время Ред.
368 ]
К. МАРКС в Ф. ЭНГЕЛЬС
ТРАУРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 529
9 мая сего года в Манчестере в возрасте почти 55 лет скончался в результате кровоизлияния в мозг
ВИЛЬГЕЛЬМ ВОЛЬФ
родом из Тарнау, близ Швейдница, в Силезии, в 1848 и 1849 гг. один из редакторов «Neue Rheiiiische Zeitung» в Кёльне и депутат немецкого Национального собрания во Франкфурте и Штутгарте; с 1853 г. частный учитель в Манчестере. Манчестер, 13 мая 1864 г.
Карл Маркс. Фридрих Энгельс. Эрнст Дронке.
Д-р медицины Луи Борхардт.
Д-р медицины Эдуард Гумперт.
|
Публикуется по тексту газеты Перевод с немецкого |
Составлено К. Марксом и Ф. Энгельсом 18 мая 1864 г.
Напечатано в приложении к «Allgemeine Zeitung« Л» 144, S3 мая 1864 г.
[ 369
К. МАРКС
* БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ВОЛЬФЕ 530
1809 г., 21 июня, родился в Тарнау, Швейдницкий округ.
1813 г. Русские.
1834—1838 гг. 4]/г года в Зилъберберге 631. Казематный Вольф хочет навестить своего умирающего отца хотя бы в сопровождении жандармов. Отказано.
С 1843 по февраль 1846 г. в Бреславле.
1846 г. Вольф бежит в связи с угрозой процесса о нарушении закона о печати. Статья о восстании силезских ткачей.
1846—1848 гг. Брюссель. «Корреспондентское бюро» 632. В Брюсселе заключен в тюрьму. (Был арестован между 26 и 28 февраля.)
Апрель — июнь 1848 г. в Бреславле.
Сентябрь 1848 г. Кёльн. Лупус должен предстать [перед судом] ш. Приказ об аресте отменен.
22 октября 1848 г. Приказ Геккера об аресте. Отменен 8 марта 1849 г.
Июнь 1848 — 10 мая 1849 г. в Кёльне. Оттуда во Франкфурт.
26 мая 1849 г. Сцена в германском парламенте (Франк-фурт) 631.
1849 г. После того как Лупус уже был в Швейцарии, последовал приказ о доставке его в суд за участие в работе охвостья собрания в Штутгарте.
5 июля 1849 г. направился в Базель. Оттуда интернирован в Берн. 13/4 года учитель в Цюрихе. 31 марта 1851 г. Письменный приказ о высылке из Цюриха. (10 сентября 1850 г. Цюрих. Протест Лупуса против распоряжения о поселении его
370
К. МАРКС
в кантоне Люцерн в соответствии с решением Союзного совета о расселении эмигрантов.)
4 июня
1851—1853 гг. Приезд в Лондон.
Приблизительно
2 года в Лондоне.
12 января 1861 г. Прусский указ об амнистии518. 4 января 1862 г. Прошение прусскому правительству. Оставалось пять месяцев без ответа. Новое прошение от 4 июня 1862 г. 1 августа 1862 г. швейдницкий ландрат требует, чтобы Вольф сообщил о своем последнем местожительстве в Пруссии.
5
сентября 1862 г.
Прусское правительство сообщает,
что
амнистия приведет к продолжению
расследования *.
Написано К. Марксом а конце мая — начале июня 1864 г.
Впервые опубликовано в журнале v Новая и новейшая история«, 1959, M 4
Печатается по рукописи Перевод с немецкого
* См. настоящий том, стр. 358. Рев,
[ 371
К. МАРКС
* РЕЗОЛЮЦИИ О СОСТАВЕ ВРЕМЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 535
I
Лица, проживающие в любой части Англии, могут вступать в члены Товарищества. Но ни один член Товарищества не может быть избран в Центральный Совет, если он лишен возможности посещать его заседания и участвовать в его работе 53в.
II
В члены Центрального Совета не могут быть избраны лица, не уплатившие предварительно, как члены Товарищества, своих годовых членских взносов.
III
Выдвигать кандидатуры в члены Центрального Совета по крайней мере за неделю до выборов, а выборы производить в отсутствие кандидата; установить, что кандидатура может быть выставлена только после того, как данное лицо получило членский билет.
IV
Начинать сбор взносов 1 января и заканчивать его 31 декабря.
V
Поручить секретарю письменно известить тех членов Центрального Совета, которые не приобрели еще членского билета, что если они не сделают этого до 25 апреля включительно, то
372 к. Маркс
это будет рассматриваться как желание выйти из состава Совета и имена их в соответствии с этим будут вычеркнуты из списка членов Совета.
Центральный Совет считает необходимым принять такую резолюцию, поскольку поступили жалобы на то, что принятая ранее резолюция такого же содержания не была официально сообщена отсутствующим членам Совета,
VI
Члены-корреспонденты на континенте по своему положению являются членами Центрального Совета
Принято на заседаниях Генерального Печатается по тексту протокольной
Совета 8, 29 ноября 1864 г.,' книги Генерального Совета
24, 31 января, 11, 25 апреля 1865 г. „ ..
Перевод с английского
Впервые опубликовано
на русском языке в книге
«Генеральный Совет Первого
Интернационала. 1864—1866». М., 1961
f 373
К. МАРКС
* РЕЗОЛЮЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ИНТЕРНАЦИОНАЛУ РАБОЧИХ ОБЩЕСТВ
И ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ б3 ?
Подкомитет г'38 предлагает Центральному Совету принять следующие решения:
[1.] Выпустить специальные бланки для обществ, присоеди няющихся к Товариществу *. Эти бланки должны носить об щий характер, в них должно быть указано, что поименованное общество присоединилось к Международному Товариществу.
2. Все средства, собрашше в Англии в виде взносов отдель ных членов, должны поступать в Центральный Совет, но если какое-либо отделение Товарищества произвело целесообразный расход, Центральный Совет может, если сочтет нужным, пре доставить соответствующую сумму для ликвидации этого долга.
3. Снабдить наших братьев на континенте членскими биле тами стоимостью в 1 шиллинг; собранные средства должны быть пересланы Центральному Совету.
Принято на заседании Генерального Совета 7 февраля 1865 г.
Впервые опубликовано
на русском языке в книге
«Генеральный Совет Первого
Интернационала. 1864—1866». М., 1961
Печатается по тексту протокольной книги Генерального Совета
ilepeeoS с английского
• См. настоящий том, стр. 514 — 515 Ред.
374 ]
К. МАРКС
* ЗАМЕТКИ О КОНФЛИКТЕ В ПАРИЖСКОЙ СЕКЦИИ 839
21 февраля. (Вторник.) Постановление Центрального Совета послать Ле Любе, он уезжает.
Среда, 22 февраля. (Вечером) Любе уезжает.
Париж. 23 февраля. Приглашение встретиться с Лефором у Фрибура и т. д. (см. письмо Фрибура. Ответ Лефора в письме Шили, стр. 2).
24 февраля 5*°. Вечер. Встреча с Фрибуром и т. п.
25 февраля. Утро. Лефор вместе с Ле Любе посещают Шили. Затем Шили, оставив Лефора поблизости, идет к Фрибуру, где они встречают различных друзей: среди прочих один друг Лефора. Все были решительно против его посягательств. Тогда Шили пошел за ним и не скрыл от него, что считает его требование в данной формулировке неприемлемым (стр. 2). Обманут был и сам Лефор (там же). Любезно делаются шаги навстречу Лефору (стр. 2, 3).
25 (!) февраля. Вечер. Собрание. Ле Любе отсутствует; пошел на вечер к Лефору (стр. 3, 4). Описание этого собрания 25 февраля (стр. 4, 5, 6).
Написано К. Марксом 4 марта 1865 г. Печатается по рукописи
Впервые опубликовано Перевод с немецкого и английского
на русском языке в книге «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1864—1866». М., 1961
[ 375
К. МАРКС
* ЗАПИСКА Г. ЮНГУ ПО ПОВОДУ КОНФЛИКТА В ПАРИЖСКОЙ СЕКЦИИ 541
Подкомитет. Заседание 4 марта. У него * уже было намерение предложить резолюцию, согласно которой в состав Парижского правления должны были войти' Фрибур, Венсар, Лимузен, три члена по указанию Лефора, Шили в качестве своего рода арбит.ра.
Подкомитет. Заседание 6 марта Он вторично предлагает эту резолюцию.
Заседание Генерального Совета 7 марта. Он допустил назначение Шили без поименного голосования, то есть, говоря парламентским языком, он одобрил это назначение.
После того как назначение состоялось, он в страшной поспешности пишет в Париж, даже не имея еще на руках резолюций. Он рассчитывал, как он говорит (14 марта), что Парижское правление будет протестовать против Шили. Поскольку согласно пятой резолюции (Резолюция V. Так как Парижское правление выразило свою готовность признать непосредственного представителя Центрального Совета, Совет назначает гражданина Шили своим представителем при названном Правлении) Шили назначен представителем только при этом Правлении, его назначение могло быть опротестовано лишь членами Правления.
Потерпев неудачу с ними, Любе входит в заговор со своими братьями по ложе, чтобы указать на назначение Шили как на повод к их отставке 542.
Он сам себя ставит в это неловкое положение: он протестует против Парижского правления от имени Лефора и протестует
* — Лефора. Ред.
376
К. МАРКС
против Шили от имени Парижского правления, которое представляет Французское отделение и т. д.
Когда г-н Фокс заметил (на последнем заседании Центрального Совета), что объяснить, почему Ле Любе на заседаниях 4и6 марта забыл о национальности Шили и так живо вспомнил о ней 14 марта, можно только его желанием отомстить за неуважение, оказанное, по его мнению, г-ну Лефору, то Ле Любе согласился с этим простым объяснением.
Его подлые инсинуации:
во-первых, будто вводные слова к резолюции V были вставлены на ложных основаниях, для того чтобы заполучить голоса. Эти слова основаны на фактах, на открытом письме г-на Шили, привезенном Ле Любе и оглашенном 7 марта в при сутствии Толена и других, затем на отчете Шили, сообщенном Подкомитету, наконец, на резолюциях, принятых собранием 24 февраля в Париже. Эти слова вставлены только для того, чтобы избежать даже видимости диктаторства со стороны Центрального Совета;
во-вторых, будто 7 марта было убито много времени на лич ные пререкания, для того чтобы затем наспех пронести три по следние резолюции и захватить людей врасплох;
в-третьих, возражение, что г-н Шили не является рабочим. Оно в принципе отметается резолюцией IT. Шили должен был действовать только в частном порядке совместно с Парижским правлением; Лефору предстояло действовать публично. Для Лефора речь шла о выступлениях перед всем миром от имени Товарищества. Случай неаналогичный.
Он просит нас назначить его главным защитником во французской прессе. Мы удовлетворяем его просьбу, предполагая, что он действует в согласии и сотрудничестве с Толеном и другими. Добившись таким путем назначения, он затем оборачивается против нас в качестве официального лица. На основании письма Толена и до командировки Ле Любе в Париж мы отменяем это назначение, поскольку имелось в виду имя и общественное положение Лефора. (Мы сводим это к тому, что ему разрешается писать статьи не за своей подписью, а за подписью рабочего — это он мог делать и без нашего согласия.) Что это именно так, видно из сердитого письма, написанного им тогда же Ле Любе, но он изъявил согласие. Парижское собрание 24 февраля совершило только тот промах, что протестовало против резолюции, которая уже была отменена. И на этом основании г-н Лефор или его лондонские друзья притворяются, будто они забыли, что он уже отказался от поста, на который был назначен. Он даже угрожает нам, что
ЗАПИСКА Г. ЮНГУ ПО ПОВОДУ КОНФЛИКТА В ПАРИЖСКОЙ СЕКЦИИ 377
предостережет против нас всех демократов, и забывает о том, что мы можем предостеречь против него, если будет необходимость.
Он сам и его агент Ле Любе заявляют, что он действует не из личного честолюбия. Он лишь требует политической гарантии. Хорошо. Мы назначаем Венсара, человека, который представляет большие гарантии, чем Лефор и Ле Любе, вместе взятые. После своего назначения г-н Венсар превращается в глазах Лефора и Ле Любе в ничто. Единственное их возражение против его кандидатуры, выдвинутой Толеном и другими и впоследствии утвержденной, заключается в том, что об этом не было своевременно сообщено Лефору. Итак, этот жалкий вопрос этикета является их последним основанием к оппозиции и т. п
Угроза международному характеру общества и право Совета назначать послов.
Классовый характер движения. Республиканцы-формалисты.
1) Никакой резолюции против Шили; Маркс заявляет, что назначение г-на Шили отменяется и что он на него согласился только потому, что оно прошло единогласно.
2) Инструкция, данная Ле Любе для передачи французскому правлению и Лефору (на заседании Совета 7 марта), гласит: «Совет заявляет, что в случае, если соглашение не будет достигнуто, группа Лефора имеет право по нашему Уставу (см. § 7) после получения членских карточек образовать местную секцию Товарищества».
На заседании Совета 14 марта эта частная инструкция была превращена в резолюцию, потому что никакого соглашения не было достигнуто. Это была единственная принятая резолюция.
(Была еще принята резолюция о том, чтобы Ле Любе дословно сообщил обеим сторонам полный текст резолюции.)
Написано К. Марксом 16—18 марта 1865 г. Печатается по рукописи
Впервые опубликовано Перевод с английского и французского
на русском_ языке в книге «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1 S 64—1866». М., 1961
378 ]
К. МАРКС
•АННОТАЦИЯ НА БРОШЮРУ Ф. ЭНГЕЛЬСА
«ВОЕННЫЙ ВОПРОС В ПРУССИИ
И НЕМЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ» ш
«ВОЕННЫЙ ВОПРОС В ПРУССИИ
И НЕМЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ»
ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА (ГАМБУРГ, ОТТО МЕЙСНЕР) *
Пользуясь возможностью, мы с удовольствием рекомендуем нашим читателям данную книгу, в которой с больгаой проницательностью, беспристрастностью и знанием дела излагаются животрепещущие для современной Германии вопросы. Прежняя организация прусской армии, задачи ее реорганизации, возникновение прусского конституционного конфликта 544, ру ководство оппозицией со стороны прогрессистской партии, происходящие одновременно с этим разногласия между прогрессистской партией 645 и рабочей партией — все это изложено в этой книге кратко и вместе с тем ново и с исчерпывающей полнотой.
Написано К. Марксом Печатается по тексту газеты
в середине марта 186S г. „ ,
Перевод с немецкого Напечатано в газете « Londoner Anzeiger» 17 марта 1866 г.
* »Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei». Von Friedrich Engels. Hamburg. Otto Meißner. Ред .
[ 379
К . МАРКС
* ЗАМЕТКИ К ДОКЛАДУ « ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА , ЦЕНА И ПРИБЫЛЬ » 646
1) Общее повышение уровня заработной платы, вообще го воря, приведет к общему падению нормы прибыли, в то время как стоимость товаров останется неизменной.
2) Только при совершенно исключительных обстоятельствах может быть осуществлено общее повышение заработной платы. Если оно будет достигнуто, то и утрачено оно может быть тоже при совершенно исключительных обстоятельствах. Общая тенденция производства на его современной основе — не повышать, а понижать заработную плату. Даже если бы общее повышение уровня заработной платы на более длительный период было достигнуто, оно не уничтожило бы, а только смягчило рабство наемного рабочего, то есть основной массы народа.
3) Тред-юнионы приносят пользу, поскольку они противо действуют хотя бы временно тенденции к понижению общего уровня заработной платы и поскольку они стремятся сократить и регламентировать рабочее время, иными словами, продолжительность рабочего дня. Они приносят пользу, поскольку являются средством организации рабочего класса как класса. Они иногда не соответствуют своему назначению, когда неразумно используют свою силу, и обычно не соответствуют своему назначению, когда рассматривают современные отношения капитала и труда как нечто незыблемое, вместо того чтобы добиваться их уничтожения.
Написано К. Марксом в июне 1865 г. Печатается по рукописи
Впервые опубликовано на русском Перевод с английского
языке в книге ((Генеральный Совет Первого Интернационала. 1864—186в». М., 1961
380 ]
К. МАРКС
* РЕЗОЛЮЦИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО КОНГРЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛА В 1866 ГОДУ
Постоянный комитет предлагает Центральному Совету одобрить и передать на утверждение конференции следующий проект резолюции:
Поручить Центральному Совету созвать общий конгресс в 1866 г., если только непредвиденные обстоятельства не сделают необходимой его дальнейшую отсрочку.
Принято на заседании Генерального Печатается по тексту протокольной
Совета 19 сентября 1865 г. книги Генерального Совета
Впервые опубликовано на русском Перевод с английского
ягыке в книге «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1804—18вв». М., 1961
f 381
К. МАРКС
•РЕЗОЛЮЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
КОНГРЕССА w
Прежде чем обсуждать вопросы, поставленные конферен цией, необходимо точно определить общие цели и руководящие принципы Товарищества, изложенные в Манифесте и Уставе.
Внесено К. Марксом на заседании Печатается по тексту протокольной
Генерального Совета 23 января 1866 г. книги Генерального Совета
Впервые опубликовано на русском Перевод с английского
языке в книге »Генеральный Совет Первого Интернационала, 1864 — 1866». М., 1961
382 ]
К. МАРКС
* РЕЗОЛЮЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ИТАЛЬЯНСКИХ РАБОЧИХ ОБЩЕСТВ НА ЖЕНЕВСКОМ КОНГРЕССЕ 548
Поручить секретарю совместно с кем-нибудь из членов Цен трального Совета принять все необходимые меры к тому, чтобы итальянские общества были представлены на конгрессе.
Принято на заседании Генерального Печатается по тексту протокольной
Совета 24 июля 1866 г. книги Генерального Совета
Впервые опубликовано на русском Перевод с английского
языке в книге «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1864—1866». М., 1961
[ 383
К. МАРКС
* ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ ЖЕНЕВСКОГО КОНГРЕССА
1. Комитет предлагает принять повестку дня в том виде, в каком она опубликована во французской программе с одной лишь поправкой, а именно, чтобы последний вопрос был соеди-
нен с первым 549.
2. Поручить секретарю составить отчет о числе членов Товарищества и общую сводку прихода и расхода.
3. Комитет рекомендует конгрессу организовать обследование положения рабочего класса по следующей схеме 55°:
1) Наименование производства.
2) Возраст и пол занятых в нем лиц.
3) Число занятых в нем лиц.
4) Условия найма и заработная плата —
а) учеников; Ь) поденная или сдельная заработная плата; выплачивается ли она через посредника. Средний недельный, годовой заработок.
5) Продолжительность рабочего дня на фабриках. Про должительность рабочего дня у мелких предпринима телей и в домашнем производстве, в случае наличия всех этих видов производства. Ночной и дневной труд.
6) Перерывы на еду и обращение с рабочими.
7) Состояние помещения и условия работы: теснота, плохая вентиляция, недостаток солнечного света, применение газового освещения и т. п., чистота и т. д.
384
К. МАРКС
8) Род занятий.
9) Влияние работы на физическое состояние.
10) Моральные условия. Воспитание.
11) Состояние производства. Является ли оно сезонным или действует более или менее равномерно в течение всего года, испытывает ли значительные колебания, подвергается ли иностранной конкуренции; обслуживает ли оно преимущественно внутренний или внешний рынок и т. д.
[4.] Присоединившиеся общества уплачивают годовой взнос в размере 112 пенни с каждого члена. Стоимость членских билетов или livrets * взимается особо. Секретарю предоставляется право договариваться с обществами, испытывающими недостаток средств, о льготных условиях.
[5.] Совет рекомендует членам Товарищества создавать общества взаимопомощи и организовать между ними международный обмен.
[6.] Местные комитеты должны вести учет состояния промышленности в своих округах и снабжать рабочих информацией.
Внесено К. Марксом на заседании Генерального Совета 31 июля 1866 г.
Впервые опубликовано на русском языке
в книге «Генеральный Совет
Первого Интернационала. 1864 —1866».
U., 1961
Печатается по тексту протокольной книги Генерального Совета
Перевод с английского
* — книжек, Ред,
Г 385
К. МАРКС
РЕЗОЛЮЦИИ О СОСТАВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
Маркс предлагает кандидатуру Оджера [на пост председателя Совета]. Он, Маркс, считает себя непригодным для этой должности, потому что он работник умственного труда, а не физического ш.
Маркс предлагает определить состав Комитета 638 пока лишь временно. В Комитет должны войти должностные лица и те секретари, которые уже назначены.
II
1. Член Центрального Совета, пропустивший более четырех заседаний без достаточных причин, может быть исключен из состава Совета.
2. Эта резолюция должна быть немедленно доведена до све дения всех членов Совета.
III
Единогласно принимается решение не назначать постоян ного председателя на ближайший год; передать генеральному секретарю функции финансового секретаря, а должность финансового секретаря упразднить """
552
|
Принято на заседаниях Генерального Печатается по тексту протокольной Совета 25 сентября, книги Генерального Совета |
в ноября 1866 s.i a сентября 1867 г.
Впервые опубликовано на русском
языке в книге «Генеральный Совет
Первого Интернационала.
1866—1868». М., 1963
Перевод с английского
386 ]
К. МАРКС
* РЕЗОЛЮЦИИ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЛОЗАННСКОГО КОНГРЕССА
I
Сформулировать следующим образом первый пункт повестки дня конгресса:
О практических средствах, при помощи которых Международное Товарищество Рабочих сможет выполнить свои функции общего центра действия для рабочих, женщин и мужчин, в их борьбе за свое полное освобождение от господства капитала.
II
Опубликовать в «Courrier Français» нашу программу конгресса; установить, что никакое отделение не имеет права выдвигать свою собственную программу, что только Совет наделен полномочием составлять программу конгресса; поручить генеральному секретарю послать в «Courrier» программу конгресса, составленную Советом, и довести эту резолюцию до сведения парижского комитета б53.
Внесено К. Марксом па заседаниях Печатается по тексту протокольной
Генерального Совета 9 и 23 июля 1867 г, книги Генерального Совета
Впервые опубликовано на русском Перевод с английского
языке в ютге «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1866 —1868», М., 1963
[ 387
К. МАРКС
* ПОЗИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В ВОПРОСЕ О ПРУССКИХ ПРОТЕКЦИОНИСТСКИХ ТАРИФАХ 554
Профессиональные союзы, учрежденные в Германии по ини циативе и при поддержке Международного Товарищества Ра бочих, снабдили руководителей железоделательной промышленности Рейнской провинции аргументами против намерения прусского правительства снизить ввозные пошлины на чугун. Торговая палата Эльберфельда и Бармена считает, что сниже ние ввозных пошлин на чугун совершенно разорит прусских горнопромышленников. Английские капиталисты утверждают, что вынуждены снижать заработную плату своим рабочим, чтобы выдерживать заграничную конкуренцию. Немецкие горнопромышленники просят сохранения протекционистских мер, чтобы спастись от разорения в результате конкуренции англичан; между тем заработная плата прусских рабочих более чем вдвое меньше той, которую получают английские рабочие, а рабочее время более продолжительное.
В своем отчете правительству 14 апреля торговая палата заявляет:
«Разорение немецкой железоделательной промышленности, раз допущенное, оудет непоправимо. Большие капиталы пропадут, и тысячи рабочих окажутся без средств к существованию. Может создаться положение тем более критическое, что рабочий вопрос приобретает все большее значение, а позиция Международного Товарищества Рабочих становится все более активной и угрожающей».
Это признание доказывает, что Товарищество потрудилось не напрасно. Капиталисты требуют официального обследования нынешнего положения прусской железоделательной промыш ленности. Рабочие настаивают на том, чтобы обследование включило также изучение положения рабочих, занятых в этом производстве.
Написано К. Марпсом 5—12 мая 1вв8 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в « The Bee - Hive Newspaper» Перевод с английского
M 344, 16 мая 1868 г.
На русском языке публикуется впервые
388 ]
К. МАРКС
ВВОДНЫЙ АБЗАЦ К ПУБЛИКАЦИИ РЕЗОЛЮЦИЙ ЖЕНЕВСКОГО (1866) И БРЮССЕЛЬСКОГО (1868) КОНГРЕССОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Поскольку некоторые из резолюций, принятых па первом конгрессе, можно рассматривать как часть принципиальной программы Международного Товарищества Рабочих, а отчет об этом конгрессе получил лишь ограниченное распространение, Генеральный Совет считает целесообразным перепечатать их вместе с публикацией резолюций, принятых на последнем конгрессе.
В числе различных вопросов, рассмотренных первым, Женевским конгрессом, важнейшими являются следующие ъъъ.
Напечатано в « The Bee - Hive Newspaper » Печатается по тексту газеты
M 371, 21 ноября 1Ш г. П(фиов fl анелийтого
[ 389
К. МАРКС
* ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОГРАММУ И УСТАВ
МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬЯНСА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 66«
[ПРОГРАММА И УСТАВ ОТКРЫТОГО АЛЬЯНСА]
Социалистическое меньшинство Лиги мира и свободы, отделившись от этой Лиги в результате голосования большинства Бернского конгресса, официально высказавшегося против основного принципа всех рабочих ассоциаций, а именно экономического и социального уравнения классов и индивидов, тем самым присоединилось к принципам, провозглашенным на рабочих конгрессах, состоявшихся в Женеве, Лозанне и Брюсселе. Несколько членов этого меньшинства, принадлежащих к различным национальностям, предложили нам организовать новый Международный альянс социалистической демократии, целиком растворенный в великом Международном Товариществе Рабочих, но имеющий своей особой миссией изучение политических и философских вопросов на основе великого принципа всеобщего и действительного равенства всех людей на земле.
Убежденные, со своей стороны, в полезности подобного начинания, которое даст искренним социалистическим демократам Европы и Америки средство взаимопонимания и утверждения своих идей, вне какого-либо давления со стороны фальшивого социализма, который буржуазная демократия считает ныне нужным афишировать, мы сочли своим долгом взять на себя, совместно с этими друзьями,
[ЗАМЕЧАНИЯ К. МАРКСА]
равенство классов!
растворенный в и ос нованный в противо вес!
Итак, для социалистических демократов Интернационал не является средством взаимопонимания.
390
К. МАРКС
инициативу создания этой новой * организации.
Исходя из этого, мы конституировались в центральную секцию Международного альянса социалистической демократии и публикуем в настоящее время ее программу и устав.
Какая скромность! Они конституируются как центральная власть, экие молодцы!
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
АЛЬЯНСА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
1) Альянс объявляет себя атеистическим; он стремится к отмене культов, замене веры наукой и божественной справедливости — справедливостью человеческой.
2) Он прежде всего добивается политического, экономического и социального уравнения классов и индивидов обоего пола, начиная с отмены права наследования, для того чтобы в будущем пользование благами соответствовало производительному труду каждого и чтобы, в соответствии с решением, принятым последним рабочим конгрессом в Брюсселе, земля, орудия труда, как и вообще всякий капитал, становясь коллективной собственностью общества в целом, могли использоваться лишь тем, кто трудится, то есть сельскохозяйственными и промышленными ассоциациями.
3) Он добивается для всех детей обоего пола, начиная с их рождения, равных условий развития, то есть содержания, воспитания и обучения на всех ступенях науки, производства и искусств, исходя из убеждения, что это равенство, вначале только экономическое и социальное, в дальнейшем все больше будет вести к всеобщему великому естественному равенству личностей и к исчезновению всех видов искусственного неравенства — исторического продукта общественной организации, столь же фальшивой, сколь и несправедливой.
4) Враг всякого деспотизма, не признающий иных политических форм, кроме республиканских, и абсолютно отвергающий всякий союз с реакцией, он отвергает также всякое политическое действие, не имеющее прямой и непосредственной целью торжество дела рабочих против капитала.
Как будто можно декретировать отмену веры!
Двудомный человек! Совсем как русская община!
Старая сен-симонист-ская панацея!
Фраза!
* Слова, выделенные полужирным курсивом, аодчеркнуты Марксом, Рев,
ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОГР. И УСТАВ МЕЖД. АЛЬЯНСА СОЦ. ДЕМОКРАТИИ 391
5) Он признает, что все существующие в настоящее время политические и авторитарные государства, все более и более сводящие свои функции к простым административным функциям общественных служб в своих странах, должны будут исчезнуть во всеобщем союзе свободных ассоциаций, как сельскохозяйственных, так и промышленных.
6) Поскольку социальный вопрос может найти свое окончательное и действительное разрешение лишь на основе международной или всеобщей солидарности рабочих всех стран, Альянс отвергает всякую политику, основанную на мнимом патриотизме и на соперничестве наций.
7) Он добивается всеобщей ассоциации всех местных ассоциаций на основе свободы.
УСТАВ
1) Международный альянс социалистической демократии конституируется в качестве секции Международного Товарищества Рабочих и принимает полностью его общий Устав.
2) Члены-учредители Альянса временно организуют в Женеве центральное бюро.
3) Члены-учредители, принадлежащие к одной стране, образуют национальное бюро своей страны.
4) Национальные бюро имеют задачей учреждать во всех местностях местные группа Альянса социалистической демократии, которые через свои национальные бюро будут обращаться к центральному бюро Альянса с просьбой об их приеме в Международное Товарищество Рабочих.
5) Все местные группы образуют свои бюро, следуя практике, принятой местными секциями Международного Товарищества Рабочих.
6) Все члены Альянса обязуются уплачивать ежемесячный взнос в размере десяти сантимов, половина которого будет удерживаться национальными группами для собственных нужд, а другая половина — вноситься в кассу центрального бюро для его общих нужд.
В странах, где эта сумма будет признана слишком высокой, национальные бюро, по согласованию с центральным бюро, могут ее уменьшить.
7)
Во время
ежегодного конгресса ра
бочих делегация
Альянса
социалистиче-
Если сами сводят свои функции, то не должны будут исчезнуть, а исчезнут сами собой.
Соперничество сопер ничеству рознь, мой любезный русский!
Международное Товарищество не допу скает «международных секций». Новый генеральный совет!
Устав Интернациона ла не признает этих «полномочий посредника».
Новые поборы, погло щающие наши соб ственные средства!
392 к. Маркс
ской демократии, в качестве отделения Международного Товарищества Рабочих, будет проводить свои открытые заседания в отдельном помещении.
Они хотят иод нашей эгидой компрометировать нас.
ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ЖЕНЕВСКОЙ ГРУППЫ
//. Филипп Беккер. — М. Бакунин. — Т. Реми. —Антуан Линдегер. —Луи Пиде-гер. —Валерьян Мрочковский. — Ян Загорский. — Филл. Цоллер. — А. Арден. — Ш. Перрон. — Ж- Рей. — Ж- Фрисс. — Ф. Роша. —Иикилай Жуковский. — М. Эл-пидин. — Замнерини. — Э. Беккер. — Луи Вайс. — Церре. — Марауда. — Эдуард Кроссе. — А. Бланшар. — А. Alumne. — Реймон. — Г-жа Алексеева **. — Г-жа Бакунина. — Г-жа Сьюзет Прозе. — Г-жа Розалия Сангинед. — Г-жа Дезире Гей. — Г-жа Гиие Жепни. — Антуан Дюно. ■— Ж. Моле. — Герри. — Жак Куртуа. — Жан Homo . —Андре Бель.—Фр. Боффе-ти. — Ш. Гийо. — III . Постлеб. — Ш. Дет-ра.—Ж. Крове.—Ж. Сангинед.—Г. Жак-лар. — Л. Кулен. — Фр. Гей. — Влез Росетти. — Ж. Марильи. — К. Брех-тель. — Л. Монашон. — Фр. Мермилъо. — Дона-отец. — Л. Ж. Шеневалъ. — Ж- Б. Бе-до. — Л. А. Форнашон. —Пиньер. — Ш.Гранж.—Жак Лаплас.—С.Пеллатон. — В. Pay . — Готлоб Вальтер. — Адольф Эберлине. —Перъе. — Адольф Каталан. — Марк Эридье. — Луи Алман. — А. Пел-легрин-Друа. — Луи de Könne. — Луи Дю- пра. — Гильмо. — Жозеф Баке. — Фр. Листер. — Ш. Рюше. — Плясид Маргарита. — Поль Гарбани. — Этьенн Боре. — Ж. Ж. Скопини. — Фр. Кроше. — Жан Жост. — Леопольд Вухер. — Г, Фийета. — Л. Фюлике.—А ми Гандийон.—В. Алексеев ***. — Франсуа Шевалье. —
Поскольку члены-учредители Меж дународного аль ян с а соци алистической демократии приняли решение основать газету под названием «La Révolution» в качестве печатного органа новой организации, временное центральное бюро приступит к выпуску издания, как только будут размещены три
Asinus Asinorum! * И г-жа Бакунина!
И они имели наглость без моего ведома объ явить в Швейцарии, что якобы я буду помещать статьи в «Révolution»!
* — Осел из ослов! Рев, ' * — Бартенева. Ред. *• - Бартенев. Рей.
ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОГР. И УСТАВ МЕЖД. АЛЬЯНСА СОЦ. ДЕМОКРАТИИ 393
сотни акций, каждая по 10 франков, подлежащие оплате по одной четверти каждый квартале 1 января 1869 года. В соответствии с этим временное центральное бюро обращается ко всем национальным бюро Альянса с приглашением начать размещение акций в своих местностях. Так как приобретение акций рассматривается как добровольный дар, не дающий права на получение газеты, национальные бюро должны одновременно составлять список подписчиков.
Газета будет выходить раз в неделю.
Подписная плата:
За год .................................................. 6 фр.
6 месяцев ............................ .3 фр. 50
По поручению временного центрального бюро:
Секретарь Ян Загорский улица Монбрийан, 8
N. В. Просьба к национальным бюро доставить центральному бюро суммы, полученные в погашение акций и по подписке, не позже 1 января.
Замечания сделаны К. Марксом IS декабря 1868 г.
Впервые опубликовано на русском
языке в книге «Генеральный Совет
Первого Интернационала, 1868—1870».
M., 1B64
Печатается по экземпляру листовжи с пометками Маркса
Перевод с французского
394 ]
К. МАРКС
•СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА567
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО РАБОЧИХ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ « BEE- HIVE »
Милостивый государь!
На заседании этого Товарищества 5 сего месяца были оглашены письма из Германии, извещающие о присоединении 2 тысяч горняков из Лугау (Саксония), а также о шагах, предпринимаемых двумя другими обществами горняков, насчитывающими каждое до 7 тысяч человек, с целью присоединения к Международному Товариществу Рабочих.
В Берлине создан демократический рабочий клуб; его члены вступили в Международное Товарищество Рабочих и высказались против прусского правительства и против Шульце-Делича. В Германии профессиональные союзы, созданные усилиями Международного Товарищества Рабочих по типу английских тред-юнионов с учетом некоторых усовершенствований, рекомендованных решениями рабочих конгрессов в Женеве, Лозанне и Брюсселе, насчитывают уже 110 тысяч членов.
Секретарь для Бельгии * сообщил, что в Бельгии уже имеется 60 отделений Товарищества и каждую неделю вступает по тысяче новых членов.
Секретарь для Швейцарии ** передал полученную информацию о локауте некоторого числа ткачей лент в Базеле. К этому вопросу решено вернуться в следующий вторник, когда Совет уже будет располагать всеми фактами.
Секретарь для Франции*** сообщил, что хлопчатобумажные фабриканты Руана, департамента Нор и некоторых других
• — Бернар. Ред. * • — Юнг. P«ô, ••• — Дюпон, Ptd .
'
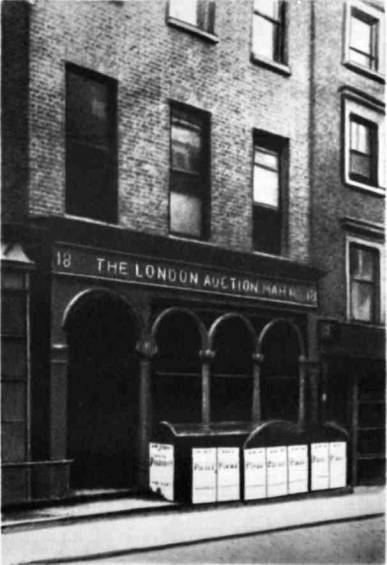
Дом на Грик-СТРИТ в Лондоне, в котором проходили заседания Генерального Совета с 1864 по 1866 год
СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 395
департаментов Франции договорились о снижении заработной платы своим рабочим, чтобы побить английских промышленников на их собственных рынках, продавая свои товары по более низким ценам.
Следующая резолюция, предложенная гражданином Аплгар-том и поддержанная гражданином Марксом, была принята единогласно:
По мнению Совета, попытка предпринимателей Руана, департамента Пор и других департаментов Франции снизить заработную плату своим рабочим с заведомой целью побить английских фабрикантов на их собственных рынках заслуживает осуждения рабочих и предпринимателей всех стран мира. Признавая право на свободную конкуренцию, если она осуществляется законными средствами, мы полностью отвергаем расширение торговли путем сокращения и без того чрезвычайно низкой заработной платы рабочих.
Принимаемся решение предложить различным обществам прислать делегатов на следующее заседание Совета, имеющее быть во вторник, 19 января, в 8 часов вечера, для обсуждения наиболее эффективных способов сорвать недопустимые попытки французских фабрикантов и оказать заинтересованным рабочим необходимую помощь.
Временно исполняющий обязанности секретаря Герман Юнг 6 января 1869 г.
Напечатано в « The Bee - Hive Newspaper» Печатается по тексту газеты
M 379, U января 1S69 г, „
Перевод с английского
Полностью на русском языке публикуется впервые
14 М, и Э., т. 44
396 ]
К. МАРКС
* О КОНФЛИКТЕ В ЛИОНСКОЙ СЕКЦИИ ш
Граждане! На основании резолюции Базельского конгресса 1869 г., согласно которой Генеральный Совет должен действовать в качестве третейского судьи в случае возникновения разно гласий между членами Товарищества, лионская секция Международного Товарищества Рабочих обратилась к Совету с просьбой разобраться в споре между Альбером Ришаром, с одной стороны, и членами старой лионской секции Шеттелем, Кормье, А. Бланом, Шано и Вендри, с другой.
Генеральный Совет, рассмотрев документы, присланные этой секцией, заявляет, что выдвинутые обвинения не имеют ни ма лейшего основания, и подтверждает решение, вынесенное двумя специально назначенными для разбора этого дела комиссиями: первой — на Лозаннском конгрессе 1867 г. и второй — в Женеве в 1869 г. Совет оставляет за Альбером Ришаром пост секретаря-корреспондента Международного Товарищества Рабочих в соответствии с Уставом и Регламентом.
Принимая также во внимание, что обращение старых членов к радикальным буржуа с просьбой вынести решение по данному вопросу, который бы должен быть известен только членам Товарищества, противоречит Уставу, духу и интересам Товарищества и играет на руку его врагам, Генеральный Совет резко порицает поведение старых членов секции.
Генеральный Совет, пользуясь представившимся случаем в связи с этим недоразумением, напоминает всем членам Товарищества, что они должны информировать его, прежде чем оглашать что-либо в печати или предпринимать какие-нибудь действия публично. Образ действия, подобный тому, какой имел
О КОНФЛИКТЕ В ЛИОНСКОЙ СЕКЦИИ 397
место, рассчитан на разжигание личной вражды, а этого всегда необходимо тщательно избегать; это вносит разлад в наши ряды и может пойти на пользу только нашим противникам в такое время, когда вся деятельность, все усилия и вся энергия наших людей должны быть направлены на скорейшее торжество принципов Международного Товарищества Рабочих.
Утверждено Генеральным Советом Печатается по тексту протокольной
8 марта 1870 г. книги Генерального Совета
Впервые опубликовано на русском Перевод с английского
языке в книге «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868—1870». М., 1064
14*
398 ]
К. МАРКС
КОМИТЕТУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА РАБОЧИХ-МЕТАЛЛИСТОВ 66э
Лондон, 18 апреля 1870 г.
Дорогие друзья!
Около двух недель тому назад исполнительный комитет Объединеиного общества механиков пригласил, наконец, Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих направить делегатов, чтобы обсудить вопрос о непосредственных связях с металлистами в Германии и механиками в Париже. Теперь, прежде чем принять решение в отношении вас, они просят прислать ответ на следующие вопросы:
1. Какова продолжительность рабочего дня?
2. Сколько рабочих дней в неделю? Бывает ли воскресенье рабочим дном?
3. Величина заработной платы?
4. Оплачивается ли сверхурочная работа и в каком размере?
5. Количество членов?
6. Каков ваш недельный вэнос?
7. Связаны ли больничные кассы и т. д. с профессиональным обществом?
8. Рабочие каких отраслей труда принадлежат к обществу?
С братским приветом
Карл Маркс
Написано К, Марксом 18 апреля 1870 г. Печатается по тексту газеты
Напечатано в газете «Tagwacht» Перевод с немецкого
M 18, 1870 ».
На русском языке публикуется впервые
[ 399
Ф. ЭНГЕЛЬС
РОБЕРТ РИД, ЭКС-КОРРЕСПОНДЕНТ «DAILY TELEGRAPH»600
1 толя 1871 г.
Боуэрс, корреспондент «Morning Advertiser», арестованный в ресторане Петерса вместе с корреспондентом « Times» Далласом и одним русским атташе, был тут же освобожден. Но затем он вернулся в кафе за своей дамой (англичанкой), и, застав ее кокетничающей с другим господином, набросился на него и за это был арестован и заключен под стражу.
Эти трое опубликовали в «Vérité» письмо, которое лживо утверждало: 1) будто в кафе присутствовали члены Коммуны, в красных с золотом шарфах, и всякие потаскухи, которые предъявили свои билеты, и 2) будто Боуэрс был задержан без всяких оснований. (Это были всего лишь полицейские чиновники, в красных шарфах, но без золотой бахромы.)
« Telegraph» часто публиковала написанные Ридом отчеты в совершенно измененном виде. Газета отказалась опубликовать одно очень важное письмо.
Версальский корреспондент «Telegraph» утверждал в номере от 17 или 18 мая, что Курбе в Лувре молотком разбивал произведения искусства. 20 числа Рид показал эту телеграмму Курбе. Тот направил редактору «Telegraph» следующее письмо:
«Милостивый государь!
Я не только не уничтожал каких-либо произведений искусства в Лувре, но, наоборот, по моей инициативе все они, рассредоточенные разными министрами по различным зданиям столицы, были собраны и возвращены на свои места в [Луврском] музее. Такая же услуга оказана Люксембургу. Я, тот человек, который сохранил и рассортировал все произведения искусства, вывезенные из дома г-на Тьера, я обвиняюсь в разрушении Вандомской колонны. Однако документально подтвержден ным фактом является то, что декрет о разрушении был принят 14 апреля,
400
Ф. ЭНГЕЛЬС
а я избран в Комиссию 20 числа, шестью днями позже. Я горячо на стаивал на сохранении барельефов и предложил создать для них во дворе Дома инвалидов музей. Зная чистоту мотивов, по которым действую, я также сознаю и все трудности, унаследованные от такого режима, как империя.
Привет и братство
Г. Курбе Ратуша, 20 мая 1871 г.»
Однако это письмо, посланное через Рида в «Telegraph», напечатано не было.
См. газеты 10—12 апреля.
Толеш Корреспондент « Times» хочет узнать, что скажет Генеральный Совет по этому поводу. A «Times» отказался напечатать нашу резолюцию бв1.
Риду было предложено посылать сообщения для « Telegraph», и он готов присягнуть, что при напечатании эти корреспонденции изменялись в невыгодную для Коммуны сторону.
Лекция корреспондента «Daily News» Адольфуса Смита о Коммуне — в театре Меринг Кросс 3 июля 1871 го;;а.
Присутствовал на демонстрации на Рю де ла Ile. Ружья национальной гвардии на Вандомской площади были составлены в пирамиды. Один англичанин, имя которого он назвал (Литем?) и который находился в первых рядах шествия, бросился к пирамидам, чтобы завладеть одним из них.
Журд оставался в горящем здании министерства финансов до последней минуты, спасая книги и деньги. И его обвиняют в поджоге! Один англичанин, живущий напротив, имя которого он может назвать, видел, как две бомбы пробили крышу и разорвались, и вскоре затем появился дым, потом пламя, которое постепенно охватило все здание.
Записано Ф. Энгельсом 1 июля 1871 г. Печатается по рукописи
Впервые опубликовано на русском Перевод с немецкого и английского
языке « книге «Первый Интернационал и Парижская Коммуна. Документы и материалы». М., 1972
[ 401
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
* ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 1869—1871 ГОДОВ 662
1869 (СО ВРЕМЕНИ БАЗЕЛЬСКОГО КОНГРЕССА)
28 сентября 1869 г. Юнг сообщает о получении письма от генерала Клюзере из Нью-Йорка Оно было адресовано конгрессу, но пришло слишком поздно.
Печатание отчета о Базельском конгрессе
Зачитывается письмо нью-йоркских рабочих, изготовляющих бумажные обои. Они просят Совет использовать свое влияние и предотвратить ввоз рабочих, который может повлечь за собой поражение бастующих в настоящее время рабочих. Шаги, предпринятые в этом направлении (позднее, получены письма от советов тред-юнионов Манчестера, Эдинбурга и т. д., которые получили письма от Генерального Совета). 5 октября 1869 г. Зачитывается письмо от Варлена из Парижа. Он сообщает, что состоялось собрание делегатов и что они приняли решение ускорить присоединение своих обществ.
Кандидатуры Лейтама и Ламборда, предложенные на одном из предыдущих заседаний Оджером. Откладывается.
Хейлз (при поддержке Лекрафта)\ «Совет должен приступить к организации британской секции Международного Товарищества Рабочих с платформой, соответствующей резолюциям конгрессов; секция должна именоваться «Национальная рабочая лига и Британская секция Международного Товарищества Рабочих»».
Уэстон сообщает, что 13 октября в Белл-Инн состоится совещание с целью организации общества для пропаганды земельного вопроса и других мероприятий, выдвигаемых рабочими.
402 К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС
12 октября 1869 г. Предложение об организации британской секции Интернационала. Принимается.
19 октября 1869 г.
26 октября 1869 г. Избран Моттерсхед.
Решено «составить резолюцию, требующую освобожде ния (ирландских) политических заключенных и выражаю щую мнение Совета по этому вопросу»
2 ноября. Хейла: «В прошлую среду (24 октября) была основана Лига земли и труда, в ее исполнительный комитет вошло много членов Совета, и в настоящее время нет никакой необходимости предпринимать (в связи с британской секцией) что-нибудь еще».
9 ноября.
16 ноября. Статья против Совета в «Égalité» (Маркс открывает дискуссию по ирландскому вопросу). Предложенная Марксом резолюция об ирландских политических заключенных.
23 ноября. (Прения по ирландскому вопросу.)
30 ноября. (Приняты резолюции об ирландских заключенных.)
7 декабря.
14 декабря. Юнг оглашает выдержки из «Égalité» против ир ландских резолюций Совета (Швейцер, Либкнехт и т. д.) [ежемесячные отчеты] *.
1870
[1 января. Конфиденциальный циркуляр об «Égalité» и т. д.** Ирландский вопрос и т. д. Отчеты и т. д.]
4 января. Роберт Юм (Лонг-Айленд в Соединенных Штатах) назначается корреспондентом. (3 тысячи членских билетов посылаются германскому комитету (Брауншвейг)).
Жалобы «Progrès» (Локль) и «Egalité» (Женева) на движение в Цюрихе («Tagwacht»), как слишком политическое.
11 января. Письмо женевского комитета, сообщающее, что сек ция не одобряет поведение «Égalité». [Редакционный коми тет подал в отставку, их отставка принята.]
18 января.
25 января. Предложение Дюпона, «чтобы любое общество во Франции, назначающее секретаря-корреспондента для переписки с Генеральным Советом, считалось присоединив шимся к Интернационалу de facto». (Принимается.)
* В данной рукописи квадратные скобки принадлежат Марксу. Ред. *• К. Маркс, Генеральный Совет — Федеральному совету Романской Швейцарии. Ред.
ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 1869 — 1871 ГОДОВ 403
1 февраля. Швейцарский центральный совет назначил новый состав редакции «Égalité».
Серрайе получил письмо из Брюсселя. Бельгийский генеральный совет одобряет ответ Генерального Совета на нападки в «Égalité» *.
8 февраля. Обращение общества пролетариев-позитивистов.
15 февраля. Дюпон сообщает о разногласиях между старым и более молодым отделениями в Лионе. (Передается Подкомитету538.)
22 февраля. В Неаполе обыск в помещении, где происходят заседания Интернационала, был произведен без предъявления полицейским офицером ордера на обыск. Председатель, секретарь и адвокат, протестовавшие против обыска, как незаконного, арестованы.
В «Réveil» перепечатано сообщение одной испанской газеты, согласно которому правительства Австрии, Италии и Франции намереваются принять суровые меры против Интернационала.
8 марта. Доклад Подкомитета о лионском деле **. (Ришар и т. д.)
15 марта. Письмо от общества пролетариев-позитивистов в Париже [Дюпон просил их прислать свой устав и регламент].
Принимаются, но не как «секта», и им указано на проти воречие между их собственной программой и программой Интернационала.
22 марта. Основана Русская секция в Шеневе. Выражает пожелание, чтобы ее представителем стал Маркс.
29 марта.
4, 5, 6 апреля. Съезд в Ла - Шо - де - Фоне .
5 апреля.
12 апреля. Юнг получил письмо из Ла-Шо-де-Фона. Раскол на съезде. Вследствие того, что большинство голосовало за прием женевского Альянса, делегаты Женевы и Ла-Шо-де-Фона разошлись в разные помещения для продолжения заседаний съезда. Юнгу поручается запросить обе стороны о более подробном изложении событий.
19 апреля. Неувязки (говорит Юнг) в показаниях обеих швейцарских сторон. Новый комитет представляет около 600, старый — около 2 тысяч членов.
26 апреля. (Письмо от Гильома Юнгу.)
* К. Маркс. Генеральный Совет — Федеральному совету Романской Швейцарии. Ред.
*• См. настоящий том, стр. 396—397. Ред.
404
К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС
3 мая. Резолюция о мнимом заговоре против Баденге * (плебисцит). [Арест многих членов парижских и лионских секций.]
10 мая. Резолюция против Французской секции в Лондоне**. (10 мая.) Юнг предлагает, чтобы в будущем под официальными документами помещались подписи всех членов Совета независимо от того, присутствовали они на заседании или нет.
17 мая. Резолюция: «Принимая во внимание:
что Базельский конгресс назначил Париж местом созыва очередного конгресса Международного Товарищества Рабочих;
что пока сохраняется нынешний режим во Франции, конгресс не сможет собраться в Париже;
что тем не менее для подготовки конгресса необходимо принять немедленное решение;
что статья 3 Устава обязывает Совет в случае необходимости изменить место созыва, назначенное конгрессом; что Центральный комитет Социал-демократической рабочей партии Германии предложил Генеральному Совету перенести место созыва очередного конгресса в Германию. Генеральный Совет на своем заседании 17 мая единогласно постановил, что очередной конгресс Международного Товарищества Рабочих откроется 5 сентября настоящего года и соберется в Майнце».
Де Пап в письме к Серрайе спрашивает мнение Совета о швейцарских делах.
Юнг. Письмо от Перре (Женева), который выражает пожелание, чтобы Совет вынес решение о швейцарском вопросе.
24 мая. (Спор вокруг резолюции о « Bee- Hive»***.)
31 мая. Парижане против перенесения места конгресса в Майнц. Вопрос о Клюзере. — Осборн Уорд, его представляет Юнг. Юнг представляет Дюваля как делегата от бастующих в настоящее время литейщиков Парижа; Совет поручает депутации (Юнг и Хейлз) помочь ему в установлении контакта с профессиональными обществами. Утверждаются голосованием полномочия для Юма из Нью-Йорка.
7 июня.
14 июня. Новый локаут в Женеве (в строительном деле).
* К. Марки. О преследованиях членов французских секций. Заявление Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих. Ред.
•* К. Маркс. Проект резолюции Генерального Совета о «Французской федеральной секции» в Лондоне. Ред.
*** К. Маркс. Проект резолюции Генерального Совета о газете « Bee - Hive». Ред.
выписки иа протоколов генерального совета 1869 —1871 годов 405
21 июня. Обращение к профессиональным обществам и т. д. в связи с женевским делом *.
28 июня. Региональный съезд в Руане запрещен.
В письме из Женевы просят, чтобы Совет как можно скорее принял какое-нибудь решение. (Прения по этому вопросу.) (Об Альянсе см. заявление Уэстона.) {Принято предложение, чтобы комитет в Женеве сохранил свои прежние функции; новый комитет может избрать себе какое-нибудь наименование по территориальному признаку**.)
Маркс предлагает перенести местопребывание Генерального Совета из Лондона в Брюссель (это следует предложить на ближайшем конгрессе) (и чтобы это предложение, предусматривающее перенесение Совета, было сообщено всем секциям). Принимается. Хейлз уведомляет о своем намерении внести предложение о пересмотре вопроса.
5 июля. Парижане рассчитывают на опровержение ложных обвинений прокурора Олуа, но не прислали Совету никаких документов и т. д. Дюпон жалуется на то, что не получает ответа.
12 июля. Французская секция. Леметр. — Позитивистское отделение выслало свои взносы. — Деньги (которые объединенные механики постановили предоставить парижским литейщикам). — Предложение (изложенное Марксом): «Обратиться к секциям с просьбой обсудить вопрос о целесообразности перенесения местопребывания Совета из Лондона. В случае, если бы они высказались за перенесение, предлагалось избрать Брюссель и т. д.» ***. Программа Майнцского конгресса.
19 июля. Женевский комитет выражает благодарность за резолюцию Совета. Юнг написал в Ла-Шо-де-Фон, осуждая их .воздержание от политики. — Антивоенное воззвание Парижской секции —Марксу поручается составить антивоенное воззвание.
26 июля. Бебель и Либкнехт о германских военных кредитах (Северогерманский рейхстаг. Берлин). — (В своей письменной декларации (почему они воздержались от голосования) объявляют себя членами Интернационала.) — Зачитывается первое воззвание о войне от 23 июля ****.
2 августа. Серрайе оглашает письмо из Бельгии: Совет должен оставаться в Лондоне, однако уведомляют, что бельгийские
• К. Маркс. Локаут строительных рабочих в Женеве. Ред. ** К. Маркс. Резолюция Генерального Совета о федеральном комитете Романской Швейцарии. Генеральный Совет — Романскому федеральному комитету. Ред. *** К. Маркс. Конфиденциальное извещение всем секциям, Ред, ••*• Далее выписки сделаны рукой Энгельса, Ред,
406
К. МАРКС й Ф. ВПГЕЛЬС
делегаты на конгрессе намерены задать вопрос, почему Совет вмешался в швейцарские дела. Маркс сообщает, что протесты против войны опубликованы в Бармене, Мюнхене, Бреславле и т. д. Юнг о швейцарских делах. Статья в «Soli darité». Партия Гильома не послала настоящего ответа. Парижане требуют скорейшего решения этого дела. Перет дается в Подкомитет. Маркс предлагает запросить секции, согласны ли они на отсрочку конгресса. Принимается.
9 августа. Юнг получил письмо из Неаполя о том, что Капо-руссо предал их.
16 августа. Печатается третья тысяча экземпляров воззвания о войне. Письма из Швейцарии и Германии (от Центрального комитета): оставить Совет в Лондоне и уполномочить его назначить время и место конгресса.
23 августа. 15 тысяч экземпляров воззвания на немецком языке и 15 тысяч экземпляров на французском языке будут напечатаны в Женеве. Письмо от Бельгийского совета, в котором берутся обратно замечания относительно швейцар ских дел (см. 2 августа) и выражается согласие на отсрочку конгресса. Романский комитет в Женеве также за отсрочку конгресса и оставление Совета в Лондоне.
Принимается резолюция об отсрочке конгресса.
30 августа. Образование французской секции в Нью-Йорке. Присутствует Осборн Уорд и выступает.
6 сентября. Обмен письмами между Марксом и немецкой Социал-демократической партией *, которая заявляет, что выполнит свой долг. Принято решение о втором воззвании о войне.
9 сентября. Принимается воззвание.
13 сентября. Отъезд Серрайе в Париж.
20 сентября. Арест брауншвейгцев. Высылка из Майнца. Протесты против аннексии в Берлине,Мюнхене, Аугсбурге, Нюрн берге и т. д. Делегация из пяти человек для совместных дейст вий с комитетом в Арэндл-холле для подготовки демонстра ции в защиту Французской республики и против аннексий.
27 сентября. Сообщается, что договорились о делегации к Глад-стону с требованием признания Французской республики (объединенный комитет).
4 октября.
И октября. Собрания в Берлине и Мюнхене против прусской военной политики. Письмо о поведении Бакунина в Лионе 28 сентября **. Отчет финансового комитета.
• К. Маркс и Ф. Энгельс, Письмо комитету Социал-демократической рабочей партии. Ред.
••В оригинале описка = 27. Ред.
выписки из протоколов генерального совета 1869—1871 годов 407
18 октября. Присоединение Бирмингемского совета тред-юнионов. Возражение по поводу решения бельгийских газет Интернационала не печатать второе воззвание о войне. Назначение финансового секретаря.
25 октября. Бельгийская «Internationale» наконец помещает начало второго воззвания о войне. — Организованное Хейне-маном собрание. Протест Просветительного общества немецких рабочих. Решено, что при обсуждении вопросов внутренней организации никто, кроме членов Совета, не должен присутствовать.
1 ноября. Письма из Патерсона (Нью-Джерси) и Нью-Йорка о том, что находящиеся там французская и немецкая секции выпустили совместное воззвание против войны. Письмо от Обри (Руан) относительно того, что бонапартисты там все еще у власти и действуют.
8 ноября. Поручение секретарю посетить собрания комитета против невмешательства.
15 ноября. Массовое собрание в Нью-Йорке в связи с угрозой войны.
22 ноября. Письмо из Бреста, что все 12 членов местного комитета арестованы 2—10 октября и предстали 27 октября перед судом по обвинению в заговоре против внутренней безопасности государства. Двое приговорены к двум годам, один — к одному году (просто за участие в собрании о национальной обороне). — Из опубликованных документов Бонапарта выясняется, что накануне плебисцита было заведомо организовано преследование Интернационала.
29 ноября. Манчестерский совет тред-юнионов обещает свою моральную поддержку. Дюпон назначен представителем для Ланкашира *.
6 декабря. Предложение Маркса, чтобы секретарь составил сводку посещаемости членов за последние три месяца. Принимается.
13 декабря. Секретарь зачитывает список членов и число пропущенных ими заседаний с сентября. Список присоединяется к протоколу, и в будущем отсутствующие члены будут отмечаться так же, как и присутствующие.
20 декабря. Сообщение о намерении образовать Центральный комитет в Нью-Йорке. (См. таблицу посещаемости) (после последнего заседания в декабре) (от сентября до декабря 1870 и от января до конца марта 1871 г.).
• Далее карандашная запись Маркса: «Романский федеральный комитет в Женеве в течение 1869—1870 гг. отказал [секции «Альянс» в Женеве] в приеме в Романскую федерацию Международного Товарищества. Секция признана Генеральным Советом». С нового листа выписки продолжаются рукой Маркса, Ред,
408
К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС
1871
3 января.
17 января. Присоединение Бирмингемского совета тред-юнионов. Поручается спросить «Felleisen», какую позицию она занимает по отношению к Интернационалу. (Эта публика высказывалась за аннексию.) Маркс говорит против декламаций Оджера в Сент-Джемс-холле (Фавр и К0) (против нашего второго воззвания).
24 января. Образование Центрального комитета для Соединенных Штатов в Нью-Йорке.
31 января. Из Швейцарии (Женева, Романская федерация) пишут, что они получили письмо из Испании с предложением установить тесный контакт, но, прежде чем сделать это, они хотели бы знать, связаны ли испанские секции с Советом; в противном случае они но намерены поддержи вать с ними отношения. Энгельс назначается испанским секретарем.
Резолюция Энгельса о войне (франко-германской) (и поведении английского правительства) *.
7 февраля. Дискуссия о франко-германской войне. Позиция английского правительства.
14 февраля. (Продолжение этой дискуссии.)
21 февраля. Ассоциация реформы землевладения идет на уступки рабочей партии в вопросе о национализации земли (Милль). Харрис полагает, что это попытка покончить с Лигой земли и труда.
28 февраля. Дискуссия об Ассоциации реформы землевладения. (Решено обсудить их программу.)
Отчет гражданина Серрайе (Парижский федеральный совет во время осады).
7 марта. (Дискуссия о нью-йоркском Центральном комитете.) (Маркс о парижской декларации 1856 г.)
14 марта. Робен. (Следует созвать в Лондоне конференцию делегатов от всех секций.) (Отклонено.) (Прения о декларации 1856 г.) (Ирландский вопрос.)
21 марта. Маркс заявляет: Когда вспыхнула война, всем континентальным секциям были посланы письма о невоз можности созвать конгресс в Майнце или Париже; все секции, приславшие ответ, предоставили Совету избрать время и место созыва очередного конгресса. Робен говорит, что в Париже это письмо не было получено. Решено послать заявление в английские газеты против фальшивой резолюции
• См, вастоящий том, стр. 525—526. Ред.
ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 1869—1871 ГОДОВ 409
(об исключении немцев), приписываемой Парижскому федеральному совету *.
(Революция 18 марта.)
Секция в восточной части Лондона.
28 марта. Серрайе направлен в Париж. 5 фунтов стерлингов-ассигнуются для его жены.
Наши немецкие друзья обвиняются лишь в принадлежности к Интернационалу (все другие обвинения отпали). Собрание Центральной республиканской ассоциации в Веллингтон-Мюзик-холле (с целью создать республиканский клуб). Уэйд предложил добавить слова «социальный и демократический». (26 голосов за, 50 против.) Резолюции о создании секций в лондонском Ист-Энде.
4 апреля. Секция в Сан-Франциско. Секция в Бетнал-грин.
11 апреля. (Антверпен и т. д. — локаут сигарочников.) (Меры, принятые Советом.)
18 апреля. (В Совете впервые рассматривается дело Толена.)
25 апреля. Исключение Толена. Утверждается **.
2 мая. Аплгарт и Оджер. (Эккариус предлагает, чтобы правило о перечислении имен всех членов Совета под воззваниями в этом случае к ним не применялось. Моттерсхед против. Юнгу поручается переговорить по этому поводу с Аплгартом, а Эккариусу — с Оджером.)
9 мая. Отказ Эккариуса от поста генерального секретаря. (Аплгарт предоставляет Совету решить вопрос о помещении его имени под воззванием. Оджер желал бы предварительно ознакомиться с воззванием.) Письмо из Новой Зеландии.
16 мая. Хейлз избран генеральным секретарем.
23 мая. Англичане соберут митинг, чтобы побудить английское правительство не действовать против французских эмигрантов. Так и было сделано, и по этому поводу был созван ряд собраний.
30 мая. Маркс зачитывает воззвание «О Гражданской войне». (Пр инимается. )
6 июня. Коммуна. Английская пресса. Мадзини. (Попытки Международной демократической ассоциации играть роль.) (На арене появляется гражданин Кадио.)
U3 июня. (12 июня. Ответ на циркуляр Фавра послан в «Ti mes» ***.) Вышло воззвание о Гражданской войне. (Всплывает гражданин Бодри.)
* К. Маркс. Заявление Генерального Совета в редакции « Times » и других газет. Ред. ** См. настоящий том, стр. 539. Ред. *** И. Маркс и Ф. Энгельс. Заявление Генерального Совета по поводу циркуляра Жюля Фавра. Ред,
410
К. М А Г К е И ф. ЭНГЕЛЬС
20 июня. Уход Оджера и Лекрафта. (Скандальное заседание.) (Скандал с Холиоком *.)
Заявление против фальшивых парижских манифестов (Интернационала) **.
27 июня. Создан комитет помощи эмигрантам, заседающий по субботам. Заявление об Оджере, Лекрафте, Холиоке и т. д. *** Письмо Маркса в « Daily News» о воззвании.
Первое издание [«Гражданской войны во Франции»] разошлось.
4 июля. Избрание Мак-Доннела.
Письмо от Кафъеро. Роберт Рид направляется в провинцию с воззванием в качестве лектора о Коммуне. Майор Вольф (Тибалъди и др.), Маркс и « Pall Mall».
11 июля. Дело Accu — Биго (Лемли поверенный, присутствует). Воззвание об Уошберне. Ратсон (Брус) просит прислать выпущенные Интернационалом документы.
18 июля. Дело Ришара (но избирается в члены Совета). Эллиотт (отклонен).
Эрман избирается секретарем для Бельгии. Вопрос о средствах для эмигрантов.
25 июля. Отделение в Новом Орлеане. («La Commune» — их орган.) Римский папа**** и Мадзини против Интернационала *****. Робен ставит швейцарский вопрос Отложено до конференции. Решение о негласной конференции (на 17 сентября) ******.
1 августа. Архиепископ Малинский, международная ассоциация рабочих-католиков. Секция в Вашингтоне.
Предложение Роша о создании комиссии для изучения (силами эмигрантов и иэ эмигрантов) истории Коммуны (Кон).
8 августа. Делегация от механиков Ньюкасла и Лондона в связи с локаутом в Ньюкасле. Делегация, посланная Генеральным Советом в Бельгию и т. д. Предупреждение всем секциям Интернационала против ввоза людей в Ньюкасл-на-Тайне.
Письмо Аплгарта. Впредь не допускать на заседания гостей.
* Ф. Энгельс. Заявление Генерального Совета по поводу письма Холиока. Рев. • * Ф. Энгельс. Письмо Генерального Совета в редакции газет « Spectator » и « Examiner». Рев.
••* Ф. Энгельс. Заявление Генерального Совета по поводу писем Холиока и Лекрафта. Рев.
••** —Пий IX . Рев.
••**• Изложение речи Ф. Энгельса об отношении Малзини к Интернационалу. Ред.
•••••• Запись речи Ф, Энгельса о созыве Лондонской конференции 1871 года.
выписки из протоколов генерального совета i S69— 1871 годов 411
15 августа. Отделения в Ливерпуле и Лафборо в Лестершире.
Конференция должна ограничиться вопросами организации
и тактики. 22 августа. (План переселения коммунаров в Канаду.) 29 августа. Делегация от общества эмигрантов. Склока. 5 сентября. Маркс, Энгельс, Хейлз, Юнг выходят из состава
комитета помощи эмигрантам. Предложения, касающиеся
конференции.
Составлено К. Марксом и Ф. Энгельсомя Печатается по рукописи
по-видимому, в сентябре 1871 г. „ „
Перевод с английского
Впервые опубликовано на русском языке
в книге ((Гаагский конгресс
Первого Интернационала. 2—7 сентября
1872 г. Протоколы и документы»,
М., 1970
412 ]
К. МАРКС
* ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 9 СЕНТЯБРЯ 1871 г.
В ПРОТОКОЛЬНОЙ ЗАПИСИ Ф. ЭНГЕЛЬСА
ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИТЕТА
9 сентября 1871 г. в 8 часов вечера
Заседание ведет Лонге.
Маркс вносит предложение, чтобы Генеральный Совет не занимался вопросом о том, является ли еще Ландек членом Интернационала или не является таковым; его следует передать на разрешение французским членам Интернационала в Лондоне. Во время процесса Интернационала в Париже Ландек вел себя униженно и дал обещание впредь не иметь ничего общего с Интернационалом. Подобные вопросы не могут, однако, решаться Советом.
Моттерсхед поддерживает предложение.
Принимается единогласно.
О конференции. Маркс: Конференция составляется из делегатов от стран, а не от секций; из делегатов, которые съезжаются для совещания с Советом ввиду исключительных обстоятельств; поэтому она весьма отличается от конгресса и имеет совсем иные полномочия. Этого не следует забывать. Первым вопросом должен быть 1) финансовый вопрос, ибо взносы поступают не так, как следовало бы. Конференция не имеет права изменять Устав Товарищества, но она вправе обязать выполнять его. Отсюда следует предложение № 1: Секции обязаны уплатить взнос до их приема [в Товарищество].
Юнг поддерживает предложение.
Принимается единогласно.
Маркс: 2) (Страны, в которых Интернационал запрещен, представляют свои собственные планы и получают право носить другие названия, но не образовывать тайные общества.)
Эккариус поддерживает предложение.
Принимается единогласно.
Маркс: 3) Поручить нескольким членам Совета подготовить отчет Совета за последние два года для представления конференции.
Принимается как само собой разумеющееся,
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕД. ПОСТ. КОМИТЕТА 9 CEHT. (871 Г. 413
Юнг, при поддержке Эккариуса, предлагает, чтобы отчет был составлен Марксом.
M a р к с: 4) Подтвердить резолюцию Базельского конгресса о переименовании центральных советов в федеральные советы и т. д. и т. д.
Се р райе поддерживает предложение.
Принимается единогласно.
Маркс: 5) Проект ответа правительствам различных стран должен быть составлен позже.
Энгельс поддерживает.
Принимается единогласно.
[M a p к cl: 6) Страны с регулярной организацией Интернационала должны периодически представлять отчеты о взносах, взимаемых местными секциями и федерациями.
Предложение снимается самим Марксом.
Маркс: 7) Все делегаты Генерального Совета должны иметь право присутствовать и высказываться на заседаниях федеральных советов и местных секций.
С е р р а й е поддерживает.
Принимается единогласно.
Маркс: 8) Генеральный Совет должен выпустить новое издание Устава с напечатанными параллельно аутентичными текстами на французском и немецком языках, а для всех остальных стран переводы должны быть утверждены Генеральным Советом до их опубликования.
Юнг поддерживает.
Принимается единогласно.
Моттерсхед: Предложить конференции уполномочить Генеральный Совет провести в жизнь статью V Устава о всеобщей статистике рабочего класса и соответствующую резолюцию Женевского конгресса. Для этого следует принять резолюцию о том, что те тред-юнионы и т. д., которые отказыва ются представлять требуемые сведения, не получают в случае забастовок поддержки Генерального Совета.
M а к-Д о н н е л поддерживает.
Принимается единогласно!
Маркс: Предлагает, чтобы Подкомитет собрался в 8 часов вечера в понедельник на квартире у Маркса.
Принимается.
Записано ф. Энгельсом Печатается по рукописи
Впервые полностью опубликовано Перевод е английского
на русском языке в книге
«Генеральный Совет
Первого Интернационала. 1870 —1371»,
M., lies
414 1
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
* ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 11 СЕНТЯБРЯ 1871 г.
В ПРОТОКОЛЬНОЙ ЗАПИСИ Ф. ЭНГЕЛЬСА
ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИТЕТА
Понедельник, 11 сентября 1871 г., 1 ч. дня, Мейтленд-парк
Заседание ведет С е р р а й о.
Секретарем избирается Энгельс.
Предложение Энгельса, поддержанное X е й л з о м: Утвердить счет на сумму 25 ф. 11 шилл. 6 п., представленный Трулавом, отложив вопрос о стоимости объявлений и 5-ти тысяч экземпляров *.
Принимается единогласно.
Предложение Энгельса, поддержанное Э к к а р и у-с о м: Уплатить г-ну Трулаву в счет данной суммы 10 фунтов стерлингов, отложив уплату остальной части до представления им отчета о проданных экземплярах.
Принимается единогласно.
Предложение Маркса, поддержанное Лонге: Просить Генеральный Совет во избежание всякого рода недоразумений заявить при открытии конференции, что подобная конференция является не чем иным, как собранием делегатов от различных стран, созванных для того, чтобы совместно с Генеральным Советом обсудить и вынести решение по вопросу об организа ционных мероприятиях, ставших необходимыми в силу чрезвычайных обстоятельств.
X е й л з, при поддержке Лонге, вносит предложение, чтобы Генеральный Совет рекомендовал образование английского федерального совета.
Предложение снимается, с тем чтобы представить его завтра на рассмотрение Генерального Совета.
Маркс, при поддержке Юнга, вносит предложение рекомендовать образование секций женщин-работниц.
Записано ф. Энгельсом Печатается по рукописи
Впервые опубликовано на русском языке Перевод с английского
в книге «Лондонская конференция Первого Интернационала». М., 193в
• По-видимому, «Гражданской войны во Франции». Ред.
I 415
Ф. ЭНГЕЛЬС
* ОБ УСПЕХАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В ИТАЛИИ И ИСПАНИИ 663
АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ
ПА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
17 ОКТЯБРЯ 1871 ГОДА
Новости из Италии носят весьма обнадеживающий харак тер, ибо рост Товарищества в этой стране поистине поразителен. Три месяца назад Мадзини утверждал, что в Италии имеется лишь один город, где Интернационал насчитывает много сторонников. Ныне же он полностью утвердился по всей стране, из конца в конец. В прессе он представлен одной, если не двумя, ежедневными газетами в Риме, ежедневной газетой в Милане, выходящей два раза в неделю газетой в Турине, еженедельными газетами в Равенне, Лоди, Павии, Джирдженти и Катании, не говоря уже о ряде других газет, издающихся в менее значительных городах. Эти газеты являются объектом нескончаемых преследований со стороны правительства. Шесть номеров подряд одной из таких газет, туринской « Proletario Italiano», были конфискованы и за каждый из конфискованных номеров против газеты возбуждено по меньшей мере одно судебное дело. Тем не менее эти газеты бесстрашно продолжают свою борьбу против попов, капиталистов и Мадзини, который нападал на Интернационал за то, что тот не является религиозным. Правительство распустило две секции Интернационала во Флоренции и Неаполе, но это привело лишь к тому, что немедленно были основаны новые секции по всей стране. В Джирдженти новая секция только что напечатала свой устав, которому предпослан перевод Устава, опубликованного Генеральным Советом. В Равенне шесть республиканских и рабочих обществ организовались в качестве секций Интернационала с общим советом.
Письма Гарибальди, в которых он высказывает свою приверженность Интернационалу, повсюду перепечатываются и
416
Ф. ЭНГЕЛЬС
обсуждаются, и они явно помогли многим колебавшимся поло жительно отнестись к Интернационалу. Авторитет Мадзини среди итальянских рабочих полностью подорван.
В Испании прогресс Товарищества был столь же быстрым, как и в Италии. Испанские профсоюзы, почти все основанные Интернационалом, составляют существенную часть его органи зации. Профсоюзы в каждой местности имеют свой совет, который по вопросам, касающимся Товарищества в целом, сносит ся непосредственно с Испанским федеральным советом в Мад риде. Вместе с тем союзы одной отрасли производства по всей стране находятся под руководством одного центрального совета, который сносится с Испанским федеральным советом по всем вопросам, относящимся к этой отрасли.
Такая организация, окончательно определенная решениями конференции в Валенсии, проходившей с 10 по 18 сентября 1871 г., в настоящее время устанавливается по всей Испании. Вряд ли в Испании можно найти крупный город без своего местного «совета профсоюзов», и во многих небольших городах сложилась такая же организация. Повсеместно образуются новые секции, и сотни людей присоединяются в индивидуальном порядке. Республиканской партии, которая еще недавно нападала на Интернационал как на партию «иезуитов», пришлось остро почувствовать его силу.
Уже возникновение Парижской Коммуны раскололо республиканскую партию на два лагеря. Буржуазная часть стала на сторону версальцев, в то время как более молодые элементы и республикански настроенные рабочие поддержали Коммуну. Эта последняя группа, естественно, тяготеет к Интернационалу и скоро войдет в его ряды, тем самым укрепив его присоединением многочисленных и ценных новых элементов. Республиканские газеты, связанные с этой группой, начали пропагандировать национализацию земли и другие социалистические принципы. К этим газетам относятся: «La Asociacion» из Леона, «El Comunero» из Мадрида, «La Justicia» из Малаги, «El Trabäjo» из Эль-Ферроля и другие. На большом республиканском митинге, состоявшемся в Мадриде 15 октября, предло жение о совместных действиях с Интернационалом было встречено с энтузиазмом.
Напечатано в газете « The Eastern Post » Печатается по тексту газеты
M 160, 21 октября 1S71 г, „ ,
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
[ 417
К. МАРКС
ЗАМЕТКИ О ПОЛОЖЕНИИ КОММУНАРОВ-ЭМИГРАНТОВ
460 (иностранцев), арестованных при подавлении Коммуны. 5 месяцев на понтонах. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Высажены в Нью-Хейвене, на судне не получали пищи. При освобождении были едва одеты, без денег. Им сказано обратиться соответственно к своим консулам, чтобы выйти из затруднительного положения.
Часть пути из Нью-Хейвена в Лондон прошли пешком.
Написано И. Марксом в начале ноября 1871 г.
Впервые опубликовано на русском
языке в книге «Первый Интернационал
и Парижская Коммуна.
Документы и материалы». М., 1972
Печатается по рукописи Перевод с французского
418 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
* О ПОЛОЖЕНИИ В ИТАЛИИ
АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
7 НОЯБРЯ 1871 ГОДА «"
Большой интерес представляют новости из Италии; получены письма из ряда итальянских городов, в том числе из Турина, Милана, Равенны и Джирдженти. Они полностью подтвердили огромный успех распространения Товарищества в Италии.
Рабочий класс, по крайней мере в городах, быстро отходит от Мадзини, нападки которого на Интернационал не оказали никакого воздействия на массы Бв5. Более того, эти нападки имели один положительный результат: они побудили Гари бальди не только решительно высказаться в пользу нашего Товарищества, но и в связи с этим пойти на открытый разрыв с Мадзини. В длинном письме, адресованном г-ну Петрони, юристу из Сардинского королевства, который, с тех пор как был избран председателем итальянского рабочего съезда, живет в Риме, Гарибальди выражает свое возмущенно тем, что мадзи- нисты осмелились говорить о нем как о старом глупце, который всегда делал только то, что его убеждали делать окружавшие его люди, приспешники и льстецы. Кто же эти приспешники, спрашивает он? Не они ли были его ближайшими соратни ками, прибывшими вместе с ним из Южной Америки в 1848 г., теми, кого он нашел в Риме в 1849 г., его сподвижниками в 1859 и 1860 гг., теми, кто боролся недавно вместе с ним против пруссаков. А если это так, то он утверждает, что это были люди, чьи имена будут вечно жить в памяти благодарной Италии. Пусть другие попробуют стать такими же приспешниками и льстецами.
«Повторяю, Вы даже неоригинальны, вытаскивая на свет божий «приспешников и льстецов», которые всегда ведут на поводу седовласого
О ПОЛОЖЕНИИ В ИТАЛИИ
419
младенца из Ниццы. Когда Вы, Петрони, томились в течение 18 лет в тюрьмах инквизиции, именно членов Вашей секты (мадзинистов) роялисты обвинили в принадлежности к моим приспешникам и последователям. Почитайте-ка весь монархический хлам, в особенности то, что было издано после 1860 г., и там Вы найдете, что Гарибальди был бы хорош, если бы, к несчастью, не находился под влиянием Мадзини и не был бы окружен мадзинистами. Все это ложь, и Вы можете спросить тех, кто близко или лично знаком со мной, знают ли они человека, который бы так упорно отстаивал свое мнение, как я, когда сознавал, что был прав. Спросите самого Мадзини, легко ли я давал уговорить себя, когда он пытался склонить меня на безнадежной дело. Спросите Мадзини, не послужило ли началом наших разногласий то, что в 1848 г. я говорил ему: он неправ, сдерживая под любыми предлогами миланскую молодежь, в то время как наша армия сражалась с врагами у Мпнчо. А ведь Мадзини из тех людей, которые никогда не прощают, если кто-либо сомневается в их непогрешимости».
Далее Гарибальди заявляет, что Мадзини в 1860 г. делал все, что было в его силах, чтобы расстроить и сорвать план экспедиции генерала в Сицилию, приведшей к объединению Италии. Затем, когда Мадзини узнал об успехах Гарибальди, он упорно настаивал, чтобы тот провозгласил республику в Италии, что в тех условиях было просто абсурдно и глупо, и, наконец, он * упрекает этого «великого изгнанника, который, как каждому известно, находится в Италии», в том, что он подло обливал грязью павших в Париже, единственных людей, которые в то время тирании, клеветы, трусости и деградации высоко подняли, даже умирая, священное знамя человеческих прав и справедливости.
Он продолжает:
«Вы предаете анафеме Париж, потому что Париж разрушил Вандом-скую колонну и дом Тьера. А видели лп Вы сожженными целые деревни за то, что там укрывались волонтеры или франтиреры? И это было не только во Франции, но и в Ломбардии, и в Венеции. Что касается облитых керосином и подожженных дворцов Парижа, то обратитесь к священникам, которые в силу своего близкого знакомства с проповедуемым ими адским огнем могут быть хорошими судьями в том, какая разница между огнем керосина и тем огнем, которым австрийцы сжигали дотла деревни в Ломбардии и Венеции, когда эти области были под ярмом людей, застреливших Уго Васси, Чичеруаккьо и его двух сыновей и тысячи других итальянцев, позволивших себе такое кощунство, как требовать свободу для Рима, свободу для Италии.
Когда свет дня рассеет тьму, покрывшую Париж, я надеюсь, Вы, мой друг, будете более терпимы к действиям, вызванным отчаянным положением народа, которым плохо руководили, — как это обычно бывает с народом, позволившим увлечь себя фразеологией доктринеров, — но который в основном-то героически боролся за свои права. Те, кто клевещут на Париж, могут говорить что им угодно: им никогда не удастся доказать, ято эти негодяи и чужестранцы — как они называли нас в Риме в 1849 г. —
* — Гарибальди . Ред,
420
Ф. ЭНГЕЛЬС
смогли противостоять в течение трех месяцев огромной армии и отстуцить только потому, что это была самая сильная армия Пруссии.
А Интернационал? Зачем нужно было клеветать на Товарищество, почти не зная его? Не явилось ли Товарищество результатом ненормального общественного положения во всем мире? Общество, где большинство работает, чтобы кое-как существовать, где меньшинство, не трудясь, обманом и силой присваивает большую долю продукта труда большинства, разве такое общество не должно вызывать недовольство и жажду мести у страдающих масс?
Я не хочу, чтобы с Интернационалом случилось то же, что с народом Парижа, чтобы он позволил обманывать себя доктринерам, которые приведут его к фанатизму и в конечном счете к тому, что его выставят на посмешище; прежде чем доверять, надо хорошо изучить характер тех людей, которые должны повести по пути моральных и материальных улучшений».
Он снова говорит о Мадзини:
«Мадзини и я оба стары, и но может быть и речи о примирении между нами. Непогрешимые люди умирают, по не идут па уступки. Помириться с Мадзини? Для этого есть только один способ — подчиниться ему, на что я но чувствую себя способным».
И наконец, старый солдат ссылками на свое прошлое доказывает, что он всегда был истинным интернационалистом, что он боролся за свободу всегда и везде: сначала в Южной Америке, затем предложил свои услуги римскому папе * (да, даже римскому папе, когда тот разыгрывал из себя либерала), затем при Викторе-Эммануиле и, наконец, во Франции при Трошю и Жюле Фавре. И он заканчивает:
«Я и молодежь Италии готовы служить родине бок о бок с вами, мадзинистами, если это будет необходимо».
Это последнее письмо Гарибальди, завершающее ряд пи сем, в которых он ясно выражал свои симпатии Интернационалу, но воздерживался открыто говорить о Мадзини, имело огромное влияние в Италии и будет способствовать приходу новых сторонников под наше знамя.
Было также сообщено, что полный отчет о рабочем съезде в Риме566 будет представлен на следующем заседании Совета**.
Напечатано в газете « The Eastern Posta Печатается по тексту газеты
M Ш, 11 ноября 1871 г, Шрмд0 е английско10
• — Пию IX. Рев. ** См, следующую статью. Ред,
[ 421
Ф. ЭНГЕЛЬС
* РАБОЧИЙ СЪЕЗД В РИМЕ. — РЕЧИ БЕБЕЛЯ В РЕЙХСТАГЕ
АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
14 НОЯБРЯ 1871 ГОДА
Из Италии опять поступили многочисленные сообщения. Из них следует, что так называемый рабочий съезд в Риме 5в6 был лишь уловкой Мадзини, рассчитанной на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение относительно гигантски быстрого прогресса Интернационала в Италии. Прошлым летом местные лидеры хорошо организованной мадзинистской партии впервые и весьма неожиданно столкнулись во многих больших итальянских городах с тем фактом, что теряют абсолютное влияние, которое они доселе оказывали на рабочий класс. Здоровый инстинкт итальянских рабочих помог им по нять, что парижские рабочие во время Коммуны, осыпаемые проклятиями всех правящих классов Европы, были в действительности поборниками дела всего пролетариата и что когда Мадзини призвал своих сторонников присоединиться к общим для всей буржуазии проклятиям в адрес народа Парижа, то он сам разрушил основу своего прежде неоспоримого влияния на итальянских рабочих. Рабочие итальянских городов начали тогда понимать, что их классовые интересы выходят за рамки мадзинистской республики; что эти интересы одинаковы для всех рабочих цивилизованного мира и что существует большая организация для защиты этих общих интересов — Интернационал. Более того, им с некоторых пор надоели религиозные проповеди Мадзини, совершенно неуместные в стране, которая больше, чем какая-либо другая в Европе, находится под властью духовенства; им надоели также его вечные напоминания о том, что целью их жизни является выполнение обязанностей, при этом Мадзини никогда не говорил об их правах. Мадзини
422
Ф. ЭНГЕЛЬС
посчитал, что лучше всего будет пресечь это оппозиционное движение в зародыше. В течение последних 20 лет он фактически руководил рабочими обществами взаимопомощи, тайными обществами, лесными братьями ( Foresters) и друидами Италии, организациями, в которых политика была запрещена официально и даже самые элементарные задачи обычных профессиональных союзов полностью игнорировались. Президенты, секретари и члены советов этих обществ были, как правило, мадзинистами, и с их помощью могли быть организованы некоторые выступления в защиту приходящего в упадок мадзинизма. До 1864 г. эти общества проводили ежегодные съезды; последний состоялся в Неаполе в вышеуказанном году, на нем был принят акт
0 братстве, предусматривающий своего рода устав с центральным комитетом для ведения общих дел и т. п. Но с того вре мени съезды не созывались. С помощью лигурийских обществ Мадзини удалось созвать новый съезд, который собрался
1 ноября в Риме. Как был организован этот съезд, показывают события в римском рабочем обществе. Совет там оказался ан-тимадзинистским, а поскольку в приглашении лигурийцев речь шла о созыве съезда для обсуждения политических вопросов, он отказался послать делегатов, ссылаясь на то, что обсуждение таких вопросов противоречит уставу. Фактически там, где советы рабочих обществ состояли не из мадзинистов, делегатов не послали; об этом заявили сами мадзинистские газеты; из этого, очевидно, вытекает, что посланные делегаты были избраны не членами различных обществ, а их советами. В этих условиях большинство членов Интернационала в Италии опротестовало право такого съезда претендовать на представительство основной массы итальянских рабочих. Лишь немногие из них присутствовали на заседаниях съезда, чтобы иметь возможность следить за его работой.
Съезд открылся 1 ноября. Почетными председателями были избраны Мадзини и Гарибальди, и это всего через неделю после опубликования письма Гарибальди Петрони, в котором Гарибальди окончательно разорвал с Мадзини! Затем вновь был обсужден акт о братстве, принятый Неаполитанским съездом. В связи с этим один делегат предложил в качестве поправки к акту включить декларацию о том, что съезд ясно высказывает свою приверженность принципам Джузеппе Мадзини. Дискуссия была длительной, но, в конце концов, старая мад-винистская организация одержала верх. 34 голоса было подано ва, 19 — против, 6 делегатов воздержались и 10 отсутствовали. Большинством в 15 голосов по отношению к числу поданных голосов, но меньшинством в 1 голос по отношению к общему
РАБОЧИЙ СЪЕЗД В РИМЕ. — РЕЧИ БЕБЕЛЯ В РЕЙХСТАГЕ 423
числу делегатов съезда итальянские члены тайных обществ ( Oddfellows) и друиды связали себя на год всем тем, что Мад-зини сможет сказать или сделать. Излишне говорить о том, что три представителя секций Интернационала в знак про теста немедленно удалились. Мы можем добавить, что на первом предварительном заседании съезда было конфиденциально решено, что не будут обсуждаться ни вопрос об Интернационале, ни какие-либо религиозные вопросы. Процедурный регламент мог быть изменен лишь в пользу Мадзини!
Голосование по другим вопросам на съезде представляло интерес лишь для мадзинистов. Это были попытки гальванизировать угасающее влияние Мадзини, попытки в высшей степени бесполезные перед лицом роста влияния Интернационала, наблюдаемого в настоящее время среди итальянских рабочих. Итальянская радикальная пресса в Риме, особенно «La Capitale» и «Il Tribuno» резко осудили съезд за безоговорочное доверие к Мадзини. Последняя газета писала:
«Этим голосованием вынесен окончательный приговор союзу между Мадзини и Гарибальди, между теологическими догмами первосвященника и честным утверждением прав рабочих».
Обращаясь к Гарибальди, как бы хотели сказать! Вы неправы, отрицая принципы Мадзини, которые являются принципами итальянского рабочего класса; хотели сказать побежденным коммунарам, что версальские роялистские помещики были правы, расстреливая их; хотели сказать Интернационалу, что различные правительства правы, стремясь уничтожить его, и что Италия станет плотиной против потоков, обрушивающихся на привилегии и монополии.
Было бы неплохо, если бы итальянские рабочие, объединившиеся на съезде, тщательно обсудили и хорошо разобрали все предложения, но вместо этого возражения возникли еще до постановки самих вопросов. Ait philosophus *: слово учителя, принимаемое как евангелие, лишь приносит вред партии, вынуж денной прибегать к подобным средствам, чтобы избавиться от пропаганды, с которой она не может справиться иным путем.
Та же газета опубликовала примечательную статью о сельскохозяйственных работниках и мелких крестьянах Италии, требующих, чтобы латифундии, которые теперь не обрабаты ваются и заболачиваются, были объявлены собственностью трудящихся, если они в течение определенного времени не будут освоены и возделаны.
* — Философ сказал, Ред.
424
Ф. ЭНГЕЛЬС
В германском парламенте наш друг Бебель выступил дважды 6в7. В первой речи он критиковал рост военных расходов.
«Вся эта огромная армия, — сказал он, — нужна в основном против рабочего класса внутри страны. Но вы, господа буржуа, быстрым ростом ваших фабрик и мастерских сами вызываете столь быстрый рост численности рабочих, что никогда не сможете увеличить армию в том же масштабе».
Во второй речи относительно предложения либералов, чтобы все германские государства обязательно имели представительные учреждения, Бебель заявил, что все конституции германских государств, больших или малых, не стоят бумаги, на которой они написаны. Прусская исполнительная власть господствует и делает во всей Германии, что хочет; он, Бебель, хотел бы, чтобы все малые государства, безосновательно считающиеся последними прибежищами свободы, были поглощены Пруссией, чтобы поставить народ непосредственно лицом к лицу с подлинным врагом — прусским правительством. Когда Бебель заявил, что он не исключает конституции Германской империи из этого общего осуждения, палата депутатов по предложению председателя прервала его речь на полуслове.
Такова свобода обсуждения, как ее толкуют аристократы, бюрократы, капиталисты и юристы в германском парламенте. Один-единственный рабочий среди них является столь серьезным соперником для всех остальных, что им приходится затыкать ему рот силой.
Напечатано в газете « The Eastern Post » Печатается по тексту газеты
Л8 164, 19 ноября 1 S 71 г-, _ „
е Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
[ 425
К. МАРКС
ЗАЯВЛЕНИЕ 563
Я, Карл Маркс, проживающий по адресу 1, Мейтленд-парк-род, Хаверсток-хилл, графство Мидлсекс, секретарь для Германии Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих, торжественно и чистосердечно заявляю следующее:
1. Германская Социал-демократическая рабочая партия, комитет которой в начале сентября одна тысяча восемьсот семидесятого года еще имел свое местопребывание в Браун-швейге 669, никогда не просила о приеме ее в Международное Товарищество Рабочих в качестве его составной части или секции.
2. По этой причине таковой прием никогда не состоялся.
3. Многие члены вышеуказанной германской Социал-демократической партии были по своему заявлению приняты как индивидуальные члены Международного Товарищества Рабочих.
4. Данное заявление сделано по просьбе Вильгельма Бракке, коммерсанта в Брауншвейге, лично являющегося членом Международного Товарищества Рабочих.
Я делаю это торжественное заявление, чистосердечно считая его отвечающим действительности, в соответствии с положениями Акта, составленного и принятого в сессии парламента пятого и шестого года правления его Величества, покойного короля Вильгельма IV, озаглавленного: Акт об отмене Акта настоящей сессии, озаглавленного Актом для более эффективного упразднения клятв и присяг, принимаемых и приносимых в раз личных государственных ведомствах, и замены их заявлениями, и для более полного упразднения добровольных и внесудебных
426
К. МАРКС
клятв и заявлении под присягой, и проведения других мер по упразднению излишнего приведения к присяге.
Подписано и зарегистрировано в Меншенз-хауз, в лондонском Сити сего дня 17 ноября 1871 года.
Карл Маркс
Присутствовал: Силе Джон Гиббоне, лорд-мэр
Опубликовано в книге Печатается по тексту книги '
«Der Proceß gegen den Ausschuß „
der Socialdemokratischen Arbeiterpartei». Перевод с английского
Braunschweig , 1871 ца русском яшке публикуется впервые
[ 427
Ф. ЭНГЕЛЬС
* О ПОЗИЦИИ ДАТСКИХ ЧЛЕНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В АГРАРНОМ ВОПРОСЕ в™
АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
5 ДЕКАБРЯ 1871 ГОДА
Из Дании получен отчет, касающийся главным образом положения сельскохозяйственных рабочих и проводимой среди них агитации. В Дании есть две официальные политические партии: партия «Доктринеров», представляющая буржуазию, и партия «Друзья крестьян», как она сама себя называет, которая представляет землевладельцев, включая дворянство и крупных крестьян-собственников. Они также претендуют на то, чтобы представлять сельскохозяйственных рабочих, но на деле никогда ничего не делали для них. Так как дворянство в Дании сравнительно маловлиятельно, то основу партии «Друзья крестьян» составляют крупные арендаторы. Мел кие собственники и сельскохозяйственные рабочие до сих пор находятся под их руководством; хотя несколько их представителей и избраны в парламент, они действуют под влиянием крупных арендаторов и используются ими как простое орудие.
Интернационал ставит своей целью освобождение мелких крестьян и сельскохозяйственных рабочих от подчинения людям, которые обогащаются за счет их труда, и старается сплотить их в независимую партию, отличную от так называемой партии «Друзья крестьян» и находящуюся в тесном союзе с городскими рабочими. Эта новая партия сельскохозяйственных рабочих кладет в основу своей деятельности решение Базельского конгресса о национализации земли.
«В качестве все более и более очевидной истины выступает тот факт, — говорит наш копенгагенский орган газета «Socialisten», — что земля является общей собственностью нароаа, что нароа должен совместно
15 М. и д., т. 4t
428 ф. Энгельс
обрабатывать ее, пользоваться всеми ее благами, передавая свои излишки (аренду) государству для общих целей».
Но так как эемля в Дании находится главным образом в руках большого числа крестьян-собственников, владеющих от 50 до 100 акрами хорошей земли, немедленная экспроприация столь значительной категории была бы невозможна. Поэтому предлагается план, который даст много преимуществ владельцам, а также работникам, а именно: создание сельскохозяйственных кооперативных обществ, состоящих из владель цев и сельскохозяйственных рабочих, для совместного возделывания земли, теперь обрабатываемой ими индивидуально. Мелкие и средние хозяйства должны быть, таким образом, заменены хозяйствами, имеющими 500 и более акров земли, это позволило бы им применять сельскохозяйственные орудия, использовать силу пара и другие современные усовершенствования, которые не могут дать выгоды, когда сельское хозяйство ведется в мелких масштабах. Необходимый капитал должен быть получен у государства под залог земли, принадлежащей каждой ассоциации. Эти предложения в силу необходимости элементарны по своему характеру, но они пока подходят для сельскохозяйственного населения с его нынешним интеллектуальным развитием; со временем настойчивая пропаганда национализации земли как конечной цели движения будет эффективно содействовать ломке того политического подчинения, в котором крупные земельные собственники с помощью пасторов, сельских учителей и правительственных чиновников до сих пор удерживают сельскохозяйственных рабочих.
Напечатано в гонте «The Editera Poil» Печатается по тексту гагеты
M 1er, » декабря 1171 е, „ Л _
'• ' Перевод с английского
[ 429
К. МАРКС
АМЕРИКАНСКИЙ РАСКОЛ 5П
МАЙ 1872 ГОДА *
15 октября 1871 г. в газете Вудхалл (банкирши, проповедницы свободной любви и вообще шарлатанки) и Клафлин (ее сестры, в том же роде) опубликован манифест секции № 12 (основанной Вудхалл и состоящей почти исключительно из буржуазных шарлатанов и поизносившихся жуликов-янки, спекулирующих на реформах; секция M 9 основана мисс Кла флин).
Манифест секции № 12 (к говорящим на английском языке гражданам Соединенных Штатов) (датирован 30 августа 1871 г., подписан У. Уэстом, секретарем секции № 12).
Вот выдержки из этого манифеста:
«Конечная цель Интернационала сводится к освобождению как рабочих, так и работниц путем завоевания политической власти». «Это предполагает, во-первых, политическое равенство и социальную свободу обоих полов». «Политическое равенство означает личное участие каждого в подготовке, принятии и проведении в жизнь законов, которыми управляются все». «.Социальная свобода означает полную гарантию от неуместного вмешательства во все вопросы чисто личного характера, каковы, например, религиозные убеждения, отношения между полами, моды и пр.».
«Это положение включает, во-вторых, создание общего правительства для всего мира... само собой разумеется, что в эту программу входит в уничтожение... даже языковых различий».
«Секция № 12» приглашает организовывать в Соединенных Штатах на основе этой программы «секции английского языка».
* Заголовок написан рукой Энгельса на отдельном листе. Курсив в цитатах принадлежит Марксу, Ред.
15*
430
К. МАРКС
Что вся эта организация предназначается для охоты за должностями и для избирательных целей, видно из следующего:
«Для удобства использования в политической деятельности желательно, где 8то возможно, создавать секции в каждом первичном избирательном округе».
«В конечном счете в каждом городе должен быть учрежден городской комитет, или совет, соответствующий муниципальным советам; в каждом штате — комитет, или совет штата, соответствующий законодательным органам штатов, а в общенациональном масштабе — национальный комитет, или совет, соответствующий Национальному конгрессу Соединенных Штатов».
«Задача Интернационала заключается не в чем ином, как в создании в рамках существующих форм правления новой формы, которая призвана все их заменить».
Этот манифест, а также создание на его основе всевозможных буржуазных шарлатанских секций (апостолов свободной любви, спиритов, спиритствующих шейкеров и т. д.), явился поводом к расколу, причем секция № 1 (немецкая) старого совета потребовала исключения секции № 12 и недопущения таких секций, которые не состояли бы, по крайней мере на две трети, из рабочих.
Сначала пять раскольников образовали 19 ноября 1871 г. сепаратный совет, состоящий из янки, французов, немцев.
В газете aWoodhull ...» 18 ноября 1871 г. секция M 12 (Уэст в качестве секретаря) выражает протест против секции № 1 и, между прочим, заявляет там:
«Простая истина заключатся в том, что обеспечение политического равенства и социальной свободы в равной мере всем — всем расам, обоим полам и любым сословиям — является непременной предпосылкой более радикальных реформ, требуемых Интернационалом.
Распространение »раждансквео равноправия на женщин должно во всем мире предшествовать веяному общему изменению существующих отношений между капиталом и трудом». «Секция № 12 должна также восстать против лежащей в основе всего рассматриваемого здесь протеста (секции № 1) неверной посылки, будто Международное Товарищество Рабочих есть организация рабочего класса..,>»
Еще раньше в газете «Woodhull. ..» 21 октября 1871 г. сек ция № 12 провозглашала
неуверенное право каждой секции вырабатывать, принимать и выра жать свое собственное толкование решений конгрессов, Устава и постановлений (I ) указанного Генерального Совета, поскольку каждая секция одна несет ответственность sa свои собственные выступления».
Газета <tWoodhull...b, 25 ноября 1871 г. Протест секции № 12 против «Воззвания секции M 7» (то самое воззвание, которое ты передал для опубликования в итальянские и другие газеты).
АМЕРИКАНСКИЙ РАСКОЛ
431
«Неверно, что «взаимопонимание или согласие» рабочих всех стран, действующих самостоятельно, само по себе образует основу Товарищества... Утверждение, что освобождение рабочего класса может быть завоевано только им самим, нельзя отрицать, однако оно правильно лишь постольку, поскольку констатирует тот факт, что рабочий класс не может быть освобожден против своей воли».
3 декабря 1871 г. формально конституируется новый феде ральный совет для Северной Америки (янки, немцы, французы).
4 декабря. Старый совет (Уорд-Хотел, 10) изобличает мошенников в циркуляре ко всем секциям Интернационала в Соединенных Штатах. Между прочим, там говорится:
«В комитете (старом Центральном комитете), который должен был бы служить преградой против всякой спекуляции реформами, под конец образовалось большинство из почти уже преданных забвению реформаторов и филантропов... И в результате люди, проповедующие евангелие свободной любви, в братском единении сидели рядом с людьми, желающими осчастливить мир единым универсальным языком: дельцы сельскохозяйственной кооперации, спириты, атеисты и деисты — каждый старался оседлать своего конька. В частности, секция № 12 Вудхалл... Первый шаг, который здесь необходимо сделать для успеха движения, это организоваться и одновременно активизировать революционный элемент, порождаемый противоположностью интересов капиталиста и рабочих...
Делегаты секций № 1, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 21, 23, 24, 25 и других, убедившись в бесплодности всех попыток положить конец этому безобразию, постановили, после того как старый Центральный комитет приостановил (3 декабря 1871 г.) свою деятельность на неопределенный срок, основать новый комитет, состоящий из подлинных рабочих, не допуская в него всех тех, кто только способен запутать вопрос». (« New - Yorker Democrat», 9 декабря 1871 г.)
Уэст был избран в качестве делегата нового совета.
Следует заметить, что новый совет очень быстро пополнился делегатами, большей частью от новых секций, основан ных секцией № 9 (Клафлин) и секцией № 12 (Вудхалл), собран ных кое-как и притом по большей части таких малочисленных, что в них с трудом набиралось достаточно членов для замещения необходимых выборных должностей.
Тем временем газета « Woodhull ...» (Уэст и др.) бесстыдно лгала, утверждая, что ей обеспечена поддержка Генерального Совета.
Оба совета апеллировали к Генеральному Совету. Различные секции, например французская секция № 10 (Нью-Йорк), и все ирландские секции отозвали своих делегатов из обоих советов в ожидании решения Генерального Совета. О ложных утверждениях газеты « Woodhull ...» свидетельствует статья в номере от 2 декабря под заглавием «.Секция № 12 получила поддержку. — Решение Генерального Совета», (Это было
432
К. МАРКС
решение Генерального Совета от 5 ноября 1871 г., поддерживавшее, наоборот, Центральный комитет против претензий секции № 12 на то, чтобы занять его место в качестве секции янки.)
Резолюции Генерального Совета от 5 и 12 марта 1872 г.
Судьба Интернационала в Соединенных Штатах зависела от них. (Между прочим, следует отметить нарочитый культ, которым газета «Woodhull...» окружала меня до поры до времени.)
Как только резолюции были получены в Нью-Йорке, люди из контркомитета возобновили свою старую политику. Раньше они обсуждали первоначальный раскол в самых скомпрометированных буржуазных газетах Нью-Йорка. Теперь они начали делать то же самое по отношению к Генеральному Совету (изображали дело как борьбу между французами и немцами, между социализмом и коммунизмом) под ликующий вой всей враждебной рабочим прессы.
Очень характерны комментарии к резолюциям Генерального Совета в газете «Woodhull...)') 4 мая 1872 г.
Еще раньше в газете «Woodhull...» 16 декабря 1871 г.:
«В отношении членства не выдвигается никаких новых требований, кроме того, что на две трети или еще на какую-то часть секция должна состоять из наемных рабов, словно быть свободным — преступление».
(Особенно при формировании контрсовета.) Газета «Woodhull...», 4 мая 1872 г.:
«...В этом декрете Генерального Совета его авторы не стесняются рекомендовать, чтобы в будущем не принималась ни одна американская секция, не состоящая хотя бы на две трети из наемных рабов. Не должны ли члены секций быть и политическими рабами? Одно стоит другого...». «Проникновения в Международное Товарищество Рабочих лжереформа торов, буржуазных шарлатанов и политических аферистов больше всего следует опасаться как раз со стороны того класса граждан, который не имеет других средств к существованию, кроме платы sa труд наемного раба*.
Тем временем по мере приближения президентских выборов обнаружилось, где была зарыта собака: Интернационал, оказывается, должен служить избранию... г-жи Вудхалл!
Кстати, еще раньше в газете «Woodhull...» 2 марта 1872 г. в статье, подписанной У. Уэстом, читаем:
«Издание в августе прошлого года манифеста секции № 12 к гражданам Соединенных Штатов, говорящим на английском языке, явилось началом новой ары в истории Интернационала и привело к признанию Генеральным Советом политического равенства и социальной свободы обоих полов я также политического в основном характера предстоящей нам деятельности».
АМЕРИКАНСКИЙ РАСКОЛ
433
Газета «Woodhull...» 2 марта 1872 г. под заголовком «.Предстоящее объединительное собрание-» пишет:
«Представители различных реформаторских элементов страны обсуждают сейчас предложение о проведении здесь в мае текущего года боль шого объединительного собрания во время юбилейной недели... В самом деле, если это собрание в мае будет действовать умно, кто может сказать, что остатки покойной Демократической партии [не примкнут к нему... те, кому... принципы дороже республиканской или демократической партии] * выйдут из них и примут участие в проектируемом собрании. Все радикальные организации во всех частях Соединенных Штатов должны, как только будет опубликовано приглашение на собрание, тотчас же пред принять шаги, чтобы быть на нем представленными».
(Кстати, газета «Woodhull...», не могу найти от какого числа, утешает спиритические секции тем, что о Генеральном Совете позаботится сам черт.)
Газета qWoodhull...», 6 апреля 1872 г.:
«С каждым днем множатся свидетельства того, что собрание, созываемое на 9 и 10 мая представителями различных поборников реформ... призвано стать стихийным порывом народа».
Национальная ассоциация борьбы за женское избирательное право сообщает:
«Это собрание... рассмотрит кандидатуры, на посты, президента и вице-президента Соединенных Штатов».
То же самое под заголовком:
«Предстоящее в мае 1872 г. в Соединенных Штатах создание Народной партии для обеспечения и защиты прав человека».
Под воззванием на первом месте стоит подпись: Виктория К. Вудхалл, "затем — Теодор Г. Банкс, Р. У. Юм (оба — члены контрсовета, а Банкс — один из его основателей). В этом воззвании говорится: собрание рассмотрит «кандидатуры на посты президента и вице-президента Соединенных Штатов». Особо приглашаются
«поборники реформ в области рабочего и земельного вопросов, пацифисты, апостолы трезвенности, члены Интернационала и сторонники женского избирательного права, включая различные общества борьбы за избирательное право, а также всех тех, кто считает, что настало время ввести принципы вечной справедливости и человеческого равенства в наше зако-'нодательство».
В газете «Woodhull...» 13 апреля 1872 г. все яснее обнаруживаются махинации, связанные с президентскими выборами. На этот раз для разнообразия обращаются к
* Пропуск в рукописи, Текст в квадратных скобках восстановлен do газете, Ред.
434 к. Маркс
«членам Интернационала и другим поборникам реформы труда, друзьям мира, трезвенности и образования и всем тем, кто считает, что настало время проводить принципы истинной нравственности и религии в законодательство, судопроизводство и торговлю».
Под заголовком «Партия народа и т. д.» новое воззвание. На первом месте все та же подпись: Виктория К. Вудхалл, за ней главные пройдохи из контрсовета — Т. Г. Банкс, Р. У. Юм, Д. Р. Аллен, Уильям Уэст, Г. В. Маддокс (впо следствии председатель собрания в Аполло-холле), Дж. Т. Эллиотт (английский секретарь нового совета), Т. Милло (делегат французской секции № 2).
« Woodhull ... Weekly» (это не газета, а еженедельник), 20 апреля 1872 г. Продолжается все то же жульничество.
Списки растут, все время во главе с В. К. Вудхалл (в списках имеются также и «высокочтимые» *).
« Woodhull ... Weekly », 27 апреля 1872 г. Продолжается та же реклама. (Начинают печатать список делегатов.)
« Woodhull... Weekly », 4 мая 1872 г. Продолжение жульничества. (Постоянное перепечатывание тех же и расширенных списков.)
« Woodhull ... Weekly », 25мая 1872 года. Наконец (9, 10, И мая скандал в Аполло-холле). Вудхалл — кандидат на пост президента США, Ф. Дуглас — на пост вице-президента (Маддокс из контрсовета — председатель собрания в первый день). Посмешище всего Нью-Йорка и США.
Другие должностные лица контрсовета: Джон Т. Эллиотт, вице-президент, Д. Р. Аллен, секретарь (и член комитета по составлению резолюций и платформы). В последнем комитете: Т. Г. Банкс (один из пяти основателей контрсовета 19 ноября 1871 г.). Также пресловутая г-жа Мария Халек в одном из комитетов. В нью-йоркском центральном национальном комитете для Соединенных Штатов фигурируют Д. Р. Аллен, t. Г. Банкс (рядом с полковником Бладом, членом секции № 12 и супругом Виктории), А. Б. Девис.
Крушение контрсовета.
Секция № 2 (французская) лишает делегатских полномочий Лограна (бывшего до сих пор французским секретарем контрсовета). Упрекают этих молодчиков в
«использовании организации для политических целей и как своего рода придатка отделения апостолов свободной любви, входящего в состав партии борьбы за права женщин... Гражданин Милло» (он внес резолю цию о выходе секции № 2 из контрсовета, и предложение было принято),
• — члены американского конгресса, Ред,
АМЕРИКАНСКИЙ РАСКОЛ
435
«обосновывая резолюцию, заявил, что только три секции — № 9 (Клаф-лин), № 12 (Вудхалл) и № 35 - были представлены на созванном с бору по сосенке собрании в Аполло-холле, что они интриговали для использования людей в политических целях и что делегация, выступавшая на вышеупомянутом собрании и действовавшая якобы от имени федерального совета, была незаконной и самозванной».
(Однако федеральный контрсовет не дезавуировал ее.) (« The World », 13 мая 1872 г.)
Секция № 6 (немецкая) отзывает своего делегата Э. Гроссе (бывшего личного секретаря г-на фон Швейцера) и заявляет, что выйдет из контрсовета, если последний не признает всех резолюций Генерального Совета.
«Le Socialiste» (Нью-Йорк), 18 мая 1872 г.
Нью-йоркская секция № 2 в воскресном заседании 12 мая приняла следующие резолюции:
«Принимая во внимание и т. д. и т. д.
Что секция № 2 имеет достоверные сведения об отказе общества ювелиров присоединиться к Интернационалу, между тем как делегат этого общества продолжает представлять его в федеральном совете;
Что секция № 2 имеет основание считать и некоторых других делегатов представителями секций фиктивных или насчитывающих не более 6—8 членов,
Секция № 2 заявляет, что необходимо произвести расследование и т. д...».
«Принимая во внимание, что секция № 12, правильно или неправильно, была временно исключена Генеральным Советом, действовавшим в силу полномочий, данных ему Базельским конгрессом, секция № 2 протестует против оставления в федеральном совете делегата секции № 12 в качестве делегата с решающим голосом.
Наконец, принимая во внимание, что Интернационал является товариществом рабочих, имеющим, целью освобождение рабочих самими рабочими, секция № 2 протестует против принятия секций, состоящих в большинстве своем из нерабочих».
Другая резолюция секции № 2.
«Секция № 2, признавая в принципе избирательное право для женщин, перед лицом инсинуаций гражданки Вудхалл, дававшей понять публике на собрании В Аполло-холле, что Интернационал поддерживает кандидатуры, выдвинутые на этом собрании,
заявляет, что в настоящее время Интернационал не может и не должен идти на поводу у какой-либо американской политической партии, так как ни одиа из них не представляет стремлений рабочих, ни одна из них не признает в качестве программы и цели экономическое освобождение рабочих.
Секция № 2 считает, что в настоящее время единственной нашей целью должны быть организация и сплочение рабочего класса в Америке».
Под заголовком «Члены Интернационала, берегитесь!» в том же номере «Socialiste», между прочим, напечатано:
436
К. МАРКС
«Интернационал не подвергается и не может подвергаться преследованиям в Америке; политиканы не только не стремятся его уничтожить, но думают исключительно о том, чтобы использовать его как рычаг и опору для достижения своих личных целей. Если Интернационал даст увлечь себя на этот путь, он перестанет быть Товариществом Рабочих и станет ареной для политиканов.
Сигнал тревоги был дан уже давно; но собрание в Аполло-холле, выдвинувшее от имени Интернационала кандидатуру г-жи Вудхалл на президентский пост, должно теперь раскрыть глаза и менее проница тельным. Члены Интернационала в Америке, берегитесь!»
« The World», 20 мая 1872 г.
Заседание контрсовета от 19 мая 1872 г. Маддокс (из Аполло-холла) председатель. Уход 8 делегатов (от 8 секций) (французы и немцы).
« Herald», 20 мая 1872 г. печатает сообщение о том же заседании под заголовком:
«Французы, подвергаются оскорблениям и уходят в негодовании... Обмен ужасающими ругательствами. Всего 1500 членов в Соединенных Штатах. Раскол среди лондонских членов Интернационала. Победа клики Вудхалл».
Резолюция Генерального Совета от 28 мая 1872 г., согласно которой — в ответ на вопросы, поставленные немецкой секцией Сент-Луиса и французской секцией Нового Орлеана — старый совет (Временный федеральный совет для Соединенных Штатов) признается единственно правомочным.
Написано К. Марксом в мае 1872 г. Печатается по рукописи
Впервые опубликовано на русском Перевод с английского,
языке в книге «Генеральный Совет немецкого и французского
Первого Интернационала. 1 S 71— 1S7Ü». M., 196S
[ 437
К. МАРКС
* ПРОЕКТ ОБЩЕГО УСТАВА
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РЕГЛАМЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ
ЛЕТОМ 1872 ГОДА572
ОБЩИЙ УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ
Принимая во внимание:
что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса;
что борьба за освобождение рабочего класса означает борьбу не за классовые привилегии и монополии, а за равные права и обязанности и за уничтожение всякого классового господства;
что экономическое подчинение трудящегося монополисту средств труда, то есть источников жизни, лежит в основе рабства во всех его формах, всякой социальной обездоленности, умственной приниженности и политической зависимости;
что экономическое освобождение рабочего класса есть, следовательно, великая цель, которой всякое политическое движение должно быть подчинено как средство;
что все усилия, направленные к этой цели, оказывались до сих пор безуспешными вследствие недостатка солидарности между рабочими различных отраслей труда в каждой стране и отсутствия братского союза рабочего класса разных стран;
что освобождение труда — не местная и не национальная проблема, а социальная, охватывающая все страны, в которых существует современное общество 5?3, и что ее разрешение за висит от практического и теоретического сотрудничества наи более передовых стран;
что нынешний новый подъем движения рабочего класса в наиболее развитых промышленных странах Европы, вызывая новые надежды, служит вместе с тем серьезным предупрежде-
438
К. МАРКС
нием против повторения прежних ошибок и требует немедлен ного объединения все еще разрозненных движений;
принимая во внимание указанные соображения, было основано Международное Товарищество Рабочих.
Оно заявляет:
что все вступившие в него общества и отдельные лица будут признавать истину, справедливость и нравственность основой в своих отношениях друг к другу и ко всем людям независимо от цвета их кожи, их верований или национальности.
Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав.
Исходя из всего этого и был составлен следующий Устав:
Статья 1. Товарищество основано для того, чтобы организовать общие действия рабочих * разных стран б74, преследующих одинаковую цель, а именно: взаимную защиту, развитие и полное освобождение рабочего класса.
Статья 2. Общество носит название Международное Товарищество Рабочих.
Статья 3. Ежегодно созывается общий рабочий б75 конгресс, состоящий из делегатов от отделений Товарищества. Этот конгресс призван провозглашать общие стремления рабочего класса, принимать меры, необходимые для успешной деятельности Международного Товарищества, и назначать его Генеральный Совет.
Статья 4. Каждый конгресс назначает время и место созыва следующего конгресса. Делегаты собираются соответственно своим мандатам в назначенный срок в установленном месте без специального приглашения. Генеральный Совет может в случае необходимости изменить место и срок конгресса и с санкции большинства федераций заменить конгресс закрытой конференцией с теми же полномочиями. Однако конгресс или конференция, которая заменит его, должны быть созваны в течение трех месяцев после срока, установленного предыдущим конгрессом.
Конгресс ежегодно определяет местопребывание Генераль ного Совета и избирает его членов, по три человека от нацио нальности. Избранный таким образом Совет имеет право за менять членов, ушедших в отставку или по какой-либо при чине лишенных возможности выполнять свои обязанности, и пополнять свой состав путем кооптации, в случае если конг ресс изберет меньшее число членов, чем это определено Уставом.
• Здесь и далее жиртшм шрифтом выделены изменения, утвержденные Генеральным Советом летом 1872 г. Рев.
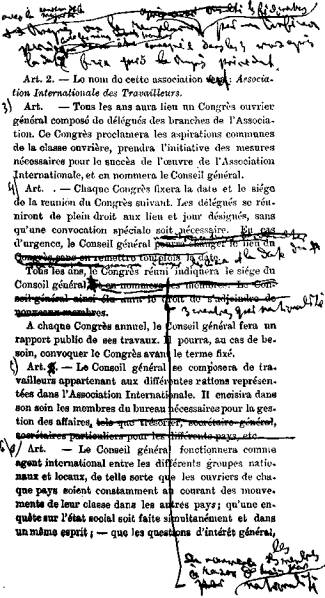
Страница французского издания Овщего Устава
и Организационного регламента Первого Интернационала с правкой К. Маркса
ПРОЕКТ ОБЩЕГО УСТАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ 441
Генеральный Совет делает гласный отчет о своей деятельности каждому ежегодному конгрессу. В случае крайней необходи мости Генеральный Совет может созвать общий конгресс ранее установленного срока.
Статья 5. Генеральный Совет избирает из своей среды должностных лиц, необходимых для ведения дел.
Статья 6. Генеральный Совет служит международным органом, осуществляющим связь между различными национальными и местными группами Товарищества, добиваясь того, чтобы рабочие каждой страны были постоянно осведомлены о движении их класса в других странах; чтобы одновременно и в одном и том же духе проводилось обследование социальных условий; чтобы вопросы, поднятые в одном обществе, но представляющие общий интерес, обсуждались всеми и чтобы в тех случаях, когда требуются немедленные действия, все общества, входящие в Товарищество, могли действовать одновременно и согласованно.
Во всех надлежащих случаях Генеральный Совет берет на себя инициативу внесения предложений национальным или местным обществам.
Статья 7. Так как успех рабочего движения в каждой стране может быть обеспечен только силой единения и организацией, а, с другой стороны, деятельность Генерального Совета будет более эффективна, если он вместо общения со множеством мелких и разрозненных местных обществ сможет установить связь с несколькими крупными национальными центрами ра бочих обществ, то члены Международного Товарищества долж ны, каждый в своей стране, приложить все усилия для объединения разрозненных рабочих обществ в национальные организа ции, представленные центральными органами, которые по воз можности должны быть интернациональными по своему составу.
Само собой разумеется, однако, что применение этой статьи Устава зависит от особенностей законов каждой страны и что независимо от наличия препятствий, чинимых законами, самостоятельным местным обществам не возбраняется входить в непосредственные сношения с Генеральным Советом.
Статья 8 б7в . В своей борьбе против объединенной власти имущих классов рабочий класс может действовать как класс, только организовавшись в особую политическую партию, противостоящую всем старым партиям, созданным имущими классами. Эта организация рабочего класса в политическую партию необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и достижение ее конечной цели — уничтожение классов.
442
К. МАРКС
Объединение сил рабочего класса, уже достигнутое им бла годаря экономической борьбе, должно также служить рычагом в его борьбе против политической власти его эксплуататоров.
Так как магнаты земли и капитала всегда пользуются своими политическими привилегиями для защиты и увековечения своих экономических монополий и для порабощения труда, завоева ние политической власти стало великой обязанностью пролетариата.
Статья 9. Членом Международного Товарищества Рабочих может стать каждый, кто признает и защищает его принципы.
Однако, чтобы гарантировать пролетарский характер Това рищества, каждая секция должна насчитывать в своем составе не менее двух третей наемных рабочих 5 ".
Каждая секция ответственна за безупречность своих членов.
Статья 10. Каждый член Международного Товарищества, переезжающий из одной страны п другую, получит братскую поддержку со стороны членов Товарищества.
Статья 11. Рабочие общества сопротивления, присоединяющиеся к Международному Товариществу, могут сохранять в неприкосновенности свои существующие организации.
Статья 12. Настоящий Устав может быть пересмотрен на каждом конгрессе при условии, если за пересмотр выскажутся 2/3 присутствующих делегатов.
Статья 13. Все, не предусмотренное настоящим Уставом, будет дополнено в особом Регламенте, подлежащем пересмотру на каждом конгрессе.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ,
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЯМИ
КОНГРЕССОВ (1866-1869)
И ЛОНДОНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (1871)
I
ОБЩИЙ КОНГРЕСС
1. Каждый член секции Международного Товарищества Рабочих имеет право участвовать в выборах делегатов на общий конгресс и каждый член Товарищества может быть сам избран делегатом.
2. Каждая секция или группа секций, насчитывающая не менее 50 членов, может послать на конгресс одного делегата.
3. Каждая секция или группа секций, насчитывающая более 50 членов, имеет право послать дополнительного делегата от каждых дополнительных 100 членов,
ПРОЕКТ ОБЩЕГО УСТАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ 443
4. Каждый делегат имеет на конгрессе только один голос.
5. Издержки делегатов оплачиваются избравшими их секциями и группами.
6. К участию в конгрессах с правом решающего голоса впредь допускаются лишь делегаты тех обществ, секций или групп, которые входят в состав Интернационала и уплатили Генеральному Совету членские взносы.
7. Заседания конгресса бывают двух видов: закрытые, по организационным вопросам, и открытые, на которых обсуждаются и ставятся на голосование принципиальные вопросы, намеченные в программе конгресса.
8. Генеральный Совет вырабатывает официальную программу конгресса, включающую вопросы, поставленные в порядок дня предыдущим конгрессом, а также вопросы, внесенные дополнительно Генеральным Советом, равно как и те, которые представлены Генеральному Совету различными секциями и группами или их комитетами и утверждены им.
Все секции, желающие предложить на обсуждение предстоящего конгресса вопрос, не включенный в программу, принятую предшествовавшим конгрессом, должны сообщить об этом Генеральному Совету до 31 марта.
9.
Генеральному Совету поручается организовать
конгресс
и своевременно довести его программу до сведения всех секций
через посредство федеральных советов
или комитетов.
10. Конгресс назначает по каждому вопросу, подлежащему его обсуждению, особую комиссию. Каждый делегат называет комиссию, в которую он предпочитает войти. Каждая комиссия изучает представленные различными секциями и группами доклады по определенному вопросу, переданному на ее рассмотрение. Комиссия составляет на основании этих докладов один общий доклад, и только он оглашается на открытом заседании. Комиссия, кроме того, решает, какие из упомянутых докладов должны быть приложены к официальному отчету.
11. На своих открытых заседаниях конгресс занимается в первую очередь вопросами, поставленными в порядок дня Генеральным Советом; вслед за тем подлежат обсуждению остальные вопросы.
12. Все резолюции по вопросам, касающимся принципов, ставятся на поименное голосование.
13. Каждая секция или федерация секций представляет Генеральному Совету не позднее чем за два месяца до ежегодного конгресса подробный отчет о своей деятельности и о своем развитии в течение текущего года.
444
К. МАРКС
Генеральный Совет составляет на основании этих докумен тов один общий отчет, который оглашается на заседании конгресса.
il
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
1.
Наименование Генеральный Совет
сохраняется за Цент
ральным советом Международного
Товарищества Рабочих.
Центральные советы различных стран, в которых существует регулярная организация Интернационала, должны имено ваться федеральными советами или федеральными комитетами с прибавлением названий соответствующих стран.
2. Генеральный Совет обязан приводить в исполнение резо люции конгрессов и следить за строгим соблюдением в каждой стране основных принципов Интернационала.
3. Генеральный Совет публикует еженедельно отчет о своем заседании.
4. Каждая группа, находящаяся вне федеральных объеди нений, желающая вступить в Интернационал, обязана немедленно сообщить о своем присоединении Генеральному Совету.
5. Генеральный Совет имеет право принимать новые секции и группы или отказывать им в приеме, оставляя, однако, за ними право апеллировать к конгрессу.
Однако там, где существуют федеральные советы или коми теты, Генеральный Совет обязан выслушать их мнение, прежде чем принять новую секцию или общество или отказать им в приеме; тем не менее за ним остается право временно разрешать вопрос.
6.
Генеральный Совет имеет также право временно, до
оче
редного конгресса, исключать отделения,
секции, федеральные
советы или комитеты и
федерации Интернационала.
Однако по отношению к секциям, входящим в ту или иную федерацию, он должен применять это право, лишь выслушав предварительно мнение соответствующего федерального совета.
В случае роспуска федерального совета Генеральный Совет должен одновременно предложить секциям федерации избрать не позднее чем в 30-дневный срок новый федеральный совет.
В случае временного исключения целой федерации Генераль ный Совет должен немедленно поставить в известность об этом все остальные федерации. Если большинство федераций этого потребует, Генеральный Совет должен не позднее чем через месяц созвать чрезвычайную конференцию, на которой должны присутствовать по одному делегату от каждой национальности и которая вынесет окончательное решение по спорным вопросам,
ПРОЕКТ ОБЩЕГО УСТАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ 445
Само собой разумеется, однако, что страны, где Интернационал запрещен, пользуются теми же правами, что и федерации, существующие легально.
7. Генеральный Совет имеет право разрешать конфликты, которые могут возникнуть между обществами или отделениями, входящими в одну национальную группу, или между различными национальными группами, оставляя, однако, за ними право апеллировать к конгрессу, решение которого является окончательным.
8. Все делегаты, назначаемые Генеральным Советом для выполнения особых поручений, вправе присутствовать и высказываться на всех федеральных или местных собраниях организаций Интернационала без права решающего голоса.
9. Английские, французские и немецкие издания Общего Устава и Регламента должны воспроизводить официальные тексты, опубликованные Генеральным Советом.
Все переводы Общего Устава и Регламента на другие языки должны быть до их опубликования представлены на утвержде ние Генерального Совета.
ш
ВЗНОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОВЕТУ
1.
Генеральный Совет взимает со всех секций и
присоеди
нившихся обществ ежегодный взнос в размере 10 сантимов
с каждого члена.
Этот взнос предназначается для покрытия различных расходов Генерального Совета.
2. Генеральному Совету надлежит отпечатать наклеивающиеся марки определенного образца стоимостью в 10 сантимов и ежегодно снабжать ими в требуемом количестве федеральные советы или комитеты.
3. Федеральные советы или комитеты посылают местным комитетам или, при отсутствии их, соответствующим секциям количество марок по числу их членов.
4. Эти марки наклеиваются на специальный листок в член скую книжку или в Устав, экземпляр которого обязан иметь каждый член Товарищества.
5. Каждый квартал федеральные советы различных стран или местностей пересылают Генеральному Совету сумму, соответствующую стоимости использованных марок, и возвращают оставшиеся у них марки.
6. Эти марки помечаются датой текущего года.
446
К. МАРКС
IV ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ИЛИ КОМИТЕТЫ
1. Расходы федеральных советов или комитетов покрываются соответствующими секциями.
2. Каждый федеральный совет или комитет обязан раз в ме сяц посылать отчет Генеральному Совету.
3. Федеральные советы или комитеты каждый квартал представляют Генеральному Совету отчет об организационной работе и финансовом положении их секций.
4. Каждая федерация имеет право отказывать в приеме или исключать из своей среды отдельные общества или секции. Она, однако, не имеет права лишать их звания организаций Иитернациопала; она может лишь обратиться в Генеральный Совет с предложением об их временном исключении.
v
МЕСТНЫЕ ОБЩЕСТВА, СЕКЦИИ И ГРУППЫ
1. Каждая секция имеет право выработать свой устав и регламент применительно к местным условиям и законам своей страны; они не должны, однако, содержать ничего противоречащего Общему Уставу и Регламенту.
2. Соответствие этих местных уставов и регламентов с Общим Уставом и Регламентом устанавливается федеральными советами, а для секций, находящихся вне федеральных объединений, — Генеральным Советом.
3. Все местные отделения, секции, группы и их комитеты именуются и конституируются исключительно как отделения, секции, группы и комитеты Международного Товарищества Рабочих с прибавлением названий соответствующих местностей.
4. Ввиду этого всем отделениям, секциям и группам запрещается именоваться сектантскими названиями, как, например, отделения позитивистов, мютюэлистов, коллекти вистов, коммунистов и т. п., или создавать сепаратистские организации под названием «секций пропаганды» и другие, претендующие на выполнение особых задач, отличных от общей цели, преследуемой всеми организациями Интернационала.
5. Само собой разумеется, что на профессиональные союзы (тред-юнионы), присоединившиеся к Интернационалу^ статья 2 настоящего раздела не распространяется.
ПРОЕКТ ОБЩЕГО УСТАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ 447
6. Всем секциям и рабочим обществам, присоединившимся к Интернационалу, предлагается упразднить должность председателя секции или общества.
7. Рекомендуется создавать среди рабочего класса женские секции. Разумеется, однако, что эта резолюция отнюдь не должна препятствовать существованию старых и образованию но вых секций, состоящих из рабочих обоего пола.
8. Секции обязаны немедленно пересылать Генеральному Совету все газеты, в которых появляются какие-либо нападки па Товарищество.
9. Каждые три месяца в печатных органах Товарищества должны публиковаться адреса федеральных комитетов и Гене рального Совета.
VI
О ВСЕОБЩЕЙ СТАТИСТИКЕ ТРУДА РАБОЧЕГО КЛАССА
1. Генеральному Совету надлежит ввести в действие статью 6 Устава, касающуюся всеобщей статистики рабочего класса, а также применять резолюцию Женевского конгресса (1866) по данному вопросу.
2. Каждая местная секция должна назначить из своей среды специальный статистический комитет, чтобы быть всегда готовой в меру своих средств ответить на вопросы, с которыми к ней могут обратиться федеральный совет или комитет ее страны или Генеральный Совет Интернационала. Всем секциям рекомендуется оплачивать секретарей статистических комитетов, принимая во внимание важность и общую пользу от их деятельности для рабочего класса.
3. Ежегодно 1 августа федеральные советы или комитеты отсылают собранные в их странах материалы Генеральному Совету, который, в свою очередь, составляет на основании этих данных общий доклад для представления конгрессам или конференциям.
4. О профессиональных союзах и секциях Интернационала, отказывающихся представить требуемые сведения, следует сообщать Генеральному Совету, который примет в связи с этим соответствующие меры.
5. Резолюция Женевского конгресса, упомянутая в статье 1 настоящего раздела, гласит:
Великим примером интернационального объединения дей ствий явится статистическое обследование положения рабочего класса различных стран, осуществляемое самим рабочим клас сом. Разумеется, чтобы действовать с какими-либо шансами
448
К. МАРКС
на успех, надо знать тот материал, на который предстоит воздействовать. В то же время, приступив к такому большому труду, рабочие докажут, что они способны взять свою судьбу в собственные руки.
Конгресс поэтому предлагает:
чтобы в каждой стране, где существуют отделения нашего Товарищества, немедленно приступить к статистической работе и собирать фактические данные по различным пунктам, указанным в прилагаемой схеме обследования;
чтобы все рабочие Европы и Америки приняли участие в этой статистической работе;
чтобы доклады и фактические данные направлялись Генеральному Совету;
чтобы Генеральный Совет на основании этих материалов составил доклад, присоединив к нему фактические данные в виде приложения;
чтобы этот доклад вместе с приложением представить оче редному ежегодному конгрессу и после утверждения им напе чатать на средства Товарищества.
Общая схема обследования, в которую, разумеется, могут быть внесены изменения в каждой местности:
1. Производство, какое?
2. Возраст и пол рабочих.
3. Число занятых лиц.
4. Заработная плата: а) учеников; Ь) поденная или сдельная оплата труда. Размер оплаты посредниками. Средний недельный, годовой заработок.
5. а) Продолжительность рабочего дня на фабриках; Ь) про должительность рабочего дня у мелких предпринимателей и в домашнем производстве; с) ночной и дневной труд; d) перерывы на еду.
6. Правила в мастерских.
7. Характеристика мастерской и условий труда: теснота помещения, плохая вентиляция, недостаток солнечного света, применение газового освещения, чистота и т. д.
8. Влияние работы на физическое состояние.
9. Моральные условия. Воспитание.
10.
Состояние
производства: является ли оно сезонным
или действует более или менее равномерно в течение всего
года, испытывает ли значительные колебания
в периоды процве
тания и застоя, подвергается ли иностранной конкуренции,
ПРОЕКТ ОБЩЕГО УСТАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ 449
обслуживает ли оно преимущественно внутренний или внешний рывок.
11. Особые законы, регулирующие отношения между рабочим и предпринимателем.
12. Жилище и питание.
Впервые опубликовано на русском языке
в книге «Генеральный Совет
Первого Интернационала. 1871—1872».
М., 1965
Печатается по экземпляру
французского издания Устава 1871
с изменениями, утвержденными
Генеральным Советом
для представления конгрессу
Перевод с французского
450 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
•РЕШЕНИЯ ПОДКОМИТЕТА О М. А. БАКУНИНЕ И АЛЬЯНСЕ
1. На письмо Бакунина ответа не будет 578.
2. Гражданин Энгельс напишет в Валенсию Федеральному совету, чтобы потребовать от него отчета о его взаимоотношениях с Альянсом, поскольку не менее трех членов этого Совета принадлежат к указанному обществу.
3. Подкомитет будет просить Генеральный Совет, чтобы он предложил на ближайшем конгрессе исключить Бакунина и альянсистов.
Внесено Ф. Энгельсом на засевании Печатается по рукописи
Подкомитета 5 июля 1872 г. Пере((оа е фртцузского
Впервые опубликовано на русском языке в книге «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871 —1872». М., 1961
[ 451
К. МАРКС
* ОТВЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА НА ПРОТЕСТ
ЮРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ СОЗЫВА
КОНГРЕССА В ГААГЕ «•
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ
33, Ратбон-плейс, Оксфорд-стрит, Лондон
Гражданину Швицгебелю, секретарю-корреспонденту Юрского федерального комитета.
Я представил Ваше письмо от 15 июля этого года Генераль ному Совету, и он уполномочил меня ответить Вам, что оста новившись на Гааге, как месте созыва будущего конгресса, Генеральный Совет принимал во внимание все доводы, содержавшиеся в Вашем письме, и что этот выбор был продиктован следующими соображениями.
Конгресс не сможет состояться в Швейцарии, потому что именно оттуда исходили и там сосредоточиваются распри; конгресс всегда подвергается, в большей или меньшей степени, влиянию того места, где он собирается; чтобы придать большую весомость его решениям и большую мудрость его дискуссиям, ему необходимо избежать такого местного характера, и для этого надо было выбрать место, удаленное от главного центра распрей.
Вы не можете не знать, что из четырех конгрессов три состоялись в Швейцарии и что в Базеле бельгийские делегаты настойчиво предлагали, чтобы следующий конгресс состоялся в Вервье или Голландии.
Швейцария, несмотря на относительную свободу, которой там пользуются^ не может претендовать на монополию созыва конгрессов.
452
К. МАРКС
Романский федеральный совет также выразил недовольство выбором Генерального Совета и не одобряет этот выбор. Привет и братство
Г. Юнг, секретарь-корреспондент для Швейцарии 28 июля 1872 г.
Напечатано в газете «Bulletin Печатается по тексту газеты
de la Fédération jurassienne* „ ~
M 14, 1 августа 1872 е. Перевод с французского
f 453
Ф. ЭНГЕЛЬС
О КОНФЕРЕНЦИИ В РИМИНИ 580
Бакунисты наконец-то поставили себя вне Интернационала. В Римини состоялась конференция якобы Интернационала, а в действительности итальянских бакунистов. Из 21 представленной секции только одна, секция Неаполя, действительно принадлежала к Интернационалу. Остальные 20 намеренно, чтобы не поставить под угрозу свою «автономию», не сделали всего того, что в соответствии с Организационным регламентом могло бы обеспечить их прием в Интернационал; они не обратились в Генеральный Совет с просьбой о приеме и не послали членских взносов. И эта 21 секция «Интернационала» 6 августа единогласно приняла в Римини такое решение:
«Конференция торжественпо заявляет перед рабочими всего мира, что итальянская федерация Международного Товарищества Рабочих отказывается от всякой солидарности с лондонским Генеральным Советом, зато возвещает во всеуслышание о своей солидарности в экономических вопросах со всеми рабочими и предлагает всем тем секциям, которые не разделяют авторитарных принципов Генерального Совета, послать 2 сентября 1872 г. своих представителей не в Гаагу, а в Невшателъ в Швейцарии, чтобы там в тот же день открыть общий антиавторитарный конгресс».
Напечатано в газете «Ver Valhastaat» Печатается по тексту газеты
Л» 67, И аегуста WH е. Пер(мо9 £ нешцког0
На русском языке публикуется впервы
454 ]
К. МАРКС
КОНГРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛА 581
I
Гаага, 25 августа
Через несколько дней начнет свои заседания конгресс Международного Товарищества Рабочих. Власти при поддержке либеральной прессы не чинили устроителям собрания никаких препятствий, несмотря на то, что к правительству со многих сторон обращались с просьбой не допустить проведение конгресса в Гааге. В правительственных кругах возобладало мнение, что не следует урезывать право на свободные дискуссии, посредством которых только и можно успешно бороться против ложных и необоснованных идей и избегать опасных кризисов.
Я уже сегодня посвящаю конгрессу целую статью, потому что для понимания предстоящих на конгрессе прений вашим читателям необходимо заранее быть осведомленными о нынешнем положении в Интернационале. Поскольку на конгрессе этого года будут обсуждаться почти исключительно внутренние дела, и отдельные фракции будут при этом противостоять друг другу, я должен сначала охарактеризовать позицию каждой из них и цели их борьбы. Поэтому я в первую очередь изложу свое мнение о стоящих в программе конгресса вопросах.
Согласно извещению лондонского Генерального Совета предстоит обсудить дальнейшую организацию Интернацио нала *. В связи с этим в Совете есть намерение внести предло жение о включении в Устав решения состоявшейся в прошлом году в Лондоне конференции делегатов Интернационала, со-
* Ф. Энгельс, Резолюция Генерального Совета о созыве и порядке дня конгресса в Гааге, Ред.
КОНГРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛА
455
гласно которому члены Товарищества в отдельных странах должны организоваться как политические партии. Вот тот пункт, вокруг которого разгорится борьба между сторонниками решений конференции и так называемыми абстенциони-стами, которые вообще не хотят иметь ничего общего с политикой. Непосвященным это вряд ли будет понятно.
Более 20 лет назад эмигранты из всех европейских стран выпустили Манифест, составленный г-дами Марксом и Энгельсом, в котором социальные отношения представлены в свете новейшего учения об обществе и намечена тактика политиче ской борьбы, согласно которой в тех государствах, где буржуазия как общественный класс еще ведет борьбу с представите лями сословного или феодального строя, рабочие всегда должны поддерживать буржуазию, если она энергично выступает за прогресс.
Основанный в 1863 г. Всеобщий германский рабочий союз пытался применить эту тактику на практике. В силу незрелости рабочих и отсутствия в других общественных классах какого-либо понимания нового социально-политического движения, Союз не смог стать сколько-нибудь значительной силой; более того, после смерти своего основателя * он опустился до положения секты, руководимой полицейскими агентами, напыщенная болтовня которых использовалась для того, чтобы внушить ужас имущим классам. Эта секта не будет иметь представителя в Гааге.
Основанная в Эйзенахе Социал-демократическая партия также приняла преимущественно политическую программу. Она совершает свои первые шаги, поэтому страдает некоторыми детскими болезнями, однако непрерывно набирает силы. На конгрессе эта фракция будет представлена делегатами из Берлина, Дрездена, Гамбурга, Лейпцига, Мюнхена и Штутгарта.
Что касается австрийских социалистов, то, кажется, и они в соответствии со своей давней позицией и к величайшей досаде феодальных клерикалов не хотят ничего слышать о политическом воздержании. Но в силу изданного бывшим министром Гискра циркуляра австрийским рабочим не разрешено вести пропаганду Интернационала, нельзя им и создавать секции; однако я слышал, что отдельные живущие в Австрии члены этого Товарищества поручили одному заграничному делегату заявить на конгрессе, что австрийские социалисты находят смехотворным воздерживаться от политики.
* — Ф, Лассаля, Ред,
456
К. МАРКС
Английские члены Международного Товарищества Рабочих несколько недель назад снова высказались за политическую деятельность путем создания политической партии в Англии ш.
Вообще направление, представляемое немецкими социали стами, добилось таких успехов, что не только англичане, голландцы и датчане, но также и большинство швейцарцев, фран цузов, испанцев и португальцев выскажутся на конгрессе за включение в Устав Интернационала вышеупомянутых решений Лондонской конференции. Против этого изменения в Уставе будут голосовать только федералистски настроенные бельгийцы, а из французской Швейцарии, юга Франции, Испании и Италии — только сторонники русского Бакунина.
Теперь мне в первую очередь надлежит сообщить вам о генезисе возникших в Интернационале разногласий. Что касается бельгийцев и части французов, то они всегда были сторонниками Прудона и представляемых им федералистских принципов. Они горячо и настойчиво придерживались этих принципов, и немецкие социалисты уважали их как честных противников в области теории.
Иначе обстоит дело со сторонниками Бакунина. Последний не принимал участия в основании Международного Товари щества Рабочих. После своего возвращения из Сибири он проповедовал в герценовском журнале «Колокол» панславизм и расовую войну. В 1868 г. он появился на бернском конгрессе Лиги мира и свободы, чтобы вдохновить собравшихся на «уравнение индивидов» и «упразднение государства». После того как его предложения были отклонены, он при поддержке рус ских эмигрантов основал во французской Швейцарии, на юге Франции, в Италии и Испании несколько рабочих объединений и дал им название Международный альянс социалистической демократии. По Уставу Международного Товарищества Рабочих его отдельные секции имеют право самостоятельно конституи роваться и действовать с учетом законов каждой страны и существующих там порядков, однако ни в коем случае устав секции не может противоречить общей программе Товарище ства, которая кратко гласит: борьба за освобождение рабочего класса «охватывает все страны, в которых существует совре менное общество» и имеет целью «уничтожение всякого классового господства». Ни один класс не должен господствовать над другим. На конгрессах в Брюсселе и Базеле большинство высказалось за теоретическое положение, согласно которому коренное улучшение положения рабочего класса может быть достигнуто, только если общественные средства сообщения и земля станут собственностью государства.
КОНГРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛА
457
Такие пункты, как упразднение частной собственности, упразднение семьи, уравнение индивидов и ликвидация государства, не стояли в программе основанного в Лондоне Между народного Товарищества Рабочих. Поэтому Генеральный Совет должен был, хотя он является только исполнительным органом, предложить руководству Альянса изменить свою программу *. В ответ на это предложение Альянс заявил, что его принципы, которые Генеральный Совет объявил нелепыми, должны были бы служить образцом для Международного Товарищества Рабочих. Генеральный Совет на этом прервал переписку с Альянсом, а тот начал против исполнительного органа в Лондоне организованную войну. Эта война не прекращается до сегодняшнего дня и, так как сторонники г-на Бакунина весьма поднаторели в искусстве изготовления широковещательных манифестов и зажигательных речей, не удивительно, что так часто смешивают Международное Товарищество Рабочих и Международный альянс социалистической демократии и относят взгляды последнего на счет первого. Я хочу привести лишь тот факт, что как Жюль Фавр в своем циркуляре против Интернационала, так и депутат Саказ в докладе о законе Дюфора привели цитаты из фразерских документов Альянса, чтобы доказать опасность Интернационала.
В первые месяцы 1870 г. Бакунин нашел себе достойного товарища в лице Феликса Пиа. Этот последний использовал некую французскую рабочую корпорацию в Лондоне **, чтобы под вывеской Интернационала выпускать различные кровожадные манифесты, в которых, в частности, требовал убийства императора Наполеона. Поэтому Генеральный Совет публично ваявил в газетах, что не может нести ответственность за дей ствия Пиа, который никогда не был членом Интернационала***. Вышеназванная французская рабочая корпорация затем расклеила на улицах Лондона плакаты, в которых объявляла Интернационал «антиреволюционным обществом».
К концу 1870 г. шансы Альянса снова значительно упали. Руководство женевской газетой «Égalité» было отнято у Бакунина и перешло в руки сторонников Генерального Совета. Лишь когда эмигранты Парижской Коммуны прибыли в Швейцарию и Англию, снова наступило оживление в рядах абстен- ционистов, или анархистов. Все сомнительные элементы пошли
• К. Маркс. Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих — центральному бюро Альянса социалистической демократии. Ред. *• — Французскую секцию в Лондоне. Редш
•** К, Маркс. Резолюция Генерального Совета оо поводу выступления ф, Пиа| Рев,
458
К. МАРКС
к анархистам, в то время как наиболее сознательные эмигранты присоединились к Генеральному Совету.
Вероятно, здесь уместно сказать также несколько слов об отношении Интернационала к восстанию Коммуны. Уже само расследование 683 показало, что Международное Товари щество Рабочих как таковое отнюдь не являлось инициатором мартовской революции в Париже; об этом говорит также и состав Коммуны, в котором преобладали якобинцы и люди, подобные Пиа и К0. Добавим еще, что социалистические элементы в Ком муне состояли почти исключительно из прудонистов-федералистов; поэтому печатные органы немецких социалистов вскоре после начала движения высказались в том смысле, что его исход будет неблагоприятным. И все же, когда поражение стало фактом и побежденные подверглись всяческим нападкам, Генеральный Совет и вместе с ним печать Интернационала сочли своим долгом взять под защиту парижских рабочих и оправдать их действия *.
Полагаю, что положению Интернационала на континенте я уделил достаточно места. Об Интернационале в Америке только хочу сообщить, что там апостолы свободной любви и дамы полусвета проникли в секции, но были изгнаны оттуда. Исключенные образовали тогда особую секцию, но Генеральный Совет отказался признать ее **.
Учитывая все сказанное, следует с уверенностью ожидать поражения анархистов на конгрессе. Лично для Бакунина дело обстоит тем хуже, что против него выдвинуты сильно компро метирующие его обвинения. Кое-кто называет г-на Бакунина русским Сабина. Процесс Нечаева убедительно доказал, что Бакунин посылал в Россию совершенно незнакомым людям письма, на конвертах которых стоял штамп «Тайный револю ционный комитет». Далее, против него говорит одно обстоятельство, которое одновременно показывает, куда могут привести идеи абстенционистов. Г-да Альбер Ришар и Гаспар Блан, два адъютанта Бакунина, руководители Международного альянса на юге Франции и инициаторы лионского путча 1870 г., переметнулись в бонапартистский лагерь. Несколько месяцев назад они выпустили прокламацию, которая кончалась словами: «Да здравствует император!». К тому же она содержала еще одно красноречивое заявление:
«Сторонниками империи мы стали в результате естественного развития наших идей».
• И. Маркс. Гражданская война во Франции, Рев, •• См, настоящий том, стр. 429—436, Ред,
КОНГРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛА
459
Наконец, я должен еще заметить, что сторонники г-на Бакунина даже стремятся разжечь национальную рознь среди ра бочих. В последнем номере « Bulletin de la Fédération jurassienne», рупора абстенционистов, который содержит среди прочего также воззвание, заканчивающееся словами: «Да здравствует анархия! Да здравствует коллективизм!», содержится жалоба на то, что конгресс созывается в соседстве с четырьмя германскими странами. Лондонский Генеральный Совет обвиняется в пангерманистских тенденциях, а одного из его французских членов, по фамилии Вайян, попрекают немецким образованием, поскольку он учился в Вене и Тюбингене.
Следует добавить еще одно: в романских странах вызвали неудовольствие заявления немецких социалистов, что в области теории они опередили французов примерно на 50 лет 584 и что Германия призвана определять законы, по которым будут осуществляться социальные реформы. В связи с этим мне приходит на ум одно место из фрагментов философа Фихте, кото рого профессор Иоганн Хубер из Мюнхена называет первым немецким социалистом:
«от Германии будет исходить истинное царство законов, основанных на равенстве всех тех, кто является носителем человеческой личности».
II
Гаага, 8 сентября
При обсуждении вопроса о позиции Интернационала в отношении политики, о котором я уже упомянул вчера, ясно выявились точки зрения отдельных групп. Большинство участников Парижской Коммуны, находящихся сейчас в Лондоне, при надлежит к бланкистам, которые во многих вопросах выступают с немцами, но отнюдь не полностью согласны с ними. Сами бланкисты благодаря горькому опыту последних лет стали, правда, как-то трезвее, но они, к сожалению, все еще страдают известным национальным высокомерием и влечением к действию, которое они пытаются удовлетворить, поступая опрометчиво и прямо-таки нелепо 586. Они мотивировали свой вотум за включение решений Лондонской конференции в Устав в таких выражениях, которые побудили приехавших из Парижа делегатов сделать следующее заявление:
«При всем глубочайшем уважении, какое мы питаем к Бланки, мы вынуждены настоящим заявить, что нынешний парижский рабочий класс уже не разделяет воззрений бланкистов. Мы хотим завоевать политическую власть, в первую очередь добиваясь перехода рабочего сословия на такой уровень духов-
16 м . и э ., т . 44
460
К. МАРКС
ного развития, который сделает возможным достижение нашей цели — уничтожение всякого классового господства. Мы хотим внушить уважение всему миру не заговорами, а неустанной открытой работой для дела нашего освобождения» 58в.
В подобном же духе высказывались и немцы.
Обращаясь к анархисту Гильому, Г е п н е р воскликнул: «Времена вашей баррикадной логики миновали. Политическое воздержание приводит в полицейский участок».
Другой немецкий делегат687 выразил свои мысли в следующих словах: «Нас, немцев, называют авторитарными социалистами. Да, я признаю, что в известном отношении мы являемся таковыми. Мы считаем необходимым, чтобы авторитет характера и ума пользовался признанием и в том обществе, за которое мы боремся. Но более важно и обязательно уважение к такого рода авторитету в борьбе, которую мы ведем. Существование Интернационала как объединения, созданного для определенной цели, не оправдано, если он не имеет органа для наблюдения за тем, чтобы отдельные группы не компрометировали Товарищество в целом и не наносили вреда его интересам». (Обращаясь к абстен- ционистам): «Вы хотите бороться против централистского цезаризма, впадая в другую крайность, в федерализм, который принадлежит к отошедшему в прошлое периоду истории. Вы хотите опрокинуть прочно организованный аппарат реак ции и декретируете для этого анархию в собственных рядах!» (Бурные аплодисменты.) «Федералисты, лишенные всякого понимания хода истории, во время первой французской революции служили делу реакции; они только что потерпели полное банкротство в Германии, их поражение в Австрии — неизбежно. Федерализм в горах Юры, в Бельгии, Голландии и в некоторых испанских провинциях открыл доступ в наши ряды провокаторам и толкнул отдельные группы на путь союза с реакцией... Ссылаются на Прудона, который в 1863 г. рекомендовал политическое воздержание по отношению к империя. К чему привел этот абстенционизм? К образованию правительства бездарностей и предателей. Я ни в коем случае не осуждаю участников Парижской Коммуны; революция 18 марта возникла в силу необходимости, к тому же она была спровоцирована. Франция обязана ей сохранением республики. Но одним из ее главных пороков был ее федералистский характер. Громя Коммуну, Тьер смог ссылаться на сохранение государственного единства, подобно тому как поступили французские государственные деятели при резне гугенотов... Если вы не хотите участвовать в нашей политической работе, призван-
КОНГРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛА
461
ной всесторонне прояснять и приводить в движение умы, если вы хотите обособиться как секта, мировая история, игнорируя вас, перейдет к своим очередным делам».
Как и следовало ожидать, резолюция о позиции Интернационала в отношении политики прошла при всеобщей поддержке, против голосов сторонников Бакунина *.
В ходе вчерашнего закрытого заседания было еще решено поручить Генеральному Совету создать международные профессиональные союзы, созвать следующий конгресс в Швейцарии и взимать ежегодный взнос в прежнем размере.
Финансовая комиссия доложила о финансовой отчетности, которая признана правильной; в присутствии всех делегатов была оглашена сумма расходов и поступлений и выяснилось, что некоторые члены Генерального Совета, принадлежащие к имущим классам, несли значительную часть расходов **.
В 7 часов началось третье открытое заседание, так как по просьбе представителей прессы отказались от принятого позавчера решения не созывать открытых заседаний.
Большая толпа снова устремилась в отгороженную для гостей часть зала, прилегающие улицы были также заполнены людьми, но на этот раз порядок был образцовый.
Речи голландских делегатов ван ден Абеле, ван дер Хоута, Эрманаи брюссельского делегата Б рис-м е касались принципов Интернационала и были встречены с большим одобрением. Несколько пронзительных свистков на галерее не повторились, так как публика сама привела нарушителей спокойствия к порядку. После оглашения решений закрытых заседаний, а также полученных писем и телеграмм публичное заседание снова было закрыто
Последнее закрытое заседание покончило с делом о Международном альянсе. Конгресс принял решение об исключении Альянса и в первую очередь г-д Бакунина и Гильома.
В час ночи конгресс был объявлен закрытым. Сегодня состоится еще народное собрание в Амстердаме, центре голландского рабочего движения.
Напечатано в вечерних выпусках газеты Печатается по тексту газеты
«Neue Freie Presse»
M
2878 и 2890,
29 августа и 10 сентября 1872 г.
Перевод с немецкого
* См. настоящий том, стр. 471. Ред. * • К. Маркс а Ф. Энгельс, Резолюции Общего конгресса, состоявшегося в Гааге 2—7 сентября 1872 г. Ред.
16*
462 ]
К. МАРКС
* ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ЗА ИЮНЬ 1870 — АПРЕЛЬ 1872 ГОДА 5в2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Заседание Совета 28 июня 1870 г.
Маркс предлагает Брюссель в качестве местопребывания следующего состава Генерального Совета и т. д. Разослать резолюцию всем секциям.
Принимается.
Хейлз уведомляет о своем намерении внести предложение о пересмотре вопроса.
5 июля. Продолжение обсуждения. Обсуждение отложено.
12 июля. Маркс: «Обратиться к секциям с просьбой обсудить вопрос о целесообразности перенесения местопребывания Совета из Лондона. В случае если бы они высказались за перенесение, предлагалось избрать Брюссель» (от вет следует доставить одновременно с мандатами делегатов) (инструкция делегатам). Только три голоса за предложение Хейлза.
Программа Майнцского конгресса.
Заседание 2 августа.
Серрайе оглашает письмо из Бельгии, в котором предлагают провести конгресс в Амстердаме. Это будет близко для всех стран, кроме Италии и Испании. Бельгийцы хотят, чтобы Совет оставался в Лондоне, и отклоняют предложение о его переводе в Брюссель.
Прения о конгрессе.
Маркс против предложения брюссельцев об Амстердаме. Следует обратиться ко всем секциям с вопросом: согласны ли
ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ГЕН. СОВЕТА ЗА ИЮНЬ 1870 — АПРЕЛЬ 1872 Г. 463
они на отсрочку. Вместо конгресса, быть может, следовало бы провести конференцию, как в 1865 году.
Юнг против конгресса. Швейцария призвала в армию (60 тысяч человек).
Хейлз (при поддержке Эккариуса) предлагает обратиться к секциям, чтобы они высказались: стоят ли они за отсрочку конгресса и если да, то пусть уполномочат Совет решить вопрос о сроке. (Принимается.)
Маркс: если секции согласятся, здесь можно будет созвать конференцию; но он за то, чтобы провести опрос.
9 августа. Испанцы предлагают Барселону в качестве места созыва конгресса.
16 августа. Юнг сообщает о письме от немецкого комитета в Швейцарии, в котором выражается согласие на отсрочку конгресса, и Совету предоставляется назначить время и место; письмо такого же содержания от Социал-демократической партии Германии. В обоих письмах высказываются против перевода Совета из Лондона.
23 августа. Серрайе зачитывает письмо от Бельгийского совета, в котором выражается согласие на отсрочку конгресса. То же от Романского комитета в Женеве, Совет пусть остается в Лондоне.
Принимается решение об отсрочке конгресса.
Заседание 22 ноября (документы из архива бонапартистского правительства).
«Накануне плебисцита Оливье написал во все города Франции, что руководителей Интернационала следует арестовать, иначе голосование не удастся провести так, как нужно».
Заседание 29 ноября. Маркс сообщает, что наши браунш- вейгские друзья перевезены обратно из Лётцена в кандалах и будут судиться по обвинению в государственной измене. Чтобы запугать буржуазию, полицейские листки опубликовали длинные статьи, в которых сообщалось, что эти люди являются союзпиками Международного Товарищества, [стремящегося] ниспровергнуть все, установить всемирную республику.
1871 [-18721
14 марта. Робен вносит предложение созвать конференцию делегатов. (Отклоняется.)
25 июля. Энгельс предлагает созыв конференции, поддержан Робеном.
464
К. МАРКС
В этом месяце архиепископ Малинский основывает международную ассоциацию рабочих-католиков с целью противо действовать Международному Товариществу Рабочих.
20 февраля. Заявление об Утине *.
12 марта. Резолюции о Соединенных Штатах **.
16 апреля. Кокрен. Фосетт ***.
Составлено после 27 августа 1872 г.
Впервые опубликовано на русском
языке в книге «Гаагский конгресс
Первого Интернационала.
2—7 сентября 1872 г.
Протоколы и документы». М., 1970
Печатается по рукописи Перевод с английского
• К. Маркс и Ф. Энгельс. Заявление Генерального Совета о полицейском произволе швейцарских властей. Ред.
•* К. Маркс. Резолюции о расколе в федерации Соединенных Штатов, принятые на заседании Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих 5 и 12 марта 1872 года. Ред.
**• К. Маркс. Заявление Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих в связи с выступлением Кокреыа в палате общин. Ред.
[465
К. МАРКС
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЛЕНОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
Член Генерального Совета не имеет права бросать обвинения другому члену Совета на конгрессе Интернационала до того, как приступят к обсуждению кандидатур в новый Генеральный Совет.
Внесено К. Марксом на засевании Печатается по рукописи
Подкомитета 28 аегуста 1872 г. Перевоа с французского
Впервые опубликовано на сусеком
языке в книге «Генеральный Совет
Первого Интернационала, 1871 —1872».
М,, 1966
466 ]
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
* ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕНЕСЕНИИ МЕСТОПРЕБЫВАНИЯ И О СОСТАВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
НА 1872—1873 ГОДЫ 688
Мы предлагаем, чтобы на 1872—1873 гг. местопребывание Генерального Совета было перенесено в Нью-Йорк и чтобы Совет состоял из следующих членов Североамериканского федерального совета: Каванах, Сен-Клер, Сетти, Левъелъ, Лорелъ, Ф. Дж. Бертран, Ф. Вольте, К. Карл. Они будут иметь право кооптации, но общее число членов Генерального Совета ни в коем случае не должно превышать 15.
Карл Маркс, Ф. Энгельс, Валерий Врублевский, Дж. Секстон, Ш. Лонге, О. Серрайе, Мак-Доннел, Эжен Дюпон, Ф. Лесснер, Ле Муссю, М. Мальтман Барри *
Гаага, 6 сентября 1872 г.
Написано К. Марксом и Ф. Энгельсом в сентября 187В г.
Опубликовано в виде факсимиле в книге
Н . Schlüter, «Die Internationale
in America», Chicago, 1918
Печатается по рукописи, написанной К. Марксом
Перевод с французского
• Все подписи собственноручные. Ред.
[ 467
Ф. ЭНГЕЛЬС
О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 589
В работе конгресса приняли участие 64 делегата, из них: Францию представляли 16, Германию — 10, Бельгию — 7, Англию — 5, Северную Америку — 5, Голландию — 4, Испанию — 4, Романскую федерацию Швейцарии — 3, Юрскую федерацию Швейцарии — 2, Ирландию — 1, Португалию — 1, Польшу — 1, Австрию — 1, Венгрию — 1, Австралию — 1 и Данию — 2 делегата. У нескольких делегатов были мандаты от двух или трех стран, так что приведенные выше данные не совсем точны. По национальному составу было 20 францу зов, 16 немцев, 8 бельгийцев, 6 англичан, 3 голландца, 3 испанца, 2 швейцарца, 2 венгра, 1 поляк, 1 ирландец, 1 датчанин, 1 корсиканец. Ни на одном из предыдущих конгрессов не было представлено такое множество разных наций.
Проверка мандатов заняла почти три дня. Это произошло потому, что оспаривалась принадлежность к Интернационалу ряда секций. Так, например, обстояло с секцией № 2 (французской) в Нью-Йорке, которая, приняв участие в последнем съезде Американской федерации, выступила затем против его решений и потому была исключена из федерации Американским федеральным советом. Поскольку она не была после этого признана Генеральным Советом в качестве независимой секции, а ее исключение не пересмотрено конгрессом, ее делегат не мог быть допущен, а мандат не мог быть утвержден (Организационный регламент, II , статьи 5 и 6; IV , статья 4).
Иначе обстояло дело с полномочиями Новой мадридской федерации. Она состоит из ряда рабочих, которые были исключены старой Мадридской федерацией под всевозможными
468
Ф. ЭНГЕЛЬС
фальшивыми предлогами и при очевидном нарушении местных уставов. Истинной причиной исключения было то, что они обвинили Альянс социалистической демократии, тайное общество, организованное внутри Интернационала в Испании, в измене Интернационалу. Они затем организовались как Новая мадридская федерация и обратились за.признанием к Испан скому федеральному совету. Последний, принадлежащий в большинстве своем, если не целиком, к Альянсу, ответил отказом. После того как Генеральный Совет, к которому они обратились, признал их в качестве независимой федерации *, они направили своего делегата, полномочия последнего были опротестованы делегатами Испанской федерации. В этом конкретном случае Генеральный Совет не принял во внимание предписание Организационного регламента ( II, 5), согласно которому он должен был перед допуском Новой мадридской федерации посоветоваться с Испанским советом; он сделал это, учитывая, что, с одной стороны, промедление было опасно и, с другой — Испанский федеральный совет, открыто встав на сторону Альянса, поднял мятеж против Интернационала.
Конгресс одобрил способ действий Генерального Совета по давляющим большинством, никто не голосовал против; таким образом, Новая мадридская федерация была признана.
Аналогичный вопрос встал в отношении мандата женевской Секции революционной пропаганды, которую Генераль ный Совет по предложению женевского комитета Романской федерации не признал. Мандат и тем самым вся секция оставались временно до конца конгресса непризнанными и так как из-за недостатка времени данный случай не был рассмотрен, секция все еще не признана.
Право Генерального Совета быть представленным, как и на предыдущих конгрессах, шестью делегатами было признано после незначительных возражений.
Четыре делегата Испанской федерации, не внесшие денеж ных взносов за истекший отчетный год, были допущены только после уплаты взносов.
Наконец, делегат американской секции № 12 **, той самой, которая устроила весь скандал в Нью-Йорке (как сообщалось ранее в «Volksstaat» ***), после своего продолжительного выступ ления в защиту секции № 12 получил единодушный отказ, и в соответствии с этим секция № 12 в конечном счете остается вне Интернационала
• Ф. Энгельс. Генеральный Совет — Новой мадридской федерации. Ред, • • _ уэст. Ред. ••* Ф. Энгельс. Интернационал в Америке. Ред.
О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
469
Так в форме проверки мандатов были рассмотрены и решены почти все практические вопросы, занимавшие Интернационал в течение года. Большинством от 38 до 45 голосов против мень шинства в 12—20 делегатов, чаще всего вообще воздерживавшихся от голосования, конгресс одобрил каждый отдельный шаг Генерального Совета, выражая ему раз за разом вотум доверия.
Прибыл и итальянский делегат, г-н Кафьеро, председатель конференция в Римини, на которой 4 августа 21 секция (из которых 20 не выполнили предусмотренных Уставом условий допуска, то есть вовсе не принадлежат к Интернационалу) приняла решение порвать всякую связь с Генеральным Советом и провести конгресс всех секций, солидарных с этим решением, 2 сентября не в Гааге, а в Невшателе, в Швейцарии.
Они, по-видимому, одумались, и г-н Кафьеро прибыл в Гаагу, но оказался настолько благоразумным, что оставил свой мандат в кармане и присутствовал на конгрессе лишь в качестве простого зрителя, на основании своего членского билета.
Сразу же при первом голосовании — по выборам комиссии для проверки мандатов — собрание раскололось на боль шинство и меньшинство, оставшиеся до конца, за немногими исключениями, сплоченными группировками. Франция, Германия, Америка, Польша, Дания, Ирландия, Австрия, Венгрия, Португалия, Романская федерация Швейцарии и Австралия составили большинство. Бельгия, Испанская и Юрская федерации, Голландия, один французский и один американский делегаты образовали меньшинство, которое по большей части вопросов целиком или частично воздерживалось от голосования. Английские делегаты голосовали порознь и по-разному. Ядром большинства явились немцы и французы, держа лись они вместе с таким единодушием, как будто и не было вовсе всех крупных военных, правительственных и государственных акций 1870 года. Единогласие немецких и французских рабочих было скреплено во вторую годовщину капитуляции при Седане — урок для Бисмарка не менее, чем для Тьера!
Покончив с полномочиями, перешли к первому неотложному вопросу: положение Генерального Совета. Что о его ликвидации не могло быть и речи, доказали уже первые прения на открытом заседании в среду вечером. Перед лицом компактного большинства, которое явно было полно решимости не дать Интернационалу превратиться в игрушку, звонкие фразы о свободной федерации, автономии секций и т. п. не произвели никакого действия. Делегаты тех стран, где Интернационалу приходится вести настоящую борьбу с государственной властью, те, следовательно, которые воспринимают
470
Ф. ЭНГЕЛЬС
Интернационал наиболее серьезно (немцы, французы, австрийцы, венгры, поляки, португальцы, ирландцы), считали, что Генеральный Совет должен иметь онределенную власть и его не следует низводить до уровня простого «почтового ящика», «бюро для корреспонденции и статистики», как того требовало мень шинство. Вследствие этого к ст. 2, разд. II Организационного регламента, которая гласит:
«Генеральный Совет обязан приводить в исполнение постановления конгрессов», принято при 40 голосах за, 5 — против и 4 — воздержавшихся следующее добавление:
«и следить за строгим соблюдением принципов Общего Устава и Организационного регламента Интернационала».
А ст. 6 этого же раздела:
«Генеральный Совет имеет также право временно исключать из Интернационала любую секцию на время до очередного кон гресса» гласит впредь:
«Генеральный Совет имеет право временно исключать секции, федеральные советы или федеральные комитеты и федерации целиком.
Однако по отношению к секциям, входящим в ту или иную федерацию, Генеральный Совет будет советоваться с соответ ствующим федеральным советом.
В случае роспуска федерального совета Генеральный Совет должен предложить избрать не позднее чем в 30-дневный срок новый федеральный совет.
В случае временного исключения целой федерации Генераль ный Совет должен немедленно поставить в известность об этом все федерации, и если большинство их того потребует, должен не позднее чем через месяц созвать чрезвычайную конферен цию (по одному делегату от каждой национальности), которая вынесет окончательное решение по спорным вопросам» (36 — за, И — против, 9 — воздержались).
Настоящим решением внесена достаточная ясность в положение Генерального Совета, которое на основании прежнего Устава и решений конгрессов могло вызывать сомнения. Гене ральный Совет является исполнительным комитетом Товарищества и в качестве такового имеет определенные полномочия по отношению к секциям и федерациям. В действительности эти полномочия не расширяются вышеуказанными решениями; они только яснее выражены и оговорены такими гарантиями, которые никогда не позволят Генеральному Совету утратить сознание своей ответственности. После данного решения меньше, чем когда-либо, сможет идти речь о диктатуре Генерального Совета.
О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
471
Внесение этих двух статей в Организационный регламент отвечало самой настоятельной потребности. Ввиду ограниченного времени от детального пересмотра Устава отказались. Однако в отношении его имелся еще один важный пункт. Серьезные разногласия возникли по программному вопросу о политической деятельности рабочего класса. Бакунистская секта в Юрской федерации Швейцарии, в Испании и Италии пропагандировала в качестве тезиса Интернационала абсолютное воздержание от всякой политической деятельности, в особенности от выборов. Это ложное толкование уже было устранено резолюцией IX Лондонской конференции в сентябре 1871 года; однако бакунисты в ответ отвергли и это решение как превышение конференцией своих полномочий. Конгресс вновь внес ясность в этот вопрос, включив в Устав большинством свыше 2/з голосов решение Лондонской * конференции в следующем изложении:
«В своей борьбе против объединенной власти имущих классов рабочий класс может действовать как класс, только организовавшись в особую политическую партию, противостоящую всем старым партиям, созданным имущими классами.
Эта организация рабочего класса в политическую партию необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и достижение ее конечной цели — уничтожение классов.
Объединение сил рабочего класса, уже достигнутое им благодаря экономической борьбе, должно также служить рычагом в его борьбе против политической власти его эксплуататоров.
Так как магнаты земли и капитала всегда пользуются своими политическими привилегиями для защиты и увековечения своих экономических монополий и для порабощения труда, завоевание политической власти стало великой обязанностью пролетариата».
Данное решение было принято 28 голосами против 13 (включая и воздержавшихся). Но, кроме того, 4 француза и 6 немцев, которым пришлось уехать раньше, отдали свои голоса за новую статью Устава в письменной форме, так что фактическое большинство было в 38 голосов.
Благодаря данному решению абстенционисты впредь не смогут распространять заблуждение, будто воздержание от каких-либо выборов и от всякой политической деятельности является принципом Интернационала. Если эта секта, которая с самого
* В газете; «английский», Ред.
472
Ф. ЭНГЕЛЬС
начала вызвала все раздоры в Интернационале, еще и теперь сочтет пребывание в Интернационале совместимым со своими принципами, то это ее дело; удерживать ее там наверняка никто не станет.
Следующим вопросом были выборы нового Генерального Совета Большинство прежнего Генерального Совета — Маркс, Энгельс, Серрайе, Дюпон, Врублевский, Мак-Доннел и другие — предложили перенести Генеральный Совет в Нью-Йорк и избрать в него восемь членов Американского федерального совета, к которым Американская федерация должна добавить еще семь человек. В основе этого предложения лежал тот факт, что наиболее активные члены прежнего Генерального Совета, вынужденные в последнее время посвящать все свое время Интернационалу, больше не могли этого делать Маркс и Энгельс уже много месяцев тому назад сообщили своим друзьям, что продолжение их научных работ возможно для них только при условии выхода из Генерального Совета.
Подобные мотивы были и у других. Генеральный Совет, если бы он оставался в Лондоне, лишился бы как раз тех членов, которые до сих пор вели всю фактическую работу, занимаясь как корреспонденцией, так и публицистической деятельностью Между тем в Лондоне имеются два элемента, стремящиеся взять верх в Генеральном Совете, а при таких обстоятельствах это им, вероятно, удалось бы.
Одним из этих двух элементов являются французские бланкисты (которых, правда, никогда не признавал сам Бланки), немногочисленная группа, у которой вместо осознания подлинного хода движения господствует революционная фраза, а вместо пропагандистской деятельности — мелкая возня с мнимыми заговорами, ведущая только к бесполезным арестам. Отдать этим людям руководство Интернационалом во Франции означало бы бессмысленно бросить наших людей там в тюрьмы и снова внести дезорганизацию в те 30 департаментов, где процветает Интернационал. На самом конгрессе представилось достаточно случаев убедиться, что члены Интернационала во Франции согласились бы на что угодно, только не на верховенство этих господ.
Вторым опасным элементом в Лондоне являются те английские рабочие лидеры, которым Маркс на конгрессе бросил в лицо слова: позорно принадлежать к числу английских рабочих лидеров, так как они почти все продались сэру Чарлзу Дилку, Самюэлю Морли или самому Гладстону *. Эти люди,
• К, Маркс, Запись выступления К. Маркса о мандате Барри. Ред,
О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
473
которым сплоченное франко-немецкое большинство Генераль ного Совета не давало до сих пор развернуться и действовать, стали бы теперь играть совершенно иную роль, и деятельность Интернационала в Англии оказалась бы не только под кон тролем буржуазных радикалов, она, вероятно, подпала бы даже под контроль правительства.
Таким образом, перенесение было необходимо и, коль скоро с этим согласились, Нью-Йорк оказался единственным местом, сочетавшим два необходимых условия: безопасность для архивов Товарищества и интернациональный состав самого Генерального Совета. Потребовались некоторые усилия, чтобы добиться этого решения; на этот раз бельгийцы отделились от меньшинства и голосовали за Лондон, особенно настаивали на Лондоне немцы. Между тем после неоднократных голосований было принято решение о переводе Генерального Совета в Нью-Йорк и избраны следующие 12 членов Генерального Совета с правом пополнить свой состав до 15 человек: Каванах и Сен-Клер (ирландцы), Лорель (швед), Форначчиери (итальянец), Давид, Левьель, Дерёр (французы), Вольте, Бертран, Карл Шпейер (немцы), Уорд (американец).
Далее было решено созвать следующий конгресс в Швейцарии, предоставив Генеральному Совету выбор города.
После выборов нового Генерального Совета Лафарг от имени двух представляемых им федераций, Португальской и Новой мадридской, внес следующее предложение, которое было единодушно принято:
«Новому Генеральному Совету дано специальное поручение создать международные профессиональные союзы.
С этой целью в течение одного месяца после конгресса ему надлежит составить обращение, которое должно быть переведено и напечатано на всех языках, разослано всем рабочим обществам, примкнувшим или не примкнувшим к Интернационалу, адреса которых ему известны.
В этом обращении Совет должен призвать все рабочие обще ства образовать международный союз соответствующей профес сии.
Каждому рабочему обществу будет предложено самому определить условия, на каких оно может войти в международный союз соответствующей профессии.
Генеральному Совету поручается собрать все условия, выдвинутые обществами, которые присоединятся к данному предложению, и выработать общий проект устава, который будет предложен предварительному одобрению вступающих обществ.
474
Ф. ЭНГЕЛЬС
Ближайший конгресс утвердит окончательный устав международных союзов».
. Тем самым перед новым Генеральным Советом с самого начала ставится важная задача практической организации; одного решения этой задачи уже будет, по-видимому, достаточно, чтобы придать небывалый размах якобы умершему Интернационалу.
Дошла очередь и до вопроса об Альянсе. Комиссия, которая должна была подготовить данный пункт для конгресса, после длительной работы закончила, наконец, в субботу, в 9 часов вечера свой доклад. В докладе устав и цели Альянса объявлялись противоречащими Уставу и целям Интернационала и выдвигалось требование исключить его основателя, Бакунина, обоих руководителей Юрской федерации, Гильома и Швиц-гебеля, как главных агентов Альянса, далее Б. Малона и еще двух других. Большинству комиссии представили доказательство того, что Альянс являлся тайным обществом, основан ным не для заговора против правительств, а для заговора против Интернационала. На Базельском конгрессе бакунисты еще надеялись захватить в свои руки руководство Интернациона лом. Поэтому они сами и внесли тогда знаменитые базельские решения, расширявшие полномочия Генерального Совета. Разочаровавшись и лишившись еще раз надежды на исполнение своих желаний в результате Лондонской конференции, до созыва которой они довольно сильно укрепились в Испании и Италии, они изменили свою тактику. Юрская федерация, находившаяся всецело в руках Альянса, выпустила свой Сонвильер-ский циркуляр, где содержались нападки на когда-то предложенные их собственными делегатами базельские решения как на источник всего зла, внушенные злым духом, духом «авторитарности», и выдвигалась в качестве единственной цели Интернационала полная автономия, свободный союз независи мых группировок. Еще бы. Ведь если тайное общество, созданное, чтобы захватить руководство более крупным легальным обществом, не может открыто овладеть верховной властью, то оно успешнее всего достигнет своей цели, дезорганизовав легальное общество. Там, где не существует центрального руководства и национальных центральных органов или же где эти органы лишены каких-либо полномочий, интриганы-заговорщики, действуя сообща, легко обеспечат себе косвенным путем руководство в целом. В соответствии с этим планом альянсисты Юры, Испании и Италии действовали весьма согласованно, а на Гаагском конгрессе дезорганизации предстояло зайти так далеко, что предполагалось ликвидировать не только
О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
475
Генеральный Совет, но и все центральные органы, все решения конгрессов и даже Общий Устав, за исключением введения. Итальянцы уже ввели это в устав своей организации; делегаты Юры получили императивный мандат внести конгрессу пред ложение об этом, а в случае отклонения покинуть его. Однако они просчитались. Комиссии были представлены подлинные документы, доказывавшие связь всех этих интриг в Испании, Италии и Швейцарии; документы ясно показывали, что тайная связь заключалась в самом Альянсе, лозунг которого был выдвинут Бакуниным и к которому принадлежали Гильом и Швицгебель. В Испании, где Альянс давно являлся секретом полишинеля, он, как уверяли входившие в него делегаты, был распущен, и вследствие этих повторных уверений они не подверглись никаким санкциям.
Прения по этому вопросу были бурными. Со стороны альянсистов было сделано все, чтобы затянуть дело, так как в 12 часов ночи кончался договор на помещение и конгресс должен был закрыться. Поведение альянсистов устранило всякие сомнения относительно существования и конечной цели их заговора. Наконец, большинству удалось заставить выступить обоих присутствовавших главных обвиняемых, Гильома и Швицгебеля; сразу же после их защитительных речей состоялось голосование. Бакунин и Гильом были исключены ив Интернационала, Швицгебель избежал этой участи небольшим перевесом голосов благодаря своему личному обаянию; затем было решено остальных амнистировать.
Эти исключения являются открытым объявлением войны Интернационалом Альянсу и всей секте г-на Бакунина. Как и любое другое течение пролетарского социализма, секта Бакунина была допущена в Интернационал на общем для всех условии — соблюдать согласие и придерживаться Устава и ре шений конгрессов. Вместо этого данная секта, руководимая буржуа-доктринерами, наделенными больше тщеславием, чем способностями, пыталась навязать всему Товариществу свою узкую сектантскую программу, нарушала Устав и решения конгрессов и затем объявила их авторитарным вздором, необязательным для истинного революционера. Почти непостижимое терпение, с которым Генеральный Совет годами выносил интриги и клевету этой небольшой шайки склочников, принесло ему лишь упрек в диктаторских действиях. Теперь, наконец, высказался конгресс, причем достаточно ясно. Таким же ясным будет язык документов, касающихся Альянса и происков г-на Бакунина вообще, которые комиссия опубликует по решению
476
Ф. ЭНГЕЛЬС
конгресса *. Тогда увидят, ради каких низких целей собирались злоупотребить Интернационалом.
Сразу же после голосования этого вопроса было зачитано эаявление меньшинства, подписанное всеми юрскими, бель гийскими, голландскими и четырьмя испанскими делегатами, а также одним французским и одним американским делегатом, в котором говорилось, что после отклонения всех их предложений они, хотя и желают сохранить связь с Генеральным Советом для корреспонденции и статистики, а также уплаты взносов, не потерпят какого-либо вмешательства Генерального Совета во внутреннюю жизнь федераций. В случае такого вмешательства со стороны Генерального Совета все подписавшиеся федерации заявят о своей солидарности с затронутой федерацией, разве только это вмешательство будет оправдано открытым нарушением принятого на Женевском конгрессе Устава.
Подписавшие это заявление, следовательно, признают себя связанными только женевским Уставом 1866 г., но не после довавшими изменениями и решениями дальнейших конгрес сов. Они забывают только, что в самом женевском Уставе признается обязательная сила всех решений конгрессов и что тем самым рушится всецело их оговорка. Впрочем, этот документ не имеет никакого значения и был воспринят и конгрессом с заслуженным равнодушием. Подписавшие превысили свои полномочия, пытаясь
1) обязать свои федерации учредить сепаратный союз бв0 внутри Интернационала и
2) обязать их признавать исключительно законную силу женевского Устава, а все дальнейшие решения конгрессов аннулировать.
Итак, весь документ, очевидно, лишь навязанный одураченному меньшинству крикунами из Альянса, не имеет ника кой силы. Даже если какая-либо секция или федерация попытается оспаривать законность закрепленных в нашем Уставе и Организационном регламенте решений конгрессов Интернационала, новый Генеральный Совет наверняка сумеет выпол нить свой долг таким же образом, как это сделал прежний Совет по отношению к американской секции № 12. До сих пор удавалось справляться с сепаратными союзами.
Заметим еще, что во второй половине того же дня (субботы) была подвергнута проверке, признана правильной и одо-
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих. Доклад и документы, опубликованные по постановлению Гаагского.конгресса Интернационала. Ред.
О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ ИНТЕГНАЦИОНАЛА
477
брена финансовая отчетность Генерального Совета за истекший год.
После того как было еще прочтено обращение Гаагской секции к конгрессу, последний закончил свою работу в поло вине первого ночи под возгласы: «Да здравствует Международное Товарищество Рабочих!»
Напечатано в газете «Der Volksstaat» Печатается по тексту газеты
M 78 и 81, 28 сентября „ .
и 9 октября 187 S г. Перевод с немецкого
478 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
* ЗАМЕТКИ О МЕЖДУНАРОДНОМ РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ В ГАЗЕТЕ « INTERNATIONAL HERALD » 5 B1
I
Испания
Стачка машинистов и кочегаров Северной железной дороги все еще продолжается. Буржуазные газеты сообщают, что машинисты и кочегары, бастующие на Валенсийской дороге, прекратили борьбу, но это сообщение делается уже чуть ли не в третий раз, и мы ему не поверим, пока его не подтвердят испанские печатные органы Интернационала.
Требование сокращения рабочего дня до 10 часов, которое было выдвинуто входящими в Интернационал фабричными рабочими Барселоны и окрестностей, по-видимому, удовлетворено, так как фабрики работают, а респектабельная пресса хранит многозначительное молчание. До сих пор рабочий день продолжался 12 и 13 часов. Следует отметить, что успех достигнут главным образом благодаря усилиям рабочих Гарсии, фабричного пригорода Барселоны, которые уже в ноябре истекшего года единодушно высказались в поддержку резолюций Гаагского конгресса.
В Мадриде наборщики текста для иллюстрированных изданий, не прибегая к стачке, заставили своих хозяев согласиться на новые условия, предложенные рабочими.
Германия
Немецкие типографские рабочие ведут борьбу, которая принимает все более ожесточенный характер. У них есть профессиональный союз, в который вошли 4 из 7 тысяч рабочих этой специальности, насчитываемых во всей Германии. С другой стороны, владельцы типографий тоже объединены в ассоциа цию, устав которой обязывает ее членов в случае серьезной забастовки и по соответствующему решению комитета немедлен-
ЗАМЕТКИ О МЕЖД. РАБ. ДВИЖЕНИИ В « INTERNATIONAL HERALD » 479
но уволить всех тех рабочих, которые состоят в профессиональном союзе. И вот недавно лейпцигские рабочие-типографы объявили забастовку, потребовав повышения заработной платы, а комитет хозяев, видя, что в Лейпциге последние теряют свои позиции, призвал членов ассоциации во всей Германии объявить у себя об увольнении членов союза. Так и сделали в Лейпциге, Берлине, Бреславле, Франкфурте, Мюнхене и в большинстве других городов Германии. В результате, если в ближайшие дни не состоится соглашение, основная масса типографских рабочих будет на следующей неделе уволена, и вся немецкая печать и книготорговля окажутся совершенно дезорганизованными. А в то время, как типографии частных предпринимателей полностью парализованы, кооперативное книгопечатное заведение в Лейпциге процветает и завалено заказами настолько, что не поспевает их выполнять.
Дрезден. — Основано кооперативное столярное и плотницкое производство.
Швейцария
Стачка женевских ювелиров за 9-часовой рабочий день продолжается, большинство предпринимателей пошли на уступки и возобновили работу мастерских по 9 часов в день. Если не прекратится поддержка, оказываемая стачечникам, в конечной победе рабочих можно не сомневаться.
В Женеве это вторая большая стачка, которая добивается успеха благодаря посредничеству Интернационала.
II
Испания
Стачка машинистов и кочегаров на железной дороге из Валенсии в Таррагону и Альмансу завершилась полной победой рабочих, которые добились удовлетворения всех своих требований. С другой стороны, стачка на Северной железной дороге в Испании была сломлена, по-видимому, из-за недостаточной организованности.
В Барселоне портовые грузчики угля добились в результате короткой и успешной стачки средней прибавки в 10 пенсов в день; вместо 3 шиллингов 9 пенсов они сейчас получают за 8-часовой рабочий день 4 шиллинга 7 пенсов.
Швейцария
В ближайшее время в Ольтене соберется съезд швейцарских рабочих; точная дата еще не установлена. Готовится съезд швейцарских обувщиков.
480
Ф. ЭНГЕЛЬС
Германия
Стачка рабочих-типографов, о которой упоминалось в нашем последнем сообщении, по-видимому, принимает очень благо приятный для рабочих оборот. Хозяева выложили свой главный козырь, призвав членов ассоциации во всей Германии уволить тех своих рабочих, которые состоят в профессиональном союзе. Но этот призыв, хотя он и находился в полном согласии с уставом ассоциации предпринимателей, по-видимому, не всюду был встречен благожелательно. Так, в Гамбурге владельцы типографий нашли его необоснованным и предпочли выйти из рядов ассоциации, чем подчиниться. Это заставило комитет предпринимателей смириться, и он обратился к рабочему комитету, с которым раньше не хотел иметь никакого дела, с предложением о возобновлении переговоров для мирного решения спора.
В Дрездене находится центральное правление интернационального союза маляров, лакировщиков, позолотчиков и т. д. Эта организация, созданная лишь год назад, не только заставила хозяев покончить с мелочными придирками, касающимися соблюдения воскресного дня, но и основала кооперативную контору, в которой многие члены союза нашли работу.
В Регенсбурге (Бавария) обувщики под руководством членов интернационального союза обувщиков объявили стачку с требованием повышения заработной платы.
В Майнце целый месяц продолжается стачка обувщиков и едва ли она скоро закончится. Большая часть холостых рабочих покинула город.
Берлинские бондари обратились в печати к своим товари щам по профессии в Северной Германии с призывом образовать профессиональный союз; они сообщают, что только что про вели стачку, которая увенчалась победой, и хотели бы расширить рамки организации, столь успешно действовавшей в местных условиях.
В Гамбурге 350 рабочих фортепьянного производства бастуют, добиваясь повышения заработной платы.
В Гёрлице (Силезия) 17 марта забастовали портные, которые добиваются повышения заработной платы. Предложенная хозяевами прибавка в 10% была отвергнута.
Берлинские столяры и краснодеревщики требуют прибавки в 33% и намерены забастовать, если не добьются успеха мирным путем.
8АМЕТКИ О МЕЖД. РАВ. ДВИЖЕНИИ В « INTERNATIONAL HERALD » 481
Соединенные Штаты
В Нью-Йорке начала выходить немецкая рабочая газета *, выступающая под знаменем Интернационала. Она разоблачает позорные приемы, посредством которых американские фабриканты превращают в звонкую монету изнурительный труд и голодное существование своих сограждан-рабочих. Зинге-ровская компания швейных машин может служить первым тому примером. Так, управляющий компанией раздает работу по мастерским в виде подрядов надсмотрщикам, те распределяют ее между подрядчиками, которые, в свою очередь, делят ее между субподрядчиками, пока последний субподрядчик не договорится на своих условиях с рабочими, которым предстоит выполнить эту реальную работу. Невозможно развить дальше эту «пото гонную систему», она предстает здесь перед нами в своем завершенном виде. Не только капиталист, но и целая иерархия прихлебателей здесь непосредственно заинтересованы в выжимании прибыли из труда рабочего и неудивительно, что он, рабочий, редко получает то пропитание, без которого и жизнь, и труд становятся невозможными.
III
Германия
Стачка наборщиков текста для иллюстрированных изданий и типографских рабочих продолжается. Предложения хозяев, оказавшиеся неприемлемыми, отвергнуты рабочими. Вместе с тем хозяева один за другим, в особенности в небольших городах, пошли на уступки, так что перспективы для рабочих очень благоприятные.
В Ганновере забастовка переплетчиков окончилась полной победой рабочих. Выдвинутые ими требования 10-часового рабочего дня и увеличения заработной платы на 25 % целиком удовлетворены.
Переплетчики всей Германии проведут свой съезд в Нюрнберге на пасху.
В Хемнице портные потребовали от своих предпринимателей увеличения заработной платы на 33% и прекращения какой-либо воскресной работы. Встретив отказ, рабочие 30 марта забастовали.
Стачка обувщиков в Майнце продолжается. Другая стачка рабочих той же профессии вспыхнула в Пфорцгейме; в Вюрц-бурге и Эрфурте стачки рабочих той же профессии, по-видимому,
• _ «Arbeiter-Zeitung». Ред,
482
Ф. ЭНГЕЛЬС
неминуемы: выдвинуто требование увеличения заработной платы.
Союз немецких каменщиков сообщает о стачке кирпичников и каменщиков в Фенбурге, борьба ведется за сокращение рабочего дня. Корзинщики в Гамбурге бастуют под тем же лозунгом, равно как и рабочие большой хлопчатобумажной фабрики близ Ганновера.
Австрия
Венские портные потребовали от своих работодателей повышения заработной платы и сокращения рабочего дня; когда им в этом было отказано, рабочие более чем 40 мастерских, в том числе и наиболее крупных, забастовали.
Так же поступили рабочие-портные в Граце.
Бельгия
На общем конгрессе европейских рабочих-портных, только что состоявшемся в Брюсселе, принят временный устав европейского союза рабочих-портных, примкнуть к которому призываются все общества портных демократического и социали стического направления. Каждое такое общество, если у него имеется намерение объявить стачку, должно будет предварительно получить согласие других обществ, если хочет заручиться поддержкой европейского союза. Конгресс союза будет проводиться ежегодно.
Швейцария
Стачка женевских ювелиров сейчас окончательно прекратилась. 9-часовой рабочий день успешно установлен.
В Цюрихе бастуют плотники и столяры, в Винтертуре — портные, все выдвигают ге же обычные требования — сокращение рабочего дня и повышение заработной платы.
В Невшателе обувщики добились повышения оплаты, не прибегая к стачке.
Америка
Служанки в Оттаве (Канада) образовали профессиональный союз.
IV Германия
Берлин. — Садовники-поденщики бастуют, добиваясь 10-часового рабочего дня и повышения оплаты. Рабочие фортепьянного производства в ближайшее время объявят стачку за повышение заработной платы на 33,5% и 8-часовой рабочий день.
ЗАМЕТКП О МЕЖД. РАБ. ДВИЖЕНИИ В « INTERNATIONAL HERALD » 483
Мюнхен. — Рабочее движение здесь очень активно. Почти все профессии имеют свои союзы, создается центральный совет профессиональных союзов. Ювелиры добились повышения заработной платы на 25 %, а портные — не прибегая к стачке — на 15%.
Аугсбург. — Часть плотников из числа занятых в семи крупнейших фирмах города (всего 90 человек) не работает, так как не соглашается на новые расценки, предложенные хозяевами.
Лейпциг. — Крупный конфликт между владельцами типографий и наборщиками, распространившийся отсюда по всей Германии, закончился полной победой рабочих. Высокомерным хозяевам пришлось принять все условия, продиктованные рабочими, а именно: отмену сплошного увольнения членов профессионального союза и выработку новых расценок смешанной комиссией из представителей рабочих и предпринимателей. Добившись принятия этих условий, рабочий комитет объявил об окончании стачки.
Данциг. — Забастовка корабельных плотников потерпела поражение в результате прямого вмешательства в пользу хозяев со стороны властей, которые пригрозили увольнением с морских верфей любого рабочего, склонного поддержать стачку, и другими мерами того же порядка.
Гамбург. — В ближайшее время в Гамбурге, Альтоне и прилегающих местностях может вспыхнуть стачка обувщиков, поскольку предприниматели, по-видимому, не намерены уступать требованиям рабочих.
Из менее значительных стачек отметим стачки корабельных плотников в Киле (Гольштейн), литейщиков в Итцехо (Гольштейн), рабочих пробочного производства (около 900 человек) в Дельменхорсте, столяров и краснодеревщиков в Бре-мерхафене и другие, вызванные главным образом недостаточной заработной платой; По всей Германии очень быстро распространяются профессиональные союзы, местные и общенациональные, и даже интернациональные (охватывающие рабочих одной профессии в Германии, Австрии и Швейцарии), и заработная плата все более приближается к английскому уровню.
Австрия
Вена. — Стачка портных продолжается. Стачка механиков на большом механизированном предприятии, начатая необдуманно, потерпела поражение. С другой стороны, стачка рабочих в производстве напильников одержала победу: все фабри-
484
Ф. ЭНГЕЛЬС
канты согласились на 20% прибавки, которой добивались рабочие.
Грац. — Краснодеревщики и столяры забастовали 21 апреля, выдвинув требование сокращения рабочего дня и 20% прибавки к заработной плате. Обувщики на одном крупном предприятии забастовали и требуют установления 11-часового рабочего дня, который в настоящее время в Вене общепринят.
Венгрия
Пешт. — Венгерский рабочий союз, запрещенный после поражения Парижской Коммуны, вновь организовался на большом собрании, состоявшемся 23 марта. Союз располагает двумя газетами, одной на венгерском, другой на немецком языке. Комитет состоит из старых членов Интернационала, среди них в качестве казначея назван К. Фаркаш *, делегат Гаагского конгресса.
Швейцария
Стачка женевских ювелиров сейчас полностью прекращена: рабочие добились повсюду введения 9-часового рабочего дня. В Цюрихе плотники прекратили работу; до сих пор на уступки пошли шесть предпринимателей. Рабочие-портные в Винтер-туре продолжают бастовать. В Лозанне предприниматели-портные пошли навстречу требованиям рабочих во избежание стачки.
Бельгия
В Экасине 200 рабочих каменоломен прекратили работу, но стачка, по-видимому, вскоре закончилась. Подробностей нет.
V
Швейцария
Стачка рабочих-портных в Винтертуре увенчалась успе хом; все предприниматели, кроме одного, удовлетворили требования рабочих.
Обувщики в Цюрихе намерены начать стачку за повыше ние заработной платы; они призвали своих товарищей по профессии не наниматься на работу в этом городе.
* В газете ошибочно О, Фаркаш, Ред,
ЗАМЕТКИ О МЕЖД. РЛВ. ДВИЖЕНИИ В «INTERNATION'At, HERALD» 485
Румыния
Рабочие железнодорожных мастерских на станции Буха рест намерены объявить стачку, если дирекция не согласится удовлетворить их требования.
Германия
Интернациональный союз металлистов (Германия, Австрия и Швейцария) созвал свой ежегодный конгресс на троицын день, 1 июня, в Дрездене.
Гамбург. — Шорники бастуют с 19 апреля ввиду отказа хозяев пойти навстречу их требованиям. Стачка обувщиков, о которой мы упоминали на прошлой неделе как о неминуемой, уже разразилась. Рабочие требуют повышения заработной платы на 25%. Стачки корабельных плотников в различных городах Северной Германии, ранее упоминавшиеся нами, были вызваны главным образом сопротивлением предпринима телей образованию союза немецких корабельных плотников, который они пытались подавить в зародыше, однако рабочие храбро сражались. Кстати сказать, начальство военно-морских верфей Германской империи в Киле и других местах оказывает предпринимателям-судостроителям всяческую поддержку.
Мюнхен. — Рабочие-обувщики объявили стачку, выдвинув требование повышения заработной платы и ограничения рабочего дня 12 часами. 250 рабочих добились уступки от своих хозяев, 150 холостых рабочих покинули город; таким образом, успех почти обеспечен.
Берлин. — Рабочие-обувщики (около 3 тысяч человек) объявили стачку за повышение заработной платы на ...% *. Все несемейные рабочие покидают город. Стачка помощников садов ников, по-видимому, потерпела поражение из-за плохой организации. Однако сейчас положение улучшилось: они образовали союз, намереваясь возобновить борьбу.
Пфорцгейм. — Стачка обувщиков закончилась. Рабочие требовали повышения заработной платы на 20%, а добились 15%.
Майнц. — Забастовка на обувной фабрике Вольфа закончилась после того, как хозяева отказались от объявленного сокращения заработной платы на 15% и выплатили рабочим около 20 фунтов стерлингов в возмещение убытков, связанных со стачкой.
В Кёльне — плотники, в Трире — дубильщики намерены объявить стачку, чтобы добиться более высокой заработной платы.
• Это место в газете нералоорчиво. Ред.
486
Ф. ЭНГЕЛЬС
Австрия
Доводится до сведения рабочих-деревообделочников, при езжающих на Венскую выставку, что комитет венского союза данной профессии заседает в таверне Флориан, на Штумпфер-штрассе, Мариахильф, Вена.
VI
Америка
Рабочие Нью-Йоркской газовой компании забастовали 5 апреля, требуя восстановления 8-часового рабочего дня, который был предоставлен им некоторое время тому назад, но затем вскоре снова продлен до 12 часов для ночной смены и 15 часов для дневной. Республиканская полиция города Нью-Йорка сразу стала на сторону компании и послала на ее предприятия сильные подразделения констеблей, а филантропический комитет помощи эмигрантам тотчас же направил туда 200 итальянцев, только что высадивпгахся на острове Уорд *, чтобы поставить их на место бастующих. Этих итальянцев, доставленных на предприятия под охраной полиции, самыми грубыми методами заставляют выполнять виды работ, к которым они совершенно не привыкли и не приспособлены. Они очень скоро стали проситься обратно на остров. В этом им категорически отказали, удерживая их на работе с помощью полиции. Двое пытались бежать через стену, но упали в Ист-Ривер и утонули, несколько других при подобной же попытке были выловлены из воды полицией. С тех пор газовые заводы окружены кордоном полиции как с моря, так и с суши во избежание побегов из этой тюрьмы нового рода. Все это при том, что итальянцы в высшей степени не приспособлены к выполнению работы, которую от них требуют.
Таковы приемы, к которым прибегает «образцовая республика», лишь только рабочие, добиваясь своих прав, посягают на интересы или удобства класса капиталистов.
', Австрия
Вена. — Стачка рабочих, изготовляющих напильники, продолжается. Стачка портных закончилась; хотя рабочие и не смогли провести все свои требования, они добились значительных успехов: заработная плата повышена, рабочий день сокращен.
Грац. — Рабочие-пекари развернули широкую агитацию эа сокращение рабочего дня, который до сих пор достигал 18 и 20 часов в сутки. Стачка плотников продолжается.
• — карантине для эмигрантов Ред,
ЗАМЕТКИ О МЕЖД. РАВ . ДВИЖЕНИИ В «INTERNATIONAL HERALD» 487
Рабочее движение развивается повсюду в Австрии весьма удовлетворительным образом.
Венгрия
Съезд венгерских обувщиков состоится 1 июня в Пеште. Австрийские обувщики тоже собираются прислать делегатов. Среди вопросов, намеченных к обсуждению: установление нормированного рабочего дня одинаковой продолжительности во всей стране, создание союза венгерских обувщиков, организация кооперативных мастерских и другие.
Швейцария
Стачка ювелиров, только что завершившаяся победой рабочих, еще раз показала, какой вред причиняют сами себе хозяева, когда сопротивляются справедливым требованиям рабочих. Едва ли одна четверть бастовавших рабочих вернулась на старое место работы; остальные нашли работу в других местах, а хозяева сейчас испытывают величайшие затруднения при наборе нужного числа рабочих. И поделом!
Германия
Галле. — Успешно прошла стачка горняков, продолжавшаяся всего несколько дней: хозяева уступили.
Гамбург. — Стачка обувщиков продолжается.
Алъденбург. — Рабочие-портные после непродолжительной стачки получили прибавку в 162/3% заработной платы.
Ведется подготовка к многочисленным стачкам, в том числе: берлинских щеточников — за прибавку к заработной плате в 25%, штутгартских шорников — за 10-часовой рабочий день и прибавку в 25%, а также за отмену правила, обязывающего рабочих проживать и столоваться в доме хозяина.
Локауту подверглись рабочие-каменщики воФрейце и окрестностях, но так как рабочие этой профессии организованы в интернациональный союз, охватывающий Германию, Австрию и Швейцарию, то можно вполне рассчитывать на успех. Этот же союз поддерживает стачку в Гамбурге.
Ежегодный съезд немецких рабочих-строителей состоится в Хемнице (Саксония) в июне.
|
Печатается по тексту газеты Перевод с английского На русском языке публикуется впервые |
Написано Ф. Энгельсом в марте — мае 1 S 73 г.
Напечатано в газете «The International
Herald» M SI, S2, S4, Se, 57, во ,
22 и 29 марта, 12 и 26 апреля,
S и 24 мая 1S73 г.
488 ]
Ф. ЭНГЕЛЬС
* СООБЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ НА КОНТИНЕНТЕ ш
В отчете с континента сообщается, что раскольническое дви жение, начало которому было положено в некоторых местностях, привело к обычному результату — к анархии. Отдель ные личности, завидуя дешевой славе, заработанной их коллегами на расколе, решили сами воспользоваться этим приемом и без труда нашли готовый предлог, чтобы отколоться от раскольников. Сделанная в свое время попытка исправить положение, предложив заблудшим секциям искать убежище в лоне Юрской федерации (что, бесспорно, устроило бы Бакунина и Гильома, возведя их в ранг настоящих диктаторов, и поль стило бы национальному самолюбию инициатора этой нездоровой агитации в Англии *) оказалась менее приемлемой для оби тателей тех стран, где «институции» [«institutions»] не подверглись комбинированному разрушительному натиску туманных дешевых фраз б93. Отсюда результат, который легко было предвидеть: раскольнические фракции, быстро теряя в численности, превращаются в изолированные группы, у которых нет ничего общего, кроме свойственной всем им потребности ссориться между собой и ладить с врагами рабочего класса — положение, которое, быть может, не лишено приятности для какого-нибудь Морли, но полностью может быть оценено только Тьером и Бисмарком.
Написано Ф. Энгельсом около 22 мая 1S73 г.
Напечатано в газете «The International Herald» M во, ?4 мая Г*7? -
Печатается по тексту газеты
Перевод с английского
На русском языке публикуется зпервые
* По-видимому, Дж, Хейлза, Ред.
ПРИЛОЖЕНИЯ
[ 489
[ 491
* РАЗРЕШЕНИЕ, ВЫДАННОЕ ЭНГЕЛЬСУ
НА ВЫЕЗД ИЗ ШВЕЙЦАРИИ 594
№ 1279
Фамилия — Энгельс, литератор.
Имя — Фридрих.
Место рождения — Бармен (Пруссия).
Возраст — 28 лет.
Рост — 5 футов 93/4 дюйма, или 1 метр 79 сантиметров.
Волосы — темно-русые.
Лоб — большой.
Брови — темно-русые.
Глаза — карие.
Нос — небольшой.
Рот — обыкновенный.
Борода — темно-русая.
Подбородок — круглый.
Лицо — овальное.
Цвет лица — свежий.
Особые приметы
Выдано сроком на один год 11 сентября 1849 г, для про-
17 М. и Э., т. 44
492
ПРИЛОЖЕНИЯ
езда через Пьемонт и Испанию в Англию и для проживания там.
(Разрешено департаментом юстиции и надзора 11 сентября 1849 г.)
Подпись предъявителя
Фредерик Энгельс *
Выдано 11 сентября 1849 г. Печатается по рукописи
Впервые опубликовано в журнале Перевод с французского
«Вопросы истории», 1970, M 11
• Собственноручная подпясь Энгельса, Гед,
[ 493
РАСПИСКА 505
Мы подтверждаем получение векселя на 7 фунтов стерлин гов на лондонско-вестминстерский банк, который был переслан через г-на 9. Тихена из Штеттина. Мы приносим за это свою благодарность от имени нуждающихся немецких эмигрантов.
Лондон, 16 октября 1849 г.
Комитет помощи немецким политическим
эмигрантам: Карл Маркс, Карл Блинд, Генрих Бауэр, К. Пфендер
Напечатано в газете «Der Freischütz» Печатается по тексту газеты
M 8в, 26 октября 1849 г. „
Перевод с немецкого
На русском языке публикуется впервые
17 »
494 ]
ДЕНЕЖНАЯ РАСПИСКА КОМИТЕТА ПОМОЩИ
НЕМЕЦКИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЭМИГРАНТАМ
В ЛОНДОНЕ
13 ноября 1849 г .
Мы подтверждаем получение через г-на Тихена из Штеттина 11 фунтов стерлингов 14 шиллингов и выражаем за это от имени нуждающихся немецких политических эмигрантов нашу благодарность.
Лондон, 13 ноября 1849 г.
Комитет помощи немецким политическим эмигрантам
Подписи: д-р Карл Маркс, Генрих Бауэр, Карл Пфендер
Напечатано « газете «NorddeuUche Печатается по тексту газеты
Freie Ргене» M Ш, 23 ноябр* 1Ш .. Перевов с немецтго
На русском языке публикуется впервые
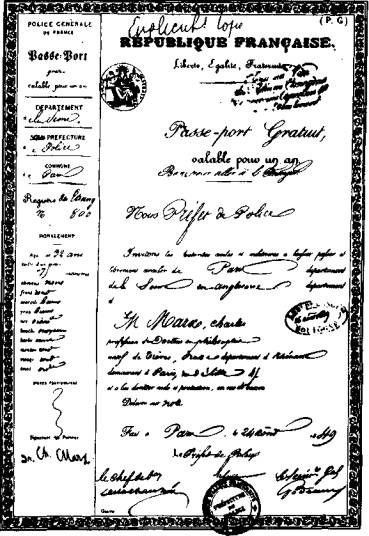
Паспорт К. Маркса, полученный им во Франции 24 августа 1849 г. для поЕздки в Англию
[ 497
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО ДЕЛУ УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ В ЭЛЬБЕРФЕЛЬДЕ
В МАЕ 1849 ГОДА 5М
...Кроме вышеупомянутых обвиняемых в основном преступлении — посягательстве [на правительство] — обвиняется также и портной Петер Нотъюнг, несмотря на то, что он не был ни членом комитета ландвера, ни членом Комитета безопасности 597. Он был адъютантом фон Мирбаха, в этом качестве являлся участником всего движения и, согласно его собственным показаниям, был знаком с его целями. Во время мятежа он прибыл из Кёльна, который являлся местом его жительства, в Эльберфельд. Здесь к нему обратились редактор газеты * Энгельс и Хюнербейн, которых он знал раньше, с просьбой оказать помощь военной комиссии 898 в приеме людей и выписке талонов на расквартирование. В тот же день фон Мирбах назначил его своим адъютантом и в виде знака отличия снабдил черно-красно-золотой б" повязкой. Цель всего движения, как, согласно его собственным показаниям, объя снили ему члены Комитета безопасности и военной комиссии, заключалась в том, чтобы германская конституция 60° получила признание, и ради этого необходимо вооружить граждан. Обязанности адъютанта он выполнял до отъезда фон Мирбаха; он был арестован в окрестностях Ронсдорфа...
...Фридрих Энгельс, редактор газеты, также участвовал в строительстве баррикад. Свидетель Генрих Мейнингхауз показывает, в частности, что молодой человек в очках, с небольшими усами, о котором один вооруженный доброволец сказал, что это редактор Энгельс, и который вел себя как один из
• — «Neue Rheinische Zeitung», Ред.
498
ПРИЛОЖЕНИЯ
руководителей, отдал приказание укрепить баррикаду у Вундер-бау. Упоминавшиеся ранее свидетели Симон и Зауэр также говорят о молодом человеке с небольшими усами в клетчатом сюртуке, который принимал участие в строительстве баррикады перед домом фон дер Хейдта...
...Королевский цейхгауз в Грефрате подвергся за время мятежа в Эльберфельде неоднократным нападениям и разграблению со стороны вооруженных банд. Впервые действия подобного рода имели место 10 и И мая, однако они были предприняты не эльберфельдскими бандами, а жителями Золингена № и его окрестностей с целью вооружить тамошнее население и затем оказать поддержку мятежу в Эльберфельде, а также способствовать его распространению на другие области. Эти походы в Грефрат представляют собой пункт обвинения в следствии по другому делу, об одновременном мятеже в Золингене и его окрестностях, тогда как здесь речь идет главным образом о разграблении этого цейхгауза, которое было совершено 15 мая эльберфельдцами. Согласно показаниям ряда лиц, принимавших участие в этом походе, в этот день обвиняемый Карл Янсен приказал части своего отряда, около 30—40 человек, отправиться, как он выразился, в поход на Вальд, чтобы достать там оружие. Отряд возглавлял Янсен в качестве командира и Воль-мейнер в качестве адъютанта, и к ним обоим присоединился редактор Энгельс. Энгельс и Янсен раздобыли себе по дороге на медеплавильном заводе двух ломовых лошадей, на которых они ехали верхом впереди отряда до поместья купца Юнга в Хам-мерштейне. Там Энгельс поменял своего коня на верховую лошадь Юнга, и оба — Энгельс и Янсен — потребовали для себя кавалерийские седла. После Хаммерштейна Янсен, как показал обвиняемый по тому же делу Вильгельм Рауш, отдал приказ отправиться в Грефрат, чтобы узнать, не осталось ли в тамошнем цейхгаузе оружие и обмундирование, кото рым они могли бы воспользоваться. Согласно показаниям вахмистра Штарке местному управлению ландвера, а также унтер-офицера Штейнигера вначале у цейхгауза появился авангард отряда — примерно 6—8 стрелков, а затем — вооруженная банда в 30—40 человек во главе с Энгельсом и Янсеном. Оба ехали верхом и были вооружены саблями и пистолетами. Отряд сразу же выстроился перед цейхгаузом и расставил посты у его дверей. Затем Энгельс, выхватив пистолет из кобуры, направился к вахмистру Штарке, спросил его, имеется ли еще в наличии оружие, и, когда тот ответил, что оружие уже было насильственно отобрано отрядами из Золингена и Вальда, приказал ему следовать за собой в цейхгауз. Сопро-
ПРИЛОЖЕНИЯ
499
тивление двух военных вооруженной банде в 30—40 человек было бы бесполезным, тем более что двери цейхгауза уже больше не запирались после предыдущих нападений со стороны золингенцев. Таким образом, оба военных вынуждены были уступить силе и разрешить войти в цейхгауз. Здесь Энгельс отобрал ряд предметов вооружения и обмундирования, кото рые он распорядился вынести во двор. Затем на них были составлены две расписки не совсем идентичного содержания за подписью командира Карла Янсена. Согласно перечню взятых из цейхгауза предметов там были провиантские сумки, каски, брюки, патронташи, пистолеты, сабли, барабаны, обувь и одно ружье. По распоряжению Янсена каждый из членов банды мог выбрать из числа этих предметов подходящее обмундирование и необходимое оружие. Сам Янсен не отрицает, что с указанной целью отправился вместе с частью своего вооруженного отряда (39—40 человек) * в Грефрат; он лишь утверждает, что делал это на основании полученного утром 15 мая от фон Мирбаха письменного приказа о реквизиции предметов снаряжения по пути между Грефратом и Вальдом. Он утверждает также, что Энгельс, который вместе с ним возглавил отряд, прибыв в Грефрат, расставил посты у дверей цейхгауза и вме сте с вахмистром вошел внутрь. По его словам, в то время как Энгельс был занят в цейхгаузе, он сам, поручив адъютанту Вольмейнеру находиться при отряде, произвел рекогносцировку местности вокруг цейхгауза, а возвратившись, увидел, что различные предметы снаряжения уже лежали на плацу...
...В соответствии с этим обвиняются следующие лица...
...7. Фридрих Энгельс, Иоганн Вольмейнер и Карл Янсен:
а)
за то, что в мае 1849 г. в Эльберфельде стали во
главе
вооруженной банды и при этом отдавали распоряжения; за то,
что подвергли грабежу принадлежащий государству цейхгауз
в Грефрате, а также
б)
за то, что в
мае 1849 г. вместе с этой бандой, открыто
применив силу, разграбили оружие и снаряжение в королев
ском цейхгаузе в Грефрате...
|
Печатается по тексту газеты, сверенному с рукописной копией обвинительного заключения Перевод с немецкого На русском языке полностью публикуется впервые |
Опубликовано в приложении к газете
«Westdeutsche Zeitung» M 93 и 95,
19 и 21 апреля 1850 г.
* В рукописи <i36— 37 человек». Ред.
500 ]
* ЗАПИСЬ РЕЧИ Ф. ЭНГЕЛЬСА НА МИТИНГЕ
«БРАТСКИХ ДЕМОКРАТОВ» 5 АПРЕЛЯ 1850 г.,
ПОСВЯЩЕННОМ ПРАЗДНОВАНИЮ
ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. РОБЕСПЬЕРА в02
Фр. Энгельс отдал должное революционному духу англичан. Он подчеркнул, что ко времени английской революции уже существовала партия левеллеров (друзей равенства) 603, и закончил эдравицей в честь английских рабочих.
Напечатано в газете «Die Hornisse» Печатается по тексту газеты
AS 80, 17 апреля 1850 г. _ ,
* Перевод с немецкого
На русском языке публикуется впервые
[ 501
ЗАСЕДАНИЕ ЭМИГРАНТСКОГО КОМИТЕТА 8 АПРЕЛЯ i860 ГОДА ш
Гражданин Клейнер заявляет, что гражданин Р. Шрамм заверил его в своей непричастности к какому-либо эмигрантскому комитету, он лишь получил от Галера иа Женевы некоторое количество лотерейных билетов с поручением переслать деньги в Женеву. Другой комитет заседает у Хильмана, он существует только номинально и, как считает Клейнер, у него нет никаких средств.
Зачитано, принято и подписано.
В. Клейнер Бейерле
Гражданин Гнам: гражданин Струве заявляет, что у него нет никаких средств для эмигрантов. Он получил от Галера 100 лотерейных билетов, но еще не разместил их. Если он выручит за них деньги, то эту сумму или передаст какому-нибудь комитету, который, возможно, будет создан, или распределит ее по собственному усмотрению между эмигрантами под расписку. Он сожалеет о разногласиях, существующих в среде немецкой эмиграции; если бы этих разногласий не было, то сюда потекли бы тысячи гульденов. Поэтому он посоветовал эмигрантам образовать комитет из своей среды.
Зачитано, принято и подписано.
Гнам
Иосиф Леони
Якоб Клейн
502
ПРИЛОЖЕНИЯ
Затем гражданин Струве дал 1 фунт стерлингов, который Гнам предложил передать Комитету; в ответ на это гражданин Струве заявил: нет, никакому комитету, я даю деньги тем, кто именно сейчас находится здесь, и пусть разделят их между собой.
Гнам
Иосиф Леони
Лукас
Протокол записан Ф. Энгельсом Печатается по рукописи
8 апреля 1850 г, ,, я
^ Перевод с немецкого
Публикуется впервые
[ 503
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Нам пишут из Вашингтона: «Г-н Дидьер, редактор « New - Yorker Schnellpost», выдает себя за бывшего сотрудника «Neue Rheinische Zeitung»». Настоящим заявляем, что это является ложью.
Составлено К. Марксом и ф. Энгельсом Печатается по тексту журнала
в конце апреля 1850 г. „ .
Перевод
с немецкого
Напечатано в журнале
..
-
«Neue Rheinische Zeitung. Ha РУ^ком языке публикуется впервые
Politisch-ökonomische Revue», 1850, M t
504 ]
* ЗАПИСЬ РЕЧИ Ф. ЭНГЕЛЬСА НА МИТИНГЕ
«БРАТСКИХ ДЕМОКРАТОВ» 10 СЕНТЯБРЯ 1850 г.
ПО ПОВОДУ ВСТРЕЧИ ГАЙНАУ е№
На митинге выступил г-а Энгельс, бывший редактор одной немецкой газеты *, которого председатель (Джон Петти) пред ставил как одного из тех, кто сражался и проливал кровь за свободу. Он сказал, что около 30 месяцев тому назад изряд ное количество господ было отправлено в Англию: Луи Филипп, князь Меттерних, принц Вильгельм Прусский и другие, — и иностранные патриоты считают, что Англия опозорила себя, предоставив им кров с такой готовностью. Но подождите, заявил Энгельс, придет время, и английский народ воздаст им должное. Именно таким образом он и поступил сейчас. (Слушайте, слушайте!). Обращение с Гайнау произведет более сильное впечатление на континенте, чем любое другое событие в Англии за последние 10 лет.
С ним поступили хуже, чем если бы сорвали с его плеч эполеты или сломали его шпагу, тем самым изгнав его с по зором из общества ему равных. (Слушайте, слушайте). В ближайшее время на континенте произойдет новая революция, и враги народа, которые при других обстоятельствах бежали бы в Англию, теперь побоятся этого и отправятся куда-нибудь еще, вероятно, к своему другу Николаю российскому, который, возможно, пожалует им маленькое королевство в Сибири. (Громкий смех!)
От имени своей страны Энгельс поблагодарил жителей Лондона за их обращение с Гайнау и выразил надежду, что этому чудовищу будет оказан подобный же прием всюду, где бы он ни появился. (Аплодисменты).
Напечатано в * Rtynoldt Weekly Печатается по машинописное копии
Newtpapen fit, Il сентября ÎSSO e, _ „
г Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
• — «Neue Rheinische Zeitung!.. Рев,
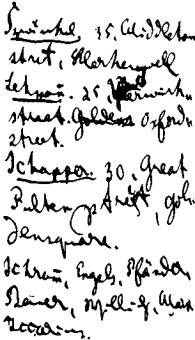
Составленная К. Марксом в июне или августе 1850 г.
записка с фамилиями и адресами ряда членов Центрального комитета Союза коммунистов:
«Френкель. 35, Мидлтон-стрит, Клеркенуэлл. Леман. 25, Бервик-стрит, Оксфорд-стрит. Шаппер. 30, Грейт Путней-стрит Голден-сквер. Шрамм, Энгельс, Пфендер, Бауэр, Виллих, Маркс, Эккариус»
[ 507
* ЗАПИСЬ РЕЧИ Ф. ЭНГЕЛЬСА НА НОВОГОДНЕМ ВЕЧЕРЕ
ОБЩЕСТВА «БРАТСКИЕ ДЕМОКРАТЫ»
30 ДЕКАБРЯ 1850 ГОДА вов
Г-н Энгельс (который вместе с Карлом Шаппером из Немецкого общества представляет немецкую эмиграцию) также разделяет эти чувства, благодарит от имени своих братьев за выраженную ораторами симпатию и от всей души желает про цветания английскому народу. Затем он произносит длинную и тщательно продуманную речь о причинах поражения [революционного движения] за границей и последовавшей за тем реакции, показав, что ее росту способствовало также невежество народа и предательство его лидеров.
Напечатано в газете « The Northern Печатается по тексту газеты
Star» M 689, 4 января 1851 г. _ .
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
508 J
* СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КЁЛЬНСКОГО ПРОЦЕССА КОММУНИСТОВ в0'
1) Братьям Браубахам для Шнейдера (оригинал) 27 октября, компаньон.
2) И. А. Бёкеру для Шнейдера (копия), тогда же, Майкл Шоук- рон и К0.
3) И. Д. Херштадту для Хонтхейма — Марксу, братья Фишер в08.
4) И. X . Штейну для Эссера I — Марксу, компаньон.
5) Леонгарду Саде для Шнейдера II — Марксу, Смит (Уилсон) Драйер и К0.
6)
Дюссельдорфскому
торговому дому
для
Шнейдера
II
—
"из Лондона, 25 октября (Маркс о
Шервале, теоретическое разъ
яснение) *09.
7) Эбнеру — для фон Хонтхейма — Лондон, 26 октября (третий экземпляр первого письма Маркса Шнейдеру в1°), письма Беккера * и Даниэльса Марксу eu, новые образцы почерка Гирша — заявление Шерваля в « People ' s Paper » — оригинал письма Штибера Марксу eiî .
8) Г. Юнгу для Шнейдера II . Лондон, 27? октября! 1. Заверенный образец почерка и письменное показание под присягой. 2. Четвертый экземпляр первого письма Шнейдеру вместе с образцами почерка Гирша. 3. Выдержка из письма Беккера Марксу о Виллихе. 4. Три письма Бермбаха Марксу. 5. Копия письма Штибера ш. 6. Инструкция Шнейдеру вместе с сообщением о посылке № 9 и № 10.
9) Шнейдеру II , заказное письмо. — Дубликат письменного показания под присягой. 28 октября.
• — Германа Генриха Беккера, Ред.
ПРИЛОЖЕНИЯ
509
10)
В. в Дюссельдорф для Шнейдера
II
— заказным письмом
квитанция на № 9, 28 октября.
№№ 3, 4 или 5. Один использован для Шнейдера II . Разъяснение о Рейтере, Штибере, Дице 614. 29 октября.
11) ... * от Б. и К0 фон Хонтхейму. Выдержка из первого письма Маркса Шнейдеру. Указание на неполучение письма от Шнейдера.
12) Г. Бланк и сын.
13) Хассельман Шультс и К0 615.
Составлена Ф. Энгельсом Печатается по рукописи
около 31 октября 1852 г, „ „
Перевод с немецкого
Публикуется впервые
• В рукописи нерааСорчиво. Ред,
510 J
ДОВЕРЕННОСТЬ
ею
Я, нижеподписавшийся, настоящим уполномочиваю мою супругу Женни Маркс, урожденную фон Вестфален, представ лять мои интересы и действовать от моего имени при урегулировании вопроса о наследстве ее матери, покойной госпожи Каролины фон Вестфален, тайной правительственной советницы.
Лондон, 2 августа 1856 г.
Ne varietur * подписано: Д-р Карл Маркс вп Трир, шестого августа, одна тысяча восемьсот пятьдесят шестого года.
Женни Маркс Йозеф Аппельт
**
Хеммерих
Составлено К. Марксом i августа 185в г. Печатается по рукописи
Опубликовано в книге «Archiv für Перевод с немецкого
Sozialgeschichte». .. .
Bd VIII 1988 В 154 "а русском языке публикуется впервые
* — Изменению не подлежит. Формула, употребляемая в дипломатических и юридических документах. Рев.
" Вторая подпись неразборчива, Рев.
[ 511
* ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЧИ К. МАРКСА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В АМЕРИКЕ И НА КОНТИНЕНТЕ
ИЗ ГАЗЕТНОГО ОТЧЕТА О ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 31 ЯНВАРЯ 1865 ГОДА
Затем доктор Map к с оглашает выдержки из газеты « St.- Louis Daily Press» (Америка), которая одобряет Манифест и Устав Интернационала и выражает сожаление по поводу того, что из-за небольшого формата она не может дать полный текст Манифеста, однако публикует его частично ввиду глубокого интереса, который вызывает Товарищество.
Следует отметить, что поступили запросы на сотни членских билетов из Парижа, Бельгии и т. д.; хотя в некоторых местах на континенте трудящимся запрещено открыто объединяться для защиты тех принципов, которые являются целью Интернационала, однако даже в этих местах они стараются найти форму для присоединения к Товариществу, не вступая в противоречие с законом.
Напечатано в « The Bee - Hive Печатается по тексту газеты
Newspaper» M 173, 4 февраля 186S г , „
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
512 ]
* ЗАПИСЬ РЕЧИ К. МАРКСА НА ПРАЗДНОВАНИИ
ГОДОВЩИНЫ ЛОНДОНСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА НЕМЕЦКИХ РАБОЧИХ в18
Из речей, произнесенных на праздновании годовщины Об щества, я хочу привести кое-что из речи Карла Маркса. В спор ном вопросе о самопомощи и государственной помощи, сказал он, обе партии заблуждаются. В буржуазном обществе как все жизненные средства, так и все средства труда принадлежат капиталистам, поэтому самопомощь — нелепость. С другой стороны, само собой разумеется, что при министерстве Бисмарка не может быть речи ни о какой государственной помощи — рабочие не могут продавать себя министерству Бисмарка. Государственная помощь может исходить только от государства, в котором верховное господство осуществляет пролетариат. Проповедовать освобождение труда внутри прусской монархии означает вызывать бурю в стакане воды. Условием освобождения труда является освобождение Германии, которое, в свою очередь, предполагает восстановление Польши и свержение прусской монархии. В отношении упреков партии прогрессистов по поводу действий рабочих против буржуазии Маркс сказал, что когда он писал, что рабочие должны объединиться с буржуазией против абсолютизма, ожидали, что немецкая буржуазия осуществит, по меньшей мере, столько же, сколько буржуазия Англии; однако этого не случилось. В Германии, особенно в Пруссии, существует эакон о печати, согласно которому всякие поношения и клевета сверху вниз допускаются; он добавил, что рабочие газеты, как и рабочее движение, допускаются лишь с разрешения полиции и что на правительство можно нападать только с беззубой критикой. При
ПРИЛОЖЕНИЯ 513
таких условиях невозможны совместные действия между рабочими и буржуазией, тем более что буржуазия слишком труслива, чтобы проводить свою собственную программу.
Напечатано в газете «Social-Demohrat» Печатается по тексту газеты
Л5 24, 19 февраля 186S г. „ ,
Перевод с немецкого
На русском языке публикуется впервые
514 ]
* БЛАНК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЯЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО РАБОЧИХ,
ОСНОВАННОЕ 28 СЕНТЯБРЯ 1864 г. НА ПУБЛИЧНОМ
СОБРАНИИ В СЕНТ-МАРТИНС-ХОЛЛЕ, В ЛОНДОНЕ
Центральный Совет, 18, Грик-стрит, Лондон
Манифест и Устав, опубликованные Временным Центральным советом, исчерпывающе раскрывают цели и устремления Товарищества, сущность которых, однако, можно выразить в нескольких словах. Целью Товарищества являются защита, развитие и полное освобождение рабочего класса — как экономическое, так и политическое. Для достижения этой великой цели Товарищество будет способствовать установлению солидарности рабочих различных отраслей труда в каждой стране и сотрудничеству между рабочими различных стран.
Организация Товарищества с центром в Лондоне и многочисленными отделениями в Европе и Америке содействует объединению рабочего класса всех стран в нерушимый союз братского сотрудничества. Ежегодные конгрессы делегатов, избранных самими входящими в Товарищество рабочими, обеспечивают рабочему классу публичное и могущественное пред ставительство европейского масштаба.
Общество рабочих-каменщиков в лице своего Исполнитель ного комитета, выразившее на собрании 25, Хатфилд-стрит, Блэкфрайар, Лондон * свое согласие с этими принципами и
* Выделенное в этом абзаце курсивом вписано в текст бланка от руки, Ред.
ПРИЛОЖЕНИЯ
515
свое желание вступить в братский союз, настоящим принимается в качестве отделения Товарищества.
Сего 21 февраля 1865 г.
Дж. Оджер,
председатель
Совета
Дж. У. Уилер, почетный казначей
Э. Дюпон,
секретарь-корреспондент
для Франции
К. Маркс,
»
»
Германии
Э. Холторп, » » Польши
Г. Юнг, » » Швейцарии
Л. Льюис, » » Америки
У. Р. Кример, почетный генеральный секретарь
Напечатано в виде листовки Печатается по тексту листовки
в феврале 1865 г. _ я
с Перевод с английского
516 ]
* РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ
К АВСТРО-ПРУССКОЙ ВОЙНЕ 1866 ГОДА в19
Центральный Совет Международного Товарищества Рабочих считает, что возникший на континенте конфликт является конфликтом между правительствами, и рекомендует рабочим оставаться нейтральными и объединяться, чтобы в единстве почерпнуть силы, необходимые для их социального и политического освобождения.
Принято на заседании Генерального Совета 17 июля 1866 г.
Напечатано в газетах « Commonwealth »
M 17в, 21 июля Нее а.;
«La Rive Gauche» M It, it июля 1866 е .
Печатается по тексту протокольной
книги
Генерального Совета
Перевод с английского
[ 517
* ЗАПИСИ РЕЧЕЙ К. МАРКСА ОБ ИЗМЕНЕНИИ
МЕСТА СОЗЫВА КОНГРЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛА
В 1868 ГОДУ
ИЗ ГАЗЕТНЫХ ОТЧЕТОВ О ЗАСЕДАНИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 26 МАЯ И 16 ИЮНЯ 1868 ГОДА '
26 мая 1868 г.
Сделано уведомление, что в ближайший вторник будет внесено предложение отменить решение последнего конгресса о назначении Брюсселя местом созыва и взамен назначить Лондон 620.
Совет считает несовместимым с честью и достоинством Товарищества созывать конгресс в таком месте, где он оказался бы в окружении французских шпионов, и в стране, правительство которой способно совершать такие произвольные и на сильственные действия, какие имели место в отношении голодающих горняков Шарлеруа.
16 июня 1868 г.
Автор резолюции * заявил, что наряду с вышеуказанными соображениями выяснились обстоятельства, которые заставляют Совет воздержаться от отмены решения Лозаннского кон гресса 621. Бельгийская секция уже предприняла шаги. Г-н Бара якобы заявил в палате депутатов, что он не допустит созыва конгресса. В протесте, подписанном всеми членами Брюссельского комитета и исполнительного комитета «Вольных работ ников» (присоединившегося политического общества в Вервье), местные члены Товарищества заявили, что, «вопреки всем хвастливым речам министра юстиции, конгресс Интернационала состоится в Брюсселе». Таким образом, весь вопрос сводится к сопротивлению бельгийских рабочих полицейским мерам бельгийского правительства, а в это Генеральный Совет не имеет права вмешиваться. В связи с этим он берет обратно свой проект резолюции.
Напечатано в « The Bee - Hive Newspaper» Печатается по тексту газеты
ММ 346, 349, 30 мая и 20 июня 1868 г, _
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
Маркс. Ред.
518 J
* ЗАПИСЬ РЕЧИ К. МАРКСА ОБ УСПЕХАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ в22
ИЗ ГАЗЕТНОГО ОТЧЕТА О ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 21 ИЮЛЯ 1868 ГОДА
В письме из Германии сообщается, что Союз рабочих обществ южногерманских государств назначил на первую неделю сентября съезд в Нюрнберге. Первым вопросом, который должен быть решен на атом съезде, является присоединение всего Союза к Международному Товариществу Рабочих.
Заслуживает внимания статья в «Le Réveil», новой газете, издаваемой в Париже друзьями Ледрю-Роллена; в ней одобрительно отзываются о позиции членов Парижского комитета и противопоставляют политический здравый смысл и моральное превосходство, проявляемые европейским рабочим классом, коварству и тупости правящих классов. В статье содержится следующее примечательное место:
«Именно на единство мыслей и чувств, преобладающее среди рабочих различных стран Европы, мы возлагаем надежды для сохранения мира. Через несколько дней соберется конгресс Международного Товарище ства. Все страны Европы будут на нем представлены, может быть, за исключением Франции, и едва ли будет преувеличением сказать, что благодаря мудрости своих решений эта ассамблея всех европейских делегатов труда может превратиться в совещание подлинных хозяев Европы. Да, если завтра, опираясь на бессмертные принципы французской революции и взяв в свои руки защиту священных интересов труда, включающих порядок, безопасность и свободу, этот конгресс решительно выскажется 8а мир, его слова будут восторженно встречены всей Европой».
Напечатано в « The Bee - Hive Newspaper» Печатается по тексту газеты
M 353. 25 июля 1S68 г, _
Перевод с английского
На русском язике публикуется впервые
Г 519
* ЗАПИСЬ РЕЧИ К. МАРКСА О ПОЛОЖЕНИИ ГОРНЯКОВ В УГОЛЬНЫХ КОПЯХ САКСОНИИ вгз
ИЗ ГАЗЕТНОГО ОТЧЕТА О ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 23 ФЕВРАЛЯ 1869 ГОДА
Секретарь для Германии оглашает доклад о положении горняков в угольных копях королевства Саксонии. Их заработная плата колеблется от 6 шиллингов до 10 шиллингов 3 пенсов в неделю за 12 часов работы в день; у подростков — от 4 шиллингов до 5 шиллингов в неделю. Каждая шахта имеет свою кассу взаимопомощи, в которую рабочие обязаны вступать, но они не имеют голоса при распределении фондов; фонды являются законной собственностью шахтовладельцев, и все ссуды без исключения выдаются по распоряжению главных управляющих шахтами. Денежные выдачи по болезни, вспо моществования и выплаты по выслуге лет возрастают пропорционально продолжительности срока работы, но если рабочий увольняется, то независимо от причины он теряет все права на фонды. Таким образом, рабочий мог делать взносы в течение 30 или 40 лет и не получить ни гроша на старости лет. В ре зультате агитации среди горнорабочих недавно опубликован предварительный проект устава для объединения товариществ горняков всех саксонских угольных копей. Он составлен комитетом рабочих под председательством г-на И. Г. Динтера. Главные его пункты следующие: 1) все кассы взаимопомощи объединяются в одну; 2) члены сохраняют свои права, пока они живут в Германии и уплачивают свои взносы; 3) общее со брание всех взрослых членов является высшей властью. Оно избирает генеральный совет и исполнительный комитет и т. д.; 4) взносы хозяев в кассу взаимопомощи должны достигать поло вины взносов, уплачиваемых рабочими. Этот проект никоим образом не выражает взглядов наиболее сознательных саксонских
520
ПРИЛОЖЕНИЯ
горнорабочих. Скорее он исходит от той их части, которая хотела бы проводить реформы с разрешения капитала. На этом проекте лежит печать нереальности. В самом деле, что за наивное представление, будто капиталисты, до сих пор неограниченные властители над кассами горняков, уступят свою власть демократическому общему собранию рабочих и, несмотря на это, будут платить взносы!
Чтобы раскрыть глаза тем горнякам, которые еще сохраняют веру в возможность преобразования касс на основе смешанных взносов хозяев и рабочих, не может быть лучшего средства, чем негодующий отказ хозяев.
Напечатано в « The Bee - Hive Newtpaper» Печатается по тексту газеты
M 3SS, 27 февраля 1869 г. ,
с Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
[ 521
* ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА Р. У. ЮМУ В НЬЮ-ЙОРК в24
Лондон, 23 апреля 1870 г.
Дорогой сэр!
В ответ на Ваше письмо от 26 числа прошлого месяца Совет поручил мне заявить, что Международное Товарищество не признает особых национальных интересов рабочих, которым довелось родиться в разных странах.
Одна из наших задач состоит в том, чтобы устранить из сознания рабочих всякий след национальной антипатии и возможной розни. Совет поэтому не может поддержать тот вид представительства, который предлагается в Вашей докладной записке. Генерал Клюзере был оскорблен французской полицией, и это, очевидно, побудило профессиональные общества дать ему полномочия. « связи с чем он и провел параллель между собой и французским послом в Вашингтоне. Французский посол в Вашингтоне должен защищать личные интересы династии и собственность французских торговцев. У парижских рабочих нет подобных интересов, которые нужно было бы защищать по другую сторону Атлантического океана от возможных посягательств американских рабочих. Мы считаем, что интересы французских рабочих, живущих в Соединенных Штатах, полностью совпадают с интересами всех других рабочих Соединенных Штатов.
Чтобы облегчить общение между собой тех, кто разделен раз личиями в языке и, возможно, образе жизни, мы имеем коррес пондентов, сведущих в этих вещах, и мы доверяем им ведение дела.
Переписка с Соединенными Штатами распределена между секретарями Генерального Совета для различных национальностей.
522
ПРИЛОЖЕНИЯ
Генерал Клюзере и г-н Пеллетье являются нашими фран цузскими корреспондентами в Америке. Они состоят в переписке с нашим секретарем для Франции *. Зигфрид Мейер и Фогт — наши немецкие корреспонденты. Они переписываются со здешним секретарем для Германии **; а генеральный секретарь *** ведет английскую корреспонденцию. Наряду с должностными лицами тред-юнионов, как, например, г-н Джессеп, мы рассчитываем на Вас как на нашего корреспондента, чтобы постараться уладить дело, если возникнут какие-либо недоразумения между различными национальностями; но мы не можем допустить, чтобы французы или немцы имели свои какие-то противоположные или специфические интересы, отличающие их от других рабочих, и мы всегда доказываем им необходимость приобщения к рабочему движению той страны, где они живут, и особенно Америки, их активного участия в этом движении. Что касается тенденции к созданию тайных обществ, то мне поручено попросить Вас не отказать в любезности изложить нам, когда Вы сочтете это удобным, Ваше мнение о причинах, которые вызывают потребность в тайной деятельности. Нам советовали уговорить Вас и друга Джессепа выступить публично против нее. Но мы полагаем, что в ней есть нужда, иначе это движение не имело бы такого успеха; и более того, с нашей стороны было бы самонадеянно давать советы по этому вопросу; но мы хотели бы знать причины, чтобы довести их до сведения рабочих Старого света, которые только недавно преодолели стадию тайной организации.
Преданный Вам
Дж. Джордж Эккариус, генеральный секретарь
Составлено 13 апреля 1870 г. Печатается по тексту газетной вырезки,
вклеенной в протокольную книгу Генерального Совета
Перевод с английского
* — Дюпоном. Ред.
•• — Марксом. Ред.
••• — Эккариус, Ред.
Г 523
* ЗАПИСИ РЕЧЕЙ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА
О ПОЗИЦИИ АНГЛИЙСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА
ВО ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЕ
ИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
24 января 1871 г.
Гражданин Энгельс осведомляется, был ли кто-нибудь из членов Совета на вчерашнем митинге 625, но не получает ответа. Он заявляет далее, что, поскольку у членов Совета существуют различные мнения, вопрос о позиции английского рабочего класса на данном этапе франко-прусской войны было бы целесообразно обсудить на заседании Совета. Он предлагает включить этот вопрос в повестку дня.
Гражданин Маркс поддерживает это предложение, которое принимается.
31 января 1871 г.
Гражданин Энгельс говорит: По совету председатель ствовавшего на последнем заседании * и согласно английскому обычаю я составил несколько резолюций, главным образом в качестве основы для прений. Я не настаиваю на том, чтобы эти резолюции были приняты точно в том виде, как я их составил. Вот эти резолюции:
1. Движение рабочего класса в поддержку Французской республики должно было вначале сосредоточить свои усилия на том, чтобы заставить английское правительство признать Французскую республику.
2. Военное вмешательство Англии на стороне Франции, как оно понимается теми, кто его предлагает, могло бы принести
* — Лекрафта. Рев. 18 М. и В., т. 44
524
ПРИЛОЖЕНИЯ
пользу только в определенный момент, который уже давно прошел.
3. Англия неспособна не только эффективно вмешиваться в события, происходящие на европейском континенте, но и не может защищать себя от милитаристских монархий континентальной Евроиы, пока не вернет себе свободу использовать свою действительную военную силу — то есть свой морской флот, а это она может сделать, только денонсировав Парижскую декларацию 92в.
Позиция, занятая Советом, была изложена во втором воззвании о войне. 4 сентября была провозглашена Республика, 9 сентября выпущено наше воззвание, в котором говорится: «Английские рабочие уже" сделали некоторые шаги в том направлении, чтобы посредством оздоровляющего давления извне сломить нежелание их правительства признать Французскую республику». Если бы движение ограничилось этой задачей, оно могло бы увенчаться успехом, другие страны последовали бы этому примеру, это настолько упрочило бы положение Франции, что Пруссия была бы вынуждена посчитаться с этим. Но были люди, которые не удовлетворились этим. Я имею в виду контистов, профессора Бизли и его друзей. Профессор Бизли в ряде случаев храбро защищал рабочий класс, он смело противостоял враждебной позиции буржуазии в деле Бродхеда 627, но контисты не являются собственно рабочей партией. Они защищают компромисс, стремясь сделать систему наемного труда сносной, чтобы увековечить ее; они принадлежат к политической секте, которая верит, что Франция должна управлять миром. В своей последней декларации, подписанной рядом членов Совета, они просят, чтобы Франции было возвращено то положение, которое она занимала до войны; а до войны Франция была военной державой, Контисты потребовали вмешатель ства [вооруженного], и сразу же рабочее движение раскололось. Другие люди заявляли, что война всегда препятствовала какому-либо социальному и политическому прогрессу и что всякая война продлевает существование аристократии. В этом большая доля правды. Кроме того, если не удается заставить правительство признать Республику, то как можно заставить его начать войну за эту Республику? Но предположим, что Англия вступила в войну. Отозвав все вооруженные силы Шотландии, освободив все другие районы от солдат и оставив только 10 тысяч в Ирландии, можно было бы выставить около 30 тысяч человек, и они могли бы принести пользу в определенный момент. Одно время французские и немецкие силы были более или менее равны, и Мольтке собирался снять осаду. В этот
ПРИЛОЖЕНИЯ
525
момент английские войска могли бы склонить чашу весов против немцев. Но этот момент уже давно прошел. Это было тогда, когда под Орлеаном имело место известное оживление, когда Орель де Паладин одержал свои победы. Тогда появление английских войск хорошо бы подействовало на французских солдат, подняло бы их дух; с тех пор немцы получили сильное подкрепление. Пруссаки такого плохого мнения об английской армии, что осмеяли бы англичан, если бы те высадились во Франции. Единственно, чего англичане смогли бы добиться, это несколько более организованного отступления Шанзи в28.
Английские части могут действовать на суше только в союзе с войсками других стран. Так было в войне па Пиренейском полуострове и в Крымской войне. Англия лучше всего может вести войну, снабжая своих союзников военными материалами. В Крыму англичанам пришлось занимать у французов солдат, чтобы заполнить свои окопы. Англичане всегда считали невозможным вести войну большой армией на отдаленных территориях. В силу английской военной системы — отсутствия воинской повинности, медлительности набора добровольцев и системы их обучения, в результате чего подготовка английского солдата требует долгого времени, — английская армия основана на длительном сроке службы, и нет возможности обеспечить многочисленную армию необходимыми пополнениями. Если бы во Францию были посланы войска, их нельзя было бы поддержать пополнениями в случае потерь. Единственное, что Англия могла сделать для помощи Франции, было объявление войны в тот момент, когда Россия денонсировала Парижский трактат. Этого вопроса мы также касались в наших воззваниях. В Первом воззвании говорится: «На заднем плане этой самоубийственной борьбы виднеется мрачная фигура России. Плохим признаком является то, что сигнал к нынешней войне был дан как раз в тот момент, когда московитское правительство закончило постройку важных для него в стратегическом отношении железных дорог и уже сосредоточивает войска в направлении к Пруту». Во Втором воззвании говорится: «Точно так же, как в 1865 г. Луи Бонапарт обменялся обещаниями с Бисмарком, так в 1870 г. Горчаков обменялся обещаниями с Бисмарком». Но никто не обратил на это внимания. Россия высказалась против Парижского договора не раньше, чем Бисмарк отказался от договора о Люксембурге. Это доказывает наличие тайного соглашения. Пруссия всегда была только орудием в руках России. Вот тогда был благоприятный момент для вступления Англии в войну. Положение Франции было
18*
526
ПРИЛОЖЕНИЯ
еще не таким тяжелым, каким оно стало позднее, и если бы Англия объявила войну, Пруссия и Россия пошли бы вместе, остальная Европа — против них, и Франция была бы спасена. Австрия, Италия и Турция были готовы и, если бы туркам не помешали, как это было во время войны *, если бы им дали возможность защищать самих себя так, как они считают нужным, они могли бы продержаться, в то время как остальные страны помогали бы французам изгнать пруссаков. Но когда была такая возможность, те джентльмены, которые собирались помочь Франции, не нашли что сказать.
Теперь, когда Жюль Фавр капитулировал от имени всей Франции, на что он не имел никакого права, не подлежит сомнению, что благодаря стараниям французской буржуазии Франции придется подчиниться и заключить мир. Тогда мы увидим, как поступит Россия. Россия и Пруссия нуждаются в войне так же, как Наполеон, чтобы подавлять народное движение внутри страны, чтобы сохранять свой престиж и удерживать свои позиции.
Флот является главной силой Англии, но по декларации 1856 г. был установлен новый морской кодекс и решено, что с каперством должно быть покончено. Право обыска нейтральных судов было отменено, и вражеским товарам гарантирована безопасность в нейтральных водах, а нейтральным товарам — во вражеских водах. Попытка осуществить нечто подобное уже была однажды предпринята русской императрицей Екатериной, но Англия не соглашалась на это до конца Крымской войны. На Парижской конференции Кларендон одним росчерком пера лишил Англию возможности наносить ущерб России на море. В результате чьих интриг или по чьему распоряжению он это сделал, до сих пор не выяснено. Когда вопрос был поставлен перед палатой общин, Дизраэли уклонился от ответа, и дело эамяли. Чтобы сломить Россию, необходимо положить конец ее экспорту, ее экспортной торговле. Если русское дворянство не сможет продавать за границу свое зерно, лен, одним словом, свою сельскохозяйственную продукцию, то Россия не выдержит и одного года, а основная ее торговля ведется на иностранных судах. Чтобы воевать с Россией, Англия должна вернуть себе утраченные права. Они были отменены якобы для того, чтобы обеспечить частной собственности на море такую же безопасность, как и на суше. Мы видели, как пруссаки уважают частную собственность во Франции. Рабочий класс не имеет частной собственности, которую он мог бы потерять,
* По-видимому, ар опущены слова; «в Крыму», Ред,
ПРИЛОЖЕНИЯ
527
поэтому он не заинтересован в том, чтобы гарантировать ее безопасность. Но рабочий класс заинтересован в восстановлении и сохранении вышеуказанного права, пока не исчезнет Российская империя. Британской империи, как и остальным империям, основанным на... * тоже предстоит исчезнуть в свое время, но в данный момент нас занимает не это исчезновение, которое, может быть, произойдет более мирным путем. Ни одна страна неспособна противостоять России так, как может ей противостоять Англия, и Англия должна сохранить эту возможность по крайней мере до тех пор, пока не будет восстановлена Польша. Если бы война была объявлена России, это было бы спасением для Франции, а Польша могла быть восстановлена. Теперь Россия начнет захватническую войну, может быть, еще в течение ближайшего года, и Европе придется сражаться без участия Франции.
7 февраля 1871 г.
Гражданин Энгельс: Упомянув об Ирландии, я только высказал предположение, что 10 тысяч солдат — наименьшая воинская сила, которую правительство оставило бы в Ирландии. Настроений ирландцев я вообще не принимал в расчет.
14 февраля 1871 г.
Гражданин Маркс: Признание Республики было самым первым и необходимым условием дальнейших успехов. Если это условие не могло быть обеспечено, все остальное было обречено на неудачу. У Франции связаны руки как во внешних, так и во внутренних делах, в то время как Пруссия пользуется поддержкой России. С момента провозглашения Республики все во Франции стали восторженными республиканцами. Если бы Республика тогда была признана, то у нее были бы шансы на успех. Но когда признания не последовало, французы повернули назад. Имущие классы были заинтересованы скорее в победе Пруссии, чем Республики. Они очень хорошо знают, что рано или поздно Республика должна стать социалистической. и поэтому интригуют против нее. И эти интриги сделали для Пруссии больше, чем Мольтке и его генералы. Ведь в нашей дискуссии никто не доказал, что признание Республики не являлось первоочередным делом. Далее, собрание на Кэннон- стрит в2в не было собранием состоятельных граждан Лондона,
* В записи пропуск. Ред.
528
ПРИЛОЖЕНИЯ
там собрались мелкие буржуа, которые никогда не обладали влиянием. Они могут либо поддержать крупных капиталистов против народа, либо присоединиться к рабочему классу; они ничего не могут добиться собственными силами, но когда они присоединяются к рабочему классу, их нельзя допускать к руководству, потому что их руководство опасно. Они ненавидят Республику и не хотели бы признавать ее, но они боятся Пруссии, поэтому стоят за войну. Гражданин Эккариус говорил о том, что протесты против расчленения Франции, не подкрепленные угрозой войны, были бы бесполезны, но это не имеет отношения к делу. Протестовали мы в нашем воззвании, протестовали немцы, хотя это был лишь моральный протест. Британское правительство не может выступить с протестом до тех пор, пока Пруссия не окажется победительницей и формально но потребует этих провинций. Вряд ли можно думать, что английское правительство серьезно выступит против расчленения Франции.
У гражданина Кона, по-видимому, странные представления о рабочем движении: когда рабочие идут к Гладстону, чтобы узнать его мнение, они-де должны считать его решение окончательным и подчиниться. Кон думает также, что можно было бы сделать больше, если бы заседал парламент. Это просто великолепно, что парламент не заседал. Признание Республики является простым актом исполнительной власти. Если бы парламент заседал, Гладстон спихнул бы эту ответственность на плечи парламентского большинства, и тогда против каждого выдвинутого довода нашлась бы тысяча доводов в защиту Глад-стона. Смена правительства могла повлечь за собой необхо димость выборов, а либералы не очень-то любят слишком часто подкупать свободных избирателей. Я совершенно уверен, что если бы рабочие стояли на своем и не позволили ораторам из мелкобуржуазных доктринеров соваться не в свое дело, они до бились бы успеха. В это движение не было вложено и половины той энергии, которая в свое время была проявлена в пивном бунте в30. В Англии все происходит под давлением извне. Гражданин Милнер говорил, будто для немцев было бы оскорбительно, чтобы англичане настаивали на признании Французской республики. Как раз наоборот: немцы думают, что англи чане в этом отношении не пошли достаточно далеко. Сотни людей заключены в тюрьмы, и единственно, от кого арестованные могли бы ожидать моральной поддержки, так это от английских рабо чих, но они пошли не тем путем, каким надо было пойти. Что касается борьбы между монархией и республикой, то вначале не было никакой республики, одна монархическая армия стояла
ПРИЛОЖЕНИЯ
529
против другой, и французская армия считалась более сильной. Когда французская постоянная армия перестала существовать, все думали, что французы должны будут сдаться, через несколько дней никакая монархия уже не могла помочь. Это сделало лишь отсутствие монарха; Республика продержалась в течение пяти месяцев, а не будь измены и закулисных маневров, французы держались бы дольше.
Третий момент: обнаружилось, что буржуазная республика в Европе стала невозможной. Буржуазное правительство не осмеливается идти на то, чтобы принимать необходимые революционные меры для обороны. Республика является только политической формой для развития мощи рабочего класса. Последние выборы. во Франции и поведение буржуазии в Германии доказывают, что буржуазия предпочитает военный деспотизм республике. В Англии тот же страх. Республиканские принципы и буржуазное правительство уже несовместимы.
Перехожу теперь к самой войне. После капитуляции Седана Бисмарк оказался в затруднительном положении. Король * каверял германский парламент и французский народ, что воюет только против Наполеона в целях самообороны. Но после Седана война для пруссаков столь же мало походила на самооборону, как это было вначале у французов. Я знаю, что Бисмарк так же стремился к войне, как и Наполеон, самозащита была лишь предлогом. Но после Седана ему понадобился новый предлог. Немецкая буржуазия колебалась — не пора ли остановиться, но Бисмарк увидел, что во Франции нет признанного правительства, с которым можно было бы заключить мир, поэтому для заключения мира он должен идти на Париж. С его стороны было верхом наглости рассуждать о том, какое правительство будет признано французами, а какое нет, но это отвечало его цели. Денежные воротилы всегда поклоняются успеху, а так как немецкая буржуазия испугалась Республики, Бисмарк заручился ее поддержкой, в поддержке же аристократии он был уверен заранее. Не в интересах Бисмарка было, чтобы Англия признала Республику, потому что Англия была единственной державой, которая могла бы выступить против него, но он рассчитывал на Гладстона и династические связи. Быть тещей германского императора ** дело нешуточное, и Англия последовала по стопам Священного союза. Когда рабочие делегаты напомнили Гладстону о той поспешности, с кото-
• — Вильгельм I. Ред. •* Намек на королеву Викторию. Ред.
530
ПРИЛОЖЕНИЯ
рой английское правительство признало Наполеона, Гладстон морочил им голову, передернув даты и смешав признание Наполеона Пальмерстоном после государственного переворота с признанием его правительством Дерби после плебисцита. Он сказал рабочим, что сделал максимум возможного, и поставил себе в заслугу сохранение дипломатических отношений с Францией. Он мог бы в этом вопросе пойти так же далеко, как Америка: Утверждая, что Англия может применять за границей только моральную силу, его коллеги Брус, Лоу, Кардуэлл тем самым выступали враждебно против Республики. Единственное место, где Англия может применять физическую силу, — это Ирландия. К тому же немецкой прессе приказали поносить Англию за то, что она продает французам различные припасы. Когда Бернсторф потребовал от Гранрилла объяснений, тот уклонился и заявил, что расследует это дело, а затем выяснилось, что все было правомерно и законно. Он знал это и раньше, но не осмелился сказать. Затем британское правительство по настоянию Бернсторфа конфисковало французский кабель, что впоследствии английский судья объявил незаконным. После капитуляции Меца Россия решила, что настало время принять участие в событиях, и денонсировала Парижский трактат. Немедленно после этого был денонсирован Люксембургский до"-говор, и Румыния водворилась в Дунайских княжествах *. Все это были выпады против Англии. А что сделал Гладстон? Он отправил специального посла к Бисмарку, чтобы проконсультироваться. Бисмарк посоветовал созвать конференцию в Лондоне, но даже Гладстон почувствовал, что без Франции этого не стоит делать, потому что без Франции страны, денонсировавшие договор, будут в большинстве. Но Францию нельзя было допустить, не прианав Республику, и поэтому Бисмарк должен был помешать этому признанию. Когда Оберон Герберт сделал об этом эапрос Гладстону в палате общин, тот снова хитрил, подтасовывал факты и отвергал самые важные из них. Святоши всегда много грешат. Из Синей книги видно, что, когда английское правительство просило паспорт для Фавра, Бисмарк ответил, что Франция недееспособна в международном отношении и, пока это не будет устранено, бесполезно принимать какие-либо шаги для допущения ее на конференцию. Непризнание Французской республики было средством изолировать английское правительство.
* В записи неточность: в газетном отчете в « Eastern Post » 19 февраля 1871 г. ето место изложено следующим образом: «Сразу же последовали денонсация Люксембург ского договора и пункты соглашения между Бисмарком и румынским князем, касаю щиеся Дунайских княжеств». Рев.
ПРИЛОЖЕНИЯ
531
21 февраля 1871 г.
Гражданин Маркс затем обращает внимание Совета на неряшливое составление отчета о его речи в « Eastern Post». Если бы его имя в отчете не было переврано, он счел бы своим долгом написать редактору. В отчете говорится, что «с момента провозглашения Республики все во Франции стали восторженными республиканцами, но признания не последовало, и наступила реакция». Это сущий вздор. Напротив, он указывал, что Республика была признана Италией, Швейцарией, Испанией, Бельгией и другими странами и что энтузиазм народа был так велик, что .противники Республики вынуждены были прикинуться ее сторонниками; в частности, он упомянул о том, что судья Верховного суда в Блуа изображал из себя республиканца. Далее в отчете говорится, что «буржуазия не была заинтересована в том, чтобы содействовать успеху Республики, она хорошо знала, что рано или поздно Республика вынуждена будет заняться социальным вопросом». Это совершенно отлично от того, что им было сказано, а именно, что Республика должна стать социалистической. Затем в отчете следует: «никто из сторонников войны не доказал, что признание Республики является первым и самым необходимым условием», тогда как должно быть «не первым условием».
Что касается его замечаний на выступления других ораторов, то автор отчета не потрудился указать, кто именно говорил, так что трудно разобрать, кто что сказал. Приписанное ему замечание о гражданине Коне равносильно оскорблению. Далее в отчете говорится, что «именно отсутствие монарха воодушевило народ», а он ясно сказал: «отсутствие монархии», что далеко не одно и то же. Сам черт не разберет такие отчеты. Далее утверждается, что Англия применяет «больше [ more] силы» за границей, — это явная опечатка, должно быть «моральную [ moral] силу».
Далее в отчете Бисмарку приписываются слова, будто французы не признали этого правительства, и говорится, что с его стороны было верхом наглости рассуждать о том, какое правительство признают французы. И вместе с тем ни слова не сказано об его, Маркса, заявлении, что все во Франции признали правительство и повинуются ему, а со стороны Бисмарка было верхом наглости утверждать обратное.
В отчете сообщается также, что допущение Франции на конференцию было бы равносильно ее признанию. Это замечание принадлежит наемному писаке, а не ему (Марксу); вывод же совершенно извращен: правительство было недееспособно в меж-
532
ПРИЛОЖЕНИЯ
дународном смысле именно потому, что оно не было признано. К тому же отчет расходится с протоколом. Подобные отчеты могут только принести вред, и если еще что-нибудь в этом роде будет напечатано, он потребует, чтобы отчеты больше не публиковались.
7 марта 1871 г.
Затем гражданин Маркс возвращается к вопросу о Па рижской декларации. Он заявляет, что если английский рабочий класс не скажет своего слова, то эту декларацию могут включить в какой-нибудь договор в качестве отдельной статьи; английский народ не должен быть обезоружен в своей внешней политике; не теряя времени, надо было бы учредить английский комитет. Для морской державы единственный способ ведения войны заключается в действиях против внешней торговли неприятеля. Америка не присоединилась к Парижской декларации, но французы соблюдали ее, и именно поэтому французский флот сделал так мало. Теперь подбивают Голландию, чтобы она предложила включить в договор в качестве составной его части то, что прежде было только декларацией. На море могут быть уничтожены только товары, а в сухопутной войне уничтожается значительная часть основного капитала, например, мосты, здания и т. д., для восстановления которых требуются годы. Каперские свидетельства — другое дело: каперы — это франтиреры морей. Правящий класс Англии упустил позиции, обеспечивавшие национальную оборону извне; в такой момент, когда Франция обессилена, Англия выступает как представительница Западной Европы; английский рабочий класс должен будет вернуть эти позиции.
14 марта 1871 г.
Затем гражданин Маркс возобновляет прерванные прения. Он говорит, что чрезвычайно важно найти силу, которая противостояла бы военным державам континента. Эти державы снова выступают в роли Священного союза, и Англия — един ственная держава, способная противостоять им, но только при условии, что она вернет себе свои права на морях. Конфискация товаров, перевозимых на нейтральных судах, подорвала бы через несколько недель внешнюю торговлю континентальных держав, и тогда германская буржуазия стала бы гораздо менее воинственной, чем была в последнее время. Этот способ военных действий более гуманен, чем обычное ведение войны.
ПРИЛОЖЕНИЯ
533
Парижской декларацией сухопутные державы фактически сказали Англии: ты должна воевать по-нашему, а не по-своему. Было много возражений против каперов, но каперы не хуже франтиреров, к тому же каперство требует меньшего вмешательства правительственной власти. Когда Батлер агитировал за войну против Англии, говорили, что Америка не может вести войну без флота, на что Батлер возразил: нам не нужно флота, требуются только каперы. Нынешним правителям Англии безразлично, располагают ли они этой силой или нет, но они не всегда будут править страной; необходимо, чтобы английский народ имел в своих руках силу, которую он мог бы использовать в защиту народов континента. Стюарт Милль был в свое время сторонником Парижской декларации, но, ознакомившись с некоторыми присланными ему документами, стал высказываться против нее. Весь ход Черноморской конференции был направлен на то, чтобы добиться утверждения этой декларации. Она до сих пор была признана только в частном порядке Пальмерстоном и Кларендоном, но теперь, по-видимому, декларация включена в подписанный вчера протокол соглашений.
Гражданин Энгельс заявляет, что не находит нужным говорить пространно, так как гражданин Уэстон, на замечания которого он хотел бы возразить, отсутствует. Что касается Парижской декларации, то гражданин Маркс уже подчеркнул, что это было лишь частное соглашение. Она не была апробирована ни отдельным государственным деятелем, ни парламентом, никто не объявлял ее обязательной. В 1862 г Корнуолл Льюис объявил ее необязательной. В 1867 г. нынешний лорд Дерби в ответ на запрос Стюарта Милля заявил, что она только в известной мере обязательна, но что интересы самообороны важнее любых обязательств. Декларация не была никогда ратифицирована, и ее значение основывается только на частном письме одного министра. Она никого не связывает. Это явствует из того, что при каждой войне воюющие державы принимали на себя определенные обязательства специальным соглашением. Но конференция подписала протокол о том, что отныне договоры и соглашения считаются обязательными до тех пор, пока их не отменят с общего согласия. Война между Францией и Германией доказала, что современные крепости недостаточно защищены от артиллерийского обстрела и что от вынесенных вперед фортов может зависеть спасение самих крепостей; некоторое количество фортов предполагается строить в Польше. Россия продолжает вооружаться с неутомимым усердием, ее вооруженные силы почти приведены в боевую готовность. Орга-
534 приложения
низуются телеграфные и санитарные отряды. На английском рынке уже полностью размещен русский заем на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов. Это, вероятно, последние английские деньги, которые получит Россия. До конца лета может вспыхнуть война — дело как будто не идет к миру. Касаясь отдельных выступлений в прениях, Энгельс замечает, что разногласия вызвал только один пункт: достаточно ли было бы одной английской армии для вооруженного вмешательства. Сильных выражений, о которых говорил гражданин Уэстон, он, Энгельс, не употреблял. Затем Энгельс еще раз доказывает, что англичане могут выставить армию не более чем в 30 ты сяч человек; единственный раз, в сражении при Альме, участвовали 33 тысячи англичан, но потом за все время Крымской войны они уже ни разу не смогли снова достигнуть этой цифры. Это соответствует одному прусскому армейскому корпусу, и нелепо предполагать, что такая армия могла бы перетянуть чашу весов. Англичане никому не уступают в храбрости; личная храбрость встречается в каждой стране, однако качества у бойцов разные и различно проявляются. Одни лучше под ходят для нападения, другие — для обороны. Ирландцы незаменимы для легкой пехоты, англичане — для... * но англий ское командование использует англичан как ирландцев, а ирландцев как англичан. Английская система военного обуче ния столь несовершенна и устарела, что до нынешней войны солдаты в Олдершоте даже не проходили службы сторожевого охранения. Здесь говорили, что 100 тысяч англичан не дали бы запереть себя в Париже. Но как могли бы солдаты, вроде наших волонтеров, воспрепятствовать этому? У французов было вполне достаточно таких солдат, и если бы 400 тысяч англичан-волонтеров оказались запертыми так же, как французы в Париже, под командованием таких же самонадеянных болванов и предателей, то они действовали бы так же, как и французы.
В заключение он говорит, что Англия не может вести войну на равных условиях с континентальными державами, да этого и не следует желать. Английский солдат обходится в 100 фунтов стерлингов в год, а прусский — только в 30 фунтов. Поэтому Пруссия в состоянии на те же деньги содержать втрое больше солдат, чем Англия, так что последняя совсем не может соперничать с сухопутными державами и, надо надеяться, никогда и не попытается это делать.
* В записи пропуск, и печатном отчете о заседании далее идут слова: «тяжелой пехоты». Ред.
приложений 535
Первый и второй пункты предложения, выдвинутого в на чале прений, сняты. Единогласно принимается третий пункт, гласящий:
Англия неспособна не только эффективно вмешиваться в события, происходящие на европейском континенте, но и не может защищать себя от милитаристских монархий континентальной Европы, пока она не вернет себе свободу использовать свою действительную военную силу, то есть свой морской флот, а это она может сделать, только денонсировав Парижскую декларацию.
Впервые опубликовано на русском Печатается по тексту протокольной
языке в книге «Генеральный Совет книги Генерального Совета
Первого Интернационала. 1870—1871». „а
до j9Sj Перевод с английского
536 ]
* ЗАПИСЬ РЕЧИ К. МАРКСА 25 АПРЕЛЯ 1871 ГОДА °31
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
Гражданин Маркс оглашает письмо секретаря Нью-Йорк ского комитета *, в котором дан следующий перечень секций, представленных в комитете делегатами:
1. Всеобщий германский рабочий союз (рабочий союз № 5).
2. Французская секция Международного Товарищества, Нью-Йорк.
3. Общество чешских рабочих, Нью-Йорк.
4. Социально-политическое рабочее общество № 1, Чикаго.
5. Социально-политическое рабочее общество № 2, Чикаго.
6. Социал-демократическое рабочее общество, Нью-Йорк.
7. Ирландская секция Международного Товарищества Рабочих, Нью-Йорк.
8. Социал-демократическое общество, Уильямсбург, Нью-Йорк (немецкое).
Секции, как сообщается, работают хорошо; ирландская быстро растет и пытается наладить совместные действия с Ирландской конфедерацией в Соединенных Штатах. Предприняты успешные шаги для основания еженедельной немецкой газеты. Рабочий союз принял решение утверждать только тех делегатов, которые представляют труд **, а не капитал. Национальный рабочий союз теряет почву среди нью-йоркских организаций, многие из которых отказались послать своих представителей на очередной съезД.
Рабочая ассамблея штата Нью-Йорк провела свою ежегод ную сессию в Олбани и вынесла резолюцию, в которой одобряет
• — Ф. А. Зорге. Ред. ** Далее начинается текст недоставапшсй страницы протокольной книги. Ред.
ПРИЛОЖЕНИЯ
537
и принимает к руководству принципы Международного Товарищества Рабочих; резолюция заканчивается словами «Рабочие всех стран, соединяйтесь!».
Ведется работа над составлением обращения к рабочим обществам и тред-юнионам и установлена переписка с пенсильванской ассоциацией взаимопомощи горняков. Организованная политическая борьба рабочих нанесла удар верховенству республиканской партии в Нью-Хемишире на недавних выборах. Среди коренных американцев образовалась секция, которая направила своего делегата [в Нью-Йоркский комитет]. Получен вексель па 2 фунта стерлингов, которые составляют очередные взносы 203 членов и оплату за отчеты о конгрессе.
Гражданин Маркс сообщает, что прибыли письма из Парижа, одно от 12-го, другое от 15-го числа 632, но получены они лить в субботу. Один француз, принадлежащий к Коммуне, приехал в Лондон для деловых операций на бирже и посетил его [Маркса], чтобы заручиться его помощью. Исключение Толена действительно имело место 633, в соответствии с чем Маркс вносит следующую резолюцию:
«Принимая во внимание, что на утверждение Генерального Совета поступила резолюция Федерального совета парижских секций об исключении гражданина Толена из Товарищества за то, что этот гражданин, будучи избранным в Национальное собрание в качестве представителя рабочего класса, самым трусливым образом предал дело рабочего класса;
принимая во внимание, что место каждого французского члена Международного Товарищества Рабочих бесспорно в рядах Парижской Коммуны, а не в узурпаторском и контрреволюционном Версальском собрании, —
Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих утверждает резолюцию Парижского федерального совета и объявляет гражданина Толена исключенным из Международного Товарищества Рабочих».
Резолюция, поддержанная Эккариусом, принимается единогласно.
Гражданин Маркс продолжает свою речь. Он говорит, что дал понять делегату Коммуны, какой большой ошибкой было не присылать нам ни писем *, ни газет. В дальнейшем это будет исправлено, так как деловые сношения между Коммуной и Лондоном будет поддерживать курсирующий агент, который возьмет на себя также обеспечение нашей связи.
* Здесь кончается текст недостававшей страницы протокольной книге. Ред.
538
ПРИЛОЖЕНИЯ
Серрайе и Дюпон выдвинуты кандидатами на вакантные места в 17-м округе. Серрайе написал, что Дюпона несомненно изберут, но со времени выборов он ничего не сообщал; возможно, впрочем, что он писал в Манчестер. Оказывается, что далеко не все отправленные письма дошли по назначению.
Феликс Пиа и Везинье клевещут на Серрайе и Дюпона, а когда Серрайе пригрозил им судом, они стали отрицать это. Необходимо сейчас же написать в Париж и объяснить, по каким причинам Пиа клевещет на Серрайе и Дюпона.
По предложению Моттерсхеда Марксу поручается это сделать в34.
Полученные письма были отправлены Лафаргом за линией парижских укреплений аяь, вот почему их доставка железной дорогой так затянулась: и французские, и немецкие власти тщательно их просмотрели. Большая часть содержавшейся в них информации устарела, но о некоторых фактах в печати не говорилось. Оказывается, что в провинции так же мало известно о том, что творится в Париже, как и во время осады. Кроме тех мест, где происходят бои, в городе никогда еще не было так спокойно. Значительное число буржуа вступило в ряды национальной гвардии Бельвиля. Крупные капиталисты бежали, а мелкий торговый и ремесленный люд выступил вместе с рабочими *. Невозможно себе представить энтузиазм народа и национальной гвардии: версальцы — глупцы, если думают, что смогут вступить в Париж. Парижане не надеются на восстание в провинции и знают, что им противостоят превосходящие силы, но это их не пугает; опасаются они прусской интервенции и нехватки продовольствия. Декреты о квартирной плате и коммерческих векселях — поистине мастерский ход: без них три четверти торговцев и ремесленников были бы разорены. Убийство Дюваля и Флуранса пробудило жажду мщения. Семья Флуранса и Коммуна тщетно направили поверенного, чтобы точно выяснить обстоятельства их смерти **. Флуранс был убит в жилом доме ***.
Получены также кое-какие сведения о том, как фабрикуются телеграммы. Когда Прото просматривал финансовые отчеты правительства национальной обороны, он обнаружил, что уплачены деньги за изготовление усовершенствованной переносной
* В отчете, опубликованном в « Eastern Post », конец фразы дан в следующем виде: «а лавочники и ремесленники не очень жалуют всрсальцев». Рев.
•* В « Eastern Post »: «установить причину смерти, для чего потребовалось бы расследование, но версальцы наотрез отказались». Ред.
••• В « Eastern Post »: «Флуранс пал не в открытом бою, а от руки заведомого убийцы, застигшего его в жилом доме». Ред.
ПРИЛОЖЕНИЯ
539
гильотины *. Гильотина была найдена и публично сожжена по распоряжению Коммуны **. Газовая компания была должна муниципалитету более 1 миллиона франков, но не проявила никакого желания погасить долг, пока на ее имущество не был наложен арест, лишь тогда был получен вексель на эту сумму на Французский банк. Телеграммы и сообщения корреспондентов изобразили все это в совершенно ином свете ***. Наибольшее раздражение вызывает то, что Коммуна управляет так дешево. Высшие должностные лица получают только по 6 000 франков в год, остальные — только заработную плату рабочего ****. Воззвание ***** будет готово к следующему заседанию.
Частично напечатано в газете « The Печатается по протокольной записи,
Eastern Post » Л5 135, 29 апреля 1871 г. сверенной с текстом газеты
Перевод с английского
На русском языке полностью публикуется впервые
* В « Eastern Post »: «Одним из первых шагов членов Коммуны было ознакомле ние с документами и регистрационными книгами своих предшественников. В отчетах министерства внутренних дел правительства национальной обороны обнаружена запись о выплате денег за изготовление усовершенствованной переносной гильотины. Это новое орудие, предназначенное для массового уничтожения парижских рабочих, изготовлялось в то самое время, когда патриоты, ныне находящиеся в Версале, притворялись, будто защищают Париж от пруссаков». Ред.
•* Далее в « Eastern Post » стоит: «Телеграммы и корреспонденции изображали дело так, будто народ сжег их, чтобы защититься от Коммуны». Ред.
••• В « Eastern Post » весь эпизод передан следующим образом: «Другим измыш лением является сообщение об «ограблении» газовой компании. Финансовый отчет муниципалитета показывает, что газовая компания собрала свыше 1 миллиона с жителей Парижа за пользование газом. Эта сумма числилась как задолженность компании муниципалитету, хотя компания располагала достаточным фондом во Французском банке. После отказа компании выплатить эту сумму Коммуне, последняя направила в помещение газовой компании судебного исполнителя; обнаружив, что ее имущество и сейфы описаны, компания выписала чек на Французский банк на всю сумму, и ей возвратили сейф и другие описанные вещи. Эти два факта показательны». Ред.
**•* В « Eastern Post »: «Оплата рядовых чиновников равна заработной плате квалифицированного рабочего, а жалованье высших чиновников не превышает 240 фунтов стерлингов в год. Ясно, что это все простолюдины, среди них не найдется ни одного джентльмена: только представьте себе джентльмена, который дает министерский прием или обед у лорд-мэра, получая 240 фунтов стерлингов в год!». Ред.
**•** К Маркс. «Гражданская война во Франции». Ред.
540 ]
* ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ Ф. ЭНГЕЛЬСА
В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОБЕРТА ОУЭНА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 0 МАЯ 1871 ГОДА
Гражданин Энгельс поддерживает это предложение взв. Он говорит, что почти ничего но знает об инициаторах праздно вания, но относительно Роберта Оуэна не может быть никаких сомнений. В его сочинениях встречаются мысли, не устаревшие до сих пор. Он исходил из своих собственных идей; будучи перво начально сам фабрикантом, он первым выступил против своего класса, чтобы положить конец позорной системе эксплуатации женщин и детей на фабриках. Энгельс считает, что Интернационал должен быть представлен на юбилейном собрании.
Гражданин Энгельс, возражая Моттерсхеду вЯ7, говорит, что Локк был деистом, а Оуэн — материалистом. Филосо фия Локка привела французов к материализму. Энгельс сомне вается в том, что Оуэн был знаком с более старыми французскими писателями. Энгельс совершенно не согласен с Моттерсхедом. Оуэнистское движение началось еще в 1809 г. независимо от чего-либо написанного ранее. В 1812 г. Оуэн напечатал свою книгу о браке, а в 1818 г. отправился на конгресс монархов в Ахене, чтобы убедить их в необходимости провозгласить коммунизм. Что в дальнейшем оуэнизм приобрел религиозную окраску, до некоторой степени верно, но много внимания он уделял социальным реформам. Большинство оуэнистов перешло на сторону буржуазии. Они принадлежали в свое время к чартистам, но были вынуждены сделаться профессиональными аги таторами и стали уже менее надежными людьми^ утратили вер-
ПРИЛОЖЕНИЯ
541
ность своим принципам. Было бы очень жаль, если бы чествование было проведено таким образом, чтобы Совет не мог при нять в нем участие.
Гражданин Энгельс говорит, что не хотел сказать, будто
все социалисты были чартистами,
но
некоторые из тех, кого он
знал, ими были.
Впервые опубликовано па русском Печатается по тексту протокольной
языке в книге «Генеральный Совет книги Генерального Совета
Первого Интернационала. 1870—1871», „а
М. 1965 Перевод с английского
542 ]
* ЗАПИСЬ РЕЧИ К. МАРКСА О ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ
ИЗ ГАЗЕТНОГО ОТЧЕТА О ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 20 ИЮНЯ 1871 ГОДА
Гражданин Маркс выражает свое удовлетворение по поводу того, что рабочие на континенте откровенно высказались о Коммуне. В Женеве, Брюсселе, Мюнхене, Вене и Бер лине состоялись собрания, на которых были осуждены зверства [правительства] Тьера—Фавра. Маркс обращает также внима ние Совета на опубликование французскими газетами ряда так называемых манифестов, приписываемых Парижской секции Интернационала. Все они являются фальшивками, сфабрикованными французской полицией, чтобы поймать на удочку неосторожных людей; это показывает, до каких низостей может дойти презренное правительство в38.
Напечатано в газете « The Eattern Post » Печатается по тексту газеты
[543
* ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ К. МАРКСА С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ « THE WORLD» e 39
Лондон, 3 июля [1871]
...Я прямо приступил к делу. Мир, сказал я, как видно, плохо представляет себе, что такое Интернационал; к нему питают сильную ненависть, но вряд ли сумели бы объяснить, что именно ненавидят. Некоторые люди, считающие, что сумели глубже других проникнуть в тайну Интернацио нала, утверждают, что это своего рода двуликий Янус, с честной и доброй улыбкой рабочего на одном лице и с усмешкой злодея-заговорщика на другом. Я попросил Маркса пролить свет на тайну, раскрыть которую бессильны подобные теории. Ученый засмеялся, ему стало смешно, как мне показалось, при мысли, что мы его так боимся.
Тут нет никакой тайны, милостивый государь, начал Маркс в очень изысканной форме диалекта Ганса Брайтманамо, разве только тайна глупости людей, которые упорно игнорируют тот факт, что наше Товарищество действует открыто и что подробнейшие отчеты о его деятельности печатаются для всех, кто пожелает их прочесть. Вы можете купить наш Устав за пенни, а, потратив 1 шиллинг на брошюры, узнаете о нас почти все, что знаем мы сами.
Я. Почти — это весьма возможно; но не будет ли в том, чего я не узнаю, заключаться самое важное? Буду вполне откровенен с Вами и Поставлю вопрос так, как он представляется постороннему наблюдателю: не свидетельствует ли это всеобщее недоброжелательное отношение к Вашей организации о чем-то большем, чем о невежественной злобе толпы? И не позволите ли Вы спросить Вас еще раз, несмотря на сказанное Вами, что такое Интернационал?
Д-р Маркс. Вам достаточно взглянуть на людей, из которых он состоит, на рабочих.
Я. Да, но солдат не всегда показателен для того государства, которое его использует. Я знаю некоторых из ваших членов и вполне допу скаю, что они не из того теста, из которого делаются заговорщики. К тому
544
ПРИЛОЖЕНИЯ
же тайна, известная миллиону человек, уже не была бы тайной, но что, если эти люди только орудия в руках какой-нибудь смелой и — Вы, надеюсь, простите меня, если я добавлю, — не слишком разборчивой в средствах коллегии?
Д-р Маркс. Ничто не доказывает, что это так.
Я. А последнее восстание в Париже?
Д-р Маркс. Во-первых, я попрошу Вас доказать, что тут был вообще какой-нибудь заговор, что все происшедшее не было закономерным следствием сложившихся обстоятельств. А если исходить из существования заговора, то чем может быть доказано участие в нем Международного Товарищества?
Я. Наличием многочисленных членов Товарищества в органах Ком-муны.
Д-р Маркс. В таком случае ото был также и заговор франкмасонов, потому что их индивидуальное участие в деятельности Коммуны было далеко не малым. Я, право, по удивился бы, если бы римский папа объявил все восстание делом рук франкмасонов. Но попытайтесь найти иное объяснение. Восстание в Париже было совершено рабочими Парижа. Наиболее способные рабочие неизбежно должны были стать его вождями и организаторами; но наиболее способные рабочие как раз являются членами Международного Товарищества. Однако Товарищество, как таковое, никак нельзя делать ответственным за их действия.
Я. Мир смотрит на это иначе. Люди толкуют о тайных инструкциях из Лондона и даже о денежной поддержке. Можно ли утверждать, что открытый характер деятельности Товарищества, на который Вы сосла лись, исключает возможность всяких тайных сношений?
Д-р Маркс. Возникала ли когда-нибудь организация, которая вела бы свою работу без использования наряду с гласными также и негласных средств связи? Но говорить о тайных инструкциях из Лондона, как о декретах в вопросах веры и морали, исходящих из какого-то центра папского владычества и интриг, значит совершенно не понимать сущности Интернационала. Для этого потребовалась бы централизованная форма управле-' яия Интернационалом, в действительности же форма его организации предоставляет как раз наибольшую свободу местной самодеятельности и независимости. В самом деле, Интернационал вовсе не является собственно правительством рабочего класса; он представляет собой скорее объединение, чем командующую силу.
Я. Объединение с какой целью?
Д-р Маркс. С целью экономического освобождения рабочего класса посредством завоевания политической власти; с целью
ПРИЛОЖЕНИЯ
545
использования этой политической власти для осуществления социальных задач. Наши цели должны быть настолько широкими, чтобы включать в себя все формы деятельности рабочего класса. Придать им специальный характер значило бы приспособить их к потребностям только одной какой-нибудь группы рабочих, к нуждам рабочих одной какой-нибудь нации. Но как можно призвать всех людей к объединению в интересах немногих? Если бы наше Товарищество вступило на этот путь, оно потеряло бы право называться Интернационалом. Товарищество не предписывает определенную форму политических движений; оно только требует, чтобы эти движения были направлены к одной дели. Оно представляет собой сеть объединенных обществ,раскинутую по всему миру труда. В каждой части света наша задача представляется с какой-либо особой стороны, и рабочие там подходят к ее выполнению своим собственным путем. Организации рабочих не могут быть совершенно одинаковыми во всех деталях в Ньюкасле и Барселоне, в Лондоне и Берлине. В Англии, например, перед рабочим классом открыт путь для проявления своей политической мощи. Восстание было бы безумием там, где мирная агитация может привести к цели более быстрым и верным путем. Во Франции сотни репрессивных законов и смертельный антагонизм между классами делают, по-видимому, неизбежным насильственную развязку социальной войны. Но выбрать, каким способом добиться развязки, должен сам рабочий класс этой страны. Интернационал не берется диктовать что-либо в этом вопросе, и едва ли даже советовать. Но к каждому движению он проявляет свое сочувствие и оказывает свою помощь в рамках, установленных его собственным Уставом.
Я. А каков характер этой помощи?
Д-р Маркс. Объясню Вам это на примере. Одной из наиболее обычных форм движения за освобождение является стачка. В прежнее время, когда возникала стачка в одной стране, ее срывали посредством ввоза рабочих из другой страны. Интернационал почти совсем положил конец такому положению. Он получает сведения о предполагаемой стачке и распространяет эти сведения среди своих членов, которые сразу же узнают, что местность, охваченная борьбой, должна быть для них запретной зоной. Хозяевам приходится, таким образом, иметь дело только со своими рабочими. В большинстве случаев стачечники не нуждаются ни в какой другой помощи. Необходимые денежные средства собираются по подписке среди них самих или среди членов обществ, с которыми они более
546
ПРИЛОЖЕНИЯ
непосредственно связаны; но если их положение оказывается слишком тяжелым и если стачка получила одобрение Товари щества, стачечники снабжаются деньгами из общего фонда. Таким образом была, например, выиграна на днях забастовка сигарочников Барселоны ш. Но у Товарищества нет материальной заинтересованности в стачках, хотя оно и поддерживает их при известных условиях. В денежном отношении оно ничего не может выиграть от них, а потерять может легко. Резюмируем вкратце суть дела. Рабочий класс остается неимущим среди возрастающего богатства, нищим среди возрастающей роскоши. Материальные лишения уродуют рабочих как в моральном, так и в физическом отношении. Рабочие не могут рассчитывать на постороннюю помощь. Поэтому перед ними возникла повелительная необходимость взять свое дело в собственные руки. Рабочие должны изменить существующие отношения между ними, с одной стороны, и капиталистами и земельными собственниками — с другой, а это значит, что они должны преобразовать общество. Такова общая цель любой из известных рабочих организаций; Лига земли и труда 642, профессиональные союзы и общества взаимопомощи, кооперативные лавки и кооперативное производство — все это лишь средства для достижения этой цели. Установить полную солидарность между этими организациями — дело Международного Товарищества. Его влия ние начинает ощущаться повсюду. Две газеты пропагандируют его взгляды в Испании, три — в Германии, столько же — в Австрии и Голландии, шесть — в Бельгии, шесть — в Швейцарии. А теперь, когда я рассказал Вам, что такое Интернационал, Вы, пожалуй, сумеете сами составить себе мнение о его мнимых заговорах *.
Я. Я не совсем Вас понимаю.
Д-р Маркс. Разве Вы не видите, что старое общество, бессильное встретить Интернационал его же оружием — дискуссией и организацией, вынуждено прибегать к мошенничеству, приклеивая ему ярлык заговора?
Я. Но французская полиция утверждает, что в состоянии доказать причастность Интернационала к последнему делу, не говоря уже о предыдущих попытках.
Д-р Маркс. Что ж, поговорим об этих попытках, если не возражаете, потому что по ним лучше всего можно судить о серьезности всех обвинений в заговоре, предъявляемых Интер-
* Далее следует текст, не вошедший в т, 17 настоящего издания. Ред.
ПРИЛОЖЕНИЯ
547
националу. Вы помните предпоследний «заговор». Было объявлено о проведении плебисцита 643. Многие из тех, кому предстояло голосовать, заведомо колебались. Они уже не видели прежней пользы в императорской власти, так как утратили веру в существование той угрозы, от которой эта власть якобы спасла общество. Требовалось новое пугало. Полиция взялась его найти. Питая ненависть ко всем рабочим организациям, она, естественно, не прочь была навредить Интернационалу. Родилась счастливая мысль: нельзя ли в качестве пугала избрать Интернационал и таким образом одним ударом дискредитировать Товарищество и послужить делу империи? Из этой счастливой мысли вырос смехотворный «заговор» против жизни императора — как будто мы собирались убить жалкого старика. Арестовали руководящих деятелей Интернационала. Сфабриковали улики, готовили дело для передачи в суд, а тем временем провели свой плебисцит. Но задуманная комедия слишком очевидно представляла собой всего лишь нелепый, грубый фарс. Просвещенная Европа, наблюдая этот спектакль, ни на минуту не была введена в заблуждение относительно его характера, и лишь голосовавшие французские крестьяне дали себя одурачить. Ваши английские газеты сообщили о начале этого жалкого дела, но забыли отметить его конец. Французские судьи, признав для соблюдения этикета существование заговора, были вынуждены, однако, объявить, что ничто не доказывает причастность к нему Интернационала. Поверьте мне, второй заговор подобен первому. Французский чиновник снова трудится в поте лица. Ему приказано найти объяснение величайшего гражданского движения, которое когда-либо видел мир. Сотни знамений времени должны были бы подсказать правильное объяснение — рост сознательности среди рабочих, роскоши и паразитизма среди тех, кто стоит у власти, развертывающийся сейчас исторический процесс окончательного перехода власти от одного класса к народу — явное соответствие времени, места и обстановки для великого освободительного движения. Но для того чтобы увидеть это, чиновнику надо бы быть философом, а он всего лишь mouchard *. Поэтому, следуя закону своего бытия, он хватается за объяснение mouchard'a — «заговор». Его старый запас сфабрикованных документов снабдит его доказательствами, и на этот раз напуганная Европа поверит басне.
Я. Европа едва ли может поступить иначе, видя в каждой французской газете сообщения об этом деле.
• — полицейский агент. Рев.
548
ПРИЛОЖЕНИЯ
Д-р Маркс. Каждая французская газета! Смотрите, вот одна из них (берет «La Situation»). Судите сами о ценности ее свидетельства с точки зрения фактов. (Читает.) «Доктор Карл Маркс, член Интернационала, арестован в Бельгии при попытке пробраться во Францию. Лондонская полиция давно уже следит за обществом, с которым он связан, и теперь принимает активные меры для его запрещения».
Две фразы, два вымысла. Вы воочию можете убедиться в этом. Как видите, вместо того чтобы пребывать в тюрьме в Бельгии, я нахожусь у себя дома в Англии. Кроме того, Вам, наверное, известно, что в Англии полиция так же мало может помешать Международному Товариществу, как Товарищество ей. Однако, и так бывает неизменно, сообщение обошло всю прессу на континенте, нигде не встретив опровержения, и его продолжали бы воспроизводить, даже если бы я прямо из Лондона разослал опровержения во всо газеты Европы.
Я. Часто ли Вы пытались опровергнуть такого рода ложные сообщения?
Д-р Маркс. Я пытался, пока не устал от этого напрасного труда. Чтобы показать, с какой грубой небрежностью фабрикуются эти сообщения, могу упомянуть, что в одном из них, как я видел, Феликс Пиа выдается за члена Интернационала.
Я. Разве это не так?
Д-р Маркс. В Товариществе вряд ли нашлось бы место для столь необузданного человека. Однажды он был настолько самонадеян, что выпустил от нашего имени опрометчивую прокламацию, от которой мы немедленно отмежевались *, хотя, следует воздать им должное, газеты, разумеется, оставили это опровержение без внимания **.
Я. А Мадзини тоже член Вашей организации?
Д-р Маркс (смеясь). О нет! Наши успехи были бы не очень велики, если бы мы не пошли дальше его идей.
Я. Вы меня удивляете. Я был уверен, что он является представителем самых передовых взглядов.
Д-р Маркс. Он представляет всего-навсего старую идею буржуазной республики. Мы же не хотим иметь ничего общего с буржуазией. Мадзини отстал от современного движения не меньше, чем немецкие профессора, которые, однако, до сих пор считаются в Европе апостолами развитой демократии буду-
• К. Маркс. Резолюция Генерального Совета по поводу выступления Ф. Пиа. Ред. " Здесь кончается текст, публикуемый впериые в настоящем томе. Ред,
ПРИЛОЖЕНИЯ
549
щего. Они были таковыми когда-то, может быть, до 1848 г., когда немецкая буржуазия, в английском понимании этого слова, едва достигла должного развития. Но теперь эти профессора перешли целиком на сторону реакции, и пролетариат больше не желает их знать.
Я. Некоторые полагают, что в вашей организации есть элементы позитивизма.
Д-р Маркс. Ни в коей мере. Среди пас есть позитивисты, есть и позитивисты, не принадлежащие к нашей организации и с успехом делающие свое дело. Но это отнюдь не заслуга их философии, которая не имеет ничего общего с идеей народной власти, как мы ее понимаем; эта философия стремится лишь заменить старую иерархию новой.
Я. Мне кажется в таком случае, что вождям современного интернационального движения пришлось выработать свою собственную фило софию, как они создали свое собственное Товарищество.
Д-р Маркс. Совершенно верно. Трудно ожидать, например, что мы могли бы добиться успеха в нашей войне против капитала, если бы стали строить нашу тактику, основываясь, скажем, на политической экономии Милля. Он проследил определенный тип отношений между трудом и капиталом. Мы надеемся показать, что возможно установить иные отношения *.
Я. А как насчет религии?
Д-р Маркс. По этому вопросу я не могу говорить от имени Товарищества. Сам я атеист. . Наверное, весьма неожиданно услышать подобное признание в Англии, но некоторым утешением служит мысль, что ни в Германии, ни во Франции нет необходимости делать это шепотом.
Я. И все же Вы расположили свою штаб-квартиру в этой стране?
Д-р Маркс. По очевидным причинам: право собраний здесь — установленная вещь. Оно, правда, существует в Германии, но связано с бесчисленными трудностями; а во Франции его нет уже много лет **.
Я. А Соединенные Штаты?
Д-р Маркс. Основные центры нашей деятельности находятся сейчас в старых европейских странах. Многие обстоятельства до сих пор препятствовали тому, чтобы рабочий вопрос приобрел
• Далее следует текст, не вошедший в т. 17 настоящего издания. Ред. ** Здесь кончается текст, публикуемый впервые в настоящем томе. Ред.
550
ПРИЛОЖЕНИЯ
всепоглощающее значение в Соединенных Штатах. Но эти обстоятельства быстро исчезают, и рабочий вопрос быстро выдвигается там на первый план, подобно тому как это было в Европе, вместе с ростом рабочего класса, отличного от остальных слоев общества и отделенного от капитала.
Я. По-видимому, в Англии ожидаемая развязка, какова бы она ни была, могла бы быть достигнута без обращения к насильственным средствам революции. Английский метод агитировать на митингах и в печати до тех пор, пока меньшинство не обратится в большинство, позволяет надеяться на это.
Д-р Маркс. Я в этом пункте не так оптимистичен, как Вы. Английская буржуазия всегда проявляла готовность принять решение большинства, пока она пользовалась монополией права голоса. Но поверьте, что в тот момент, когда она окажется в меньшинстве по вопросам, которые считает жизненно важными, мы будем иметь здесь новую войну рабовладельцев.
Напечатано а газете « The World » Печатается по тексту газеты
18 июля 1871 г, _ .
Перевод с английского
[ 551
* ЗАПИСЬ РЕЧИ Ф. ЭНГЕЛЬСА О ПОЛОЖЕНИИ В ИСПАНИИ
ИЗ ГАЗЕТНОГО ОТЧЕТА О ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 22 АВГУСТА 1871 ГОДА
Гражданин Энгельс сообщает, что члены Испанского федерального совета питают большие надежды в связи со сменой министерства, которая только что произошла в Испании. Ожидается, что преследованиям Интернационала будет положен конец, и тогда Товарищество быстро распространится по всему полуострову. Серьезные перемены произошли в рядах республиканской партии. В период провозглашения Коммуны в Париже лидеры республиканской партии в Испании, не зная о ее социальных принципах, выступили в ее поддержку. Но как только они поняли, что она означает нечто большее, чем движение за муниципальное самоуправление, то изменили свою позицию и осудили Коммуну. Это возмутило испанский рабо чий класс, составляющий основную часть республиканской партии. Когда у людей открылись глаза, они, не желая служить простыми орудиями, обратились к Интернационалу.
Гражданин Энгельс сообщает также, что гражданин Поль Лафарг, зять доктора Маркса и в прошлом член Генерального Совета, был арестован в Испании и под конвоем жандармов отправлен в Мадрид. Однако, не имея возможности выдвинуть против него какие-либо обвинения, правительство освободило его.
Напечатано в газете « The Eastern Печатается по тексту газеты
Post» M ISS, S6 августа 1871 г . „
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
552 J
•ЗАПИСЬ РЕЧИ К. МАРКСА ПРИ ОТКРЫТИИ
ЛОНДОНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА
17 СЕНТЯБРЯ 1871 ГОДА 644
Настоящая конференция является собранием делегатов различных стран, созванных ввиду чрезвычайного положения, чтобы обсудить совместно с Генеральным Советом срочные проблемы, возникшие в связи с этим чрезвычайным положением. Но эта конференция не может ни назначить новый состав Генерального Совета, ни перенести место пребывания Генерального Совета, ни внести изменения в основной Устав Товарищества. В ее компетенцию входит принять решения по вопросам тактики, политики и организации в рамках существующего Устава и наметить мероприятия для более успешного проведения в жизнь этого Устава.
Напечатано в газете « The Scattman » Печатается по тексту газеты
Л» S 7 S 9, В октября 1871 г. _ а
" Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
[ 553
СООБЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ИНТЕРНАЦИОНАЛА
ГРАЖДАНИНУ ВЕРМЕРШУ,
РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «QUI VIVE!»
Лондон, 11 ноября 1871 г. Гражданин,
Появление в «Qui vive!» резолюций конференции делегатов Международного Товарищества Рабочих, состоявшейся в Лондоне, уже вызвало различные, отнюдь не доброжелательные комментарии, поэтому прошу дать мне возможность публично заявить, что эта публикация появилась помимо Генерального Совета. Более того, к тому времени, когда Совет смог напечатать эти резолюции, часть их уже была опубликована вашей газетой 645.
Мне слишком хорошо известно, как пристально следят наши враги за выступлениями Товарищества, спеша разгласить их в искаженном виде, чтобы я мог предоставить эти резолюции для опубликования, не устранив предварительно всякую возможность двусмысленного истолкования следующего места в их тексте: «Конференция заявляет, что немецкие рабочие во время франко-германской войны выполнили свой долг». Подлинный текст, переданный французским газетам, гласил: «Конференция заявляет, что немецкие рабочие, принадлежащие к Интернационалу, во время франко-германской войны выполнили свой долг».
Это расхождение в текстах дало повод для оскорбительных комментариев на страницах некоторых реакционных газет и со стороны врагов Международного Товарищества Рабочих. Однако только больной мозг способен допустить, что конференция делегатов Международного Товарищества Рабочих в резолюциях, предназначенных для членов Товарищества, могла бы под словами «немецкие рабочие» подразумевать
554
ПРИЛОЖЕНИЯ
кого-нибудь еще, кроме тех граждан, которые на выступления французских рабочих в защиту мира ответили митингами и де монстрациями против войны, которые отказались голосовать за военные кредиты в германском рейхстаге и среди победных кликов солдатчины и германской буржуазии возвысили голос протеста и приветствовали Французскую республику 4 сентября 1871 года; тех граждан, которые отвергли как позор аннексию Эльзаса и Лотарингии, с восторгом встретили возникновение Парижской Коммуны и защищали ее принципы, когда же она пала, потерпев временное поражение под ударами реакции, а ее члены и защитники погибали от руки убийц или томились на каторге и в изгнании, заклеймили в стенах самого рейхстага подлые жестокости версальцев и объявили о своей солидарности с Коммуной, беря на себя ответственность за все ее действия.
Заключенные в тюрьмы и казематы до самого конца войны, те, о ком конференция заявила, что они «выполнили свой долг», в настоящее время предстают перед судом по обвинению в государственной измене.
Я беру на себя смелость утверждать, что какое-либо иное толкование этой резолюции может возникнуть только в результате либо полнейшей неосведомленности о выступлениях и манифестах Интернационала во время войны, либо явной недобросовестности.
Примите, гражданин, выражение моего почтения
О. Серрайе Секретарь-корреспондент для Франции
Напечатано в газете «.Qui viveU Печатается по тексту газеты
M 39, It ноября 1871 г, „ . .
г Перевод с французского
На русском языке публикуется впервые
[ 555
Ф. ЭНГЕЛЬС
ПОПРАВКА
Секретарь для Испании гражданин Энгельс исправляет ошибку в отчете, помещенном в « Eastern Post » от 23 декабря в4в. Испанские секции вовсе не провели конференцию, как было там напечатано. В его сообщении шла речь о заявлениях, появившихся в газете «Emancipation » (официальном органе Ис панского федерального совета), воспроизведенных и поддержан ных другими печатными органами в Испании, из которых явствует, что испанские секции полностью одобрили резолюции Лондонской конференции и твердо решили действовать в соответствии с резолюцией о неразрывной связи политической и социальной борьбы *.
Напечатано в газете « The Eastern Печатается по тексту газеты
Post » N 170, 30 декабря 1871 г.
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Резолюции конференции делегатов Международного Товарищества Рабочих, состоявшейся в Лондоне с 17 по 23 сентября 1871 года, Ред.
19 M. a 9., т. 44
556 ]
К. МАРКС
* ОБ ОТНОШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЛАДСТОНА К ЭМИГРАНТАМ КОММУНЫ
ИЗ ГАЗЕТНОГО ОТЧЕТА О ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 18 ДЕКАБРЯ 1871 ГОДА «'
Доктор Маркс сообщает о письме, которое он получил от лица, весьма близкого к министерству внутренних дел. В письме сказано, что английское правительство намерено возбудить преследование против кое-кого из французских эмигрантов по обвинению в гражданских преступлениях; дается понять, что эти шаги предпринимаются по просьбе французского правительства.
Эта информация совпадает с другими сведениями, которые он [Маркс] получил с континента, и необходимо срочно сделать запрос английскому правительству на этот счет.
Так как возник вопрос об отказе от продления торгового договора со стороны французского правительства, то было бы неудивительно, если бы оказалось, что Гладстон выразил готовность возбудить преследования против эмигрантов в обмен на заключение нового торгового договора. Если у него возник такой замысел, ему не удастся его осуществить. Английский народ никогда не позволит министру торговать свободами страны. Популярность лорда Пальмерстона была в свое время куда больше, чем та, которой когда-либо пользовался Глад- стон, и все же ей наступил конец, лишь только он попытался совершить нечто подобное.
Напечатано в газете «L'Égalité» Печатается по тексту газеты/
N 1 /л оит-па щ ?» » сверенному с текстом протокольной книги
N 1, 10 января 1S7S г. f Генерального Совета
Перевод с аУранцузскоео
На русском языке в настоящем виде публикуется впервые
[ 557
МАНДАТ УЧАСТНИКА ГААГСКОГО КОНГРЕССА, ВЫДАННЫЙ К. МАРКСУ
I
Нью-Йорк, 30 июля 1872 г.
СЕКЦИЯ № 1 МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, УОРД-ХОТЕЛ, 10
КАРЛУ МАРКСУ В ЛОНДОН
Уважаемый товарищ!
Имею честь сообщить Вам, что на собрании 28 июля Вы назначены делегатом вышеуказанной секции на общий конгресс в Гааге, и мы ожидаем, что Вы согласитесь с нашим выбором и будете представлять нью-йоркскую секцию № 1 на данном конгрессе.
Ваш мандат будет передан Вам одним из наших здешних делегатов на конгрессе по прибытии в Европу.
Согласно решению того же собрания от 28 июля наказ Вам для конгресса в Гааге состоит в том, что Вы должны вместе с нашим едущим 'Непосредственно отсюда делегатом твердо выступать за решения съезда Североамериканской федерации, имеющих своей основной целью четкую организацию и прежде всего централизацию в полном смысле и направленных против происков Бакунина, Гильома и компании, которые явно намереваются децентрализовать Международное Товарищество Ра бочих, чтобы обеспечить свободу для своих личных интриг и парализовать наше движение.
В этот раз съезд нашей собственной федерации помешал нью-йоркской секции № 1 закрепить в решениях ее точку зрения на ставший необходимым пересмотр Общего Устава, поэтому мы предоставляем на Ваше собственное усмотрение действия по этому вопросу на конгрессе в Гааге, а также по всем остальным вопросам, которые будет обсуждать или решать данный конгресс.
Нью-йоркская секция № 1 вполне сознает, что, возлагая на Вас обязанности делегата, она должна также позаботиться
19*
558
ПРИЛОЖЕНИЯ
об оплате связанных с этим расходов, но я должен объяснить Вам, что наши средства в настоящий момент исчерпаны полностью и для нас невозможны даже самые малые затраты. Независимо от этого обстоятельства важность конгресса в Гааге требует нашего непосредственного представительства, и нам было бы желательно, чтобы Вы нашли возможность осуществить это, хотя и без нашей помощи.
С братским приветом
Секретарь-корреспондент К. Шпейер
Адрес секретаря-корреспондента: К. Шпейер, 76 Юг, Ь~я авеню, Нью-Йорк.
НЬЮ-ЙОРКСКАЯ СЕКЦИЯ № 1 МЕЖДУНАРОДР10ГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Мандат
Предъявитель сего Карл Маркс избран на собрании вышеуказанной секции 28 июля 1872 г. в качестве представителя последней на общем конгрессе в Гааге и является представителем нью-йоркской секции № 1, уполномоченным голосовать за последнюю с правом решающего голоса.
Секретарь-корреспондент К. Шпейер, Председатель собрания Ф. А. Зорге 28 июля 1872 v.
Впервые опубликовано на русском Печатается по рукописи
япаи в книге шГаагский конгресс _ .
Первою Интернационала. Перевод с немецкого
g —Г сентября 1872 е. Протоколы и документы», М., 1870
Г 559
МАНДАТЫ УЧАСТНИКА ГААГСКОГО КОНГРЕССА, ВЫДАННЫЕ Ф. ЭНГЕЛЬСУ
Полномочие
Бреславльские члены Международного Товарищества Рабочих поручают г-ну Фридриху Энгельсу из Лондона представлять их на конгрессе Международного Товарищества Рабочих 2 сентября сего года в Гааге.
Генрих Эме, Пауль Бок, Герман Кримихен Бреславль, 19 августа 1872 г.
II
Настоящим удостоверяется, что г-н Фридрих Энгельс из Лондона надлежащим образом избран представлять нью- йоркскую (Северная Америка) секцию № 6 Международного Товарищества Рабочих на общем конгрессе, который должен проходить в Гааге со 2 сентября 1872 г.
Фр. Дж. Бертран, и. о. председателя Джон Сток, секретарь Нью-Йорк, 8 августа 1872 г.
Подлинность настоящего мандата подтверждается печатью Федерального совета Международного Товарищества Рабочих для Северной Америки и подписью.
Генеральный секретарь Федерального совета Международного Товарищества Рабочих, Северная Америка, Ф. Болъте Нью-Йорк, 9 августа 1872 г.
Впервые опубликовано на русском Печатается по рукописи
языке в книге «Гаагский конгресс _. -
Первого Интернационала. Перевод с английского
2—7 сентября 1872 г. Протоколы и документы». М., 1970
560 ]
* ЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЙ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА НА ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ 1872 ГОДА в*8
К. МАРКС О ЗАКРЫТЫХ ЗАСЕДАНИЯХ КОНГРЕССА
1 СЕНТЯБРЯ 1872 г.
Маркс добавляет к этому, что заседания должны быть закрытыми для всех, кроме членов Гаагской секции.
Маркс принимает добавление [о допуске всех членов Това рищества] с оговоркой, что членство должно быть подтверждено.
(Запись Зорге)
Ф. ЭНГЕЛЬС О НЕГЛАСНОМ ХАРАКТЕРЕ ЗАКРЫТЫХ ЗАСЕДАНИЙ
2 СЕНТЯБРЯ 1872 г.
Энгельс требует, чтобы корреспондентам не разрешалось давать сообщения о закрытых заседаниях (это касается тех делегатов, которые одновременно пишут отчеты для газет).
(Запись Зорге)
К. МАРКС
О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА КОНГРЕССЕ
2 СЕНТЯБРЯ 1872 г.
Маркс (при поддержке всех бланкистов и всех немцев) говорит, что такой способ голосования противоречит Уставу Товарищества; каждая секция, говорит он, имеет право на представительство и ее делегат имеет право голосоватьв49.
(Запись Жуковского)
ПРИЛОЖЕНИЯ
561
Маркс высказывается против этого способа голосования: мы представляем здесь, говорит он, секции, а не федерации, иначе наш конгресс не имел бы характер всеобщего.
(Вторая запись Жуковского)
Ф. ЭНГЕЛЬС
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ МАДРИДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 3 СЕНТЯБРЯ 1872 г.
Энгельс! Вопрос важный; нам предстоит решить голосованием, будет ли Интернационал подчиняться котерии, объе диненной в тайное общество, Здесь присутствуют шесть членов этого общества. Они это признали! Гильом и испанские делегаты. Впрочем, он это докажет в ходе общей дискуссии, Прежде всего признано, что исключение является незаконным. Мораго сказал раньше, что приглашения [исключаемых] не требовалось, а Устав, напротив, требует назначения третейского суда. Далее Мораго говорит, кроме того, что это внутренний вопрос, не касающийся конгресса. Поскольку секция обратилась в Со вет, этот вопрос перестал быть внутренним. Совет взял на себя ответственность нарушить Устав, так как речь шла о сохране нии Интернационала в Испании. Тайное общество, целью которого является дезорганизовать Интернационал, добилось пяти мест из восьми в Федеральном совете. Они предложили для всей Испании такой способ голосования, который оставлял сво боду действий одному только тайному обществу! Генеральному Совету важно было иметь на конгрессе испанского делегата, не принадлежащего к этой клике, и он взял на себя ответственность за этот акт в интересах Товарищества.
(Запись Ле Муссю)
Энгельс говорит! нам предстоит решить, должно ли Международное Товарищество Рабочих и впредь управляться на основании демократических принципов или им будет руководить клика, организованная тайно и в противоречии в Уставом. Здесь присутствуют шесть лиц, принадлежащих к этому тайному обществу: четыре испанца, Швицгебель и Гильом в50.
Энгельс опускает руку в карман, достает оттуда письмо и говории «Вот — доказательства». Далее Энгельс указывает
• См. насюящий том, стр. 467=468, Рид,
562
ПРИЛОЖЕНИЯ
на незаконность произвольного исключения, при котором не был назначен требуемый Уставом третейский суд. Новая федерация только воспользовалась своим правом, когда порвала с Федеральным советом и обратилась непосредственно к Генеральному Совету. Правда, Генеральный Совет отступил от Устава, но он сделал это сознательно, с намерением таким образом спасти Международное Товарищество Рабочих в Испании. Альянс действует в Испании на деньги Международного Товарищества Рабочих, и Испанский федеральный совет насчиты вает среди своих восьми членов пять «братьев-альянсистов». Генеральный Совет вполне понимал значение своего шага, однако он обязан был его совершить.
(Запись Зорге)
Ф. ЭНГЕЛЬС
О МАНДАТАХ ИСПАНСКИХ ДЕЛЕГАТОВ
3 СЕНТЯБРЯ 1872 г,
Энгельс находит в высшей степени странным, что испанцы оставляют деньги у себя в кармане, вместо того чтобы вручить их вместе с мандатами, как это всегда делается и должно делаться на конгрессах. Испанцы недоумевают, почему их хотят впутать в вопрос об Альянсе, но сами же признали, что являются членами Альянса. Марселау и остальные трое утверждают, что прежде принадлежали к Альянсу, но теперь из него вышли. Энгельс высказывает предположение, что они все еще входят в Альянс, но только под другим названием. Если они ссылаются на процветание Международного Товарищества Рабочих в Испании, то должны помнить, что этот рост был достигнут прежним составом Федерального совета, который был исключен в Мадриде.
(Запись Зорге)
К. МАРКС
ОБ ОТЧЕТНОМ ДОКЛАДЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 5 СЕНТЯБРЯ 1872 г.
Маркс предупреждает, что доклад Генерального Совета не касается внутренних вопросов потому, что: 1) в этом случае его публичное оглашение скомпрометировало бы Интернационал в тех странах, где он запрещен, 2) федерации не выполнили
ПРИЛОЖЕНИЯ
563
обязательств, обусловленных последними конгрессами и не прислали свои отчеты Совету, 3) составление такого доклада было, следовательно, невозможно даже независимо от опасности, которую создало бы его обнародование.
Маркс предлагает назначить сначала закрытые и открытые заседания.
(Запись Ле Муссю)
Маркс сообщает, что доклад Генерального Совета предназначен для опубликования в печати; поскольку Генеральный Совет не может ни публично, ни конфиденциально докладывать о различных национальных организациях, а также поскольку ряд федераций, например Юрская и Бельгийская, не выполнили своих обязанностей в отношении доставки корреспонденции, доклад носит общий характер. Докладчик хвалит Американскую федерацию, единственную, которая целиком выполнила свои обязательства в отношении переписки и взносов, и выражает пожелание, чтобы были приняты меры к установлению порядка дня закрытых и открытых заседаний.
(Запись Зорге)
К. МАРКС
О ПОЛНОМОЧИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ш 6 СЕНТЯБРЯ 1872 г.
Маркс говорит, что, обсуждая полномочия Совета, имеют в виду не бывший Совет; стало быть, не нас, а сам принцип. Он заявил, что скорее бы голосовал за упразднение Совета, чем за превращение его в почтовый ящик; последний оказался бы в руках журналистов, а это было бы большой угрозой для Интернационала. Мы несем ответственность, а господа журналисты не несли бы ее. — Нельзя предусмотреть все случаи, как того хочет Сова. Так, в Лондоне возникла полицейская секция, прикрывающаяся Уставом. Был случай с нью-йоркской секцией № 12 спиритов и т. д. Я не понимаю, как это юрцы, вместо того чтобы бороться против буржуа, до известной степени выступают заодно с ними.
Впрочем, требуемые полномочия примерно уже отражены в Уставе. Вместо того чтобы оставить за Советом неограниченное право, предлагаемая статья устанавливает контроль.
На протяжении ряда лет Совет сталкивался с попытками полицейских и буржуазных элементов проникнуть в Интерна-
564
ПРИЛОЖЕНИЯ
ционал в Австрии, во Франции, где один из начальников полиции попытался основать секцию; ее, разумеется, пришлось временно распустить. Везинье, Ландек высказываются за юрцев, так же как буржуа из секции № 12, — все это одно. — Не было совета, который бы подвергался большей критике со стороны бельгийских рабочих, чем Бельгийский федеральный совет, его упрекали в авторитаризме не меньше, чем Генеральный Совет. Французы считают, что у них слишком много национализма для интернационалистов.
Повод для временного роспуска федерального совета представился в Нью-Йорке; возможно, что и в других странах тай ные общества хотят завладеть федеральными советами, их надо временно распустить. — Что касается возможности свободно создавать федерации так, как это сделали Везинье, Ландек и один немецкий шпион, ее нельзя допускать. Г-н Тьер стал лакеем всех правительств в борьбе против Интернационала, и Совету необходимы полномочия, чтобы устранить элементы разложения.
Далее предложение предусматривает оговорки. Прежний Совет имел в виду только интересы Товарищества и временно исключил одну лишь секцию № 12 Федеральные советы не обладают достаточными полномочиями: так заявил в присутствии Юнга и Ле Муссю один член Американского совета, имея в виду секцию № 12.
Кроме того, федеральный совет может отвести призыв к сек циям о перевыборах — это в пользу федерации; и если бы Гене ральный Совет решился на необоснованный шаг, конференция федераций осудила бы его.
В странах, где Интернационал подвергается преследованиям, [секции] наилучшие и должны иметь те же права. Высказанная вами тревога — уловка, ибо вы принадлежите к числу обществ, действующих тайно и являющихся наиболее авторитарными. — Генеральный Совет не имеет ни армии, ни бюджета — он рас полагает только моральной силой и если вы лишите его полномочий, то сами станете лишь фиктивной силой.
(Запись Ле Муссю)
Впервые полностью опубликовано Печатается по рукописи
«а русском языке в книге „ а .
«Гаагский конгресс Первого Перевод с немецкого и французского
Интернационала. 2—7 сентября 1872 г. Протоколы и документы». М., 1970
[ 565
* О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ
ЗАПИСЬ РЕЧИ К. МАРКСА НА МИТИНГЕ В АМСТЕРДАМЕ 8 СЕНТЯБРЯ 1872 ГОДА '«
Оратор говорит, что прежде Гаага была очагом европейской дипломатии. Здесь, едва лишь успев подписать мирные договоры, замышляли всякого рода войны. Резкий контраст этому составляет конгресс рабочих, цель которого сделать войну невозможной. Интернационалу говорили, что Гаага — самый реакционный город Голландии и что его невежественные жители «разорвут в клочки» «сброд Парижской Коммуны». Это, однако, явилось лишней причиной, побудившей выбрать как раз этот «кровожадный» город, чтобы показать, что Интернационал не боится никаких реакционных эксцессов. Сверх того, он уверен в том, что найдет здесь сочувствующих людей, какие, впрочем, находятся повсюду, где имеется рабочий люд.
Гражданин Маркс переходит к рассмотрению результатов закончившего свою работу конгресса. Он называет их важными. Сильная централизация власти в руках Генерального Совета является настоятельной необходимостью перед лицом конференции в Берлине, которая, по мнению оратора, предвещает всеобщее наступление на пролетариат, преследования и по давление рабочего класса 653. До тех пор пока Интернационал не будет выступать как сплоченная организация, он не сможет сделать движение всеобщим, добиться, чтобы оно повсюду возникало одновременно, и его усилия не дадут значительных результатов. Оратор приводит пример Парижской Коммуны. Почему она потерпела неудачу? Потому что она осталась изо лированной. Если бы одновременно с восстанием в Париже вспыхнули революции в Берлине, Вене и других столицах, то было бы больше шансов на успех.
566
ПРИЛОЖЕНИЯ
Оратор оправдывает применение насилия там, где не помогают другие средства. В Северной Америке баррикады не являются необходимыми, потому что там пролетарии, если только захотят, могут добиться победы посредством выборов. То же самое относится к Англии и некоторым другим странам, где рабочий класс пользуется свободой слова. Но в громадном большинстве государств революция должна заменить легальность, потому что иначе — ложным великодушием, неверно направленным чувством справедливости — невозможно будет достигнуть нужной цели. Сильная, энергичная пропаганда должна будет подготовить и поддержать эту революцию. В силу этих причин также крайне необходима очень большая централизация власти в руках Генерального Совета.
Гражданин Маркс говорит, что конгресс решил вчера (в субботу) перенести местопребывание Совета из Лондона в Нью- Йорк. Он одобряет это решение. Америка — страна рабочих. Ежегодно туда устремляются сотни тысяч людей, изгоняемых из Европы или вынужденных к этому лишениями. Какое новое благодатное поле деятельности для усилий Интернационала! Оратор надеется, что этот шаг даст хорошие результаты.
Что же касается его самого, то он, правда, отказывается от звания члена Генерального Совета, но — вопреки слухам — не от звания члена Интернационала. Совсем наоборот. Осво бодившись от бремени административной деятельности, он с новой энергией посвятит себя задаче, которой отдал 25 лет своей жизни и которой он будет заниматься до последнего вздоха: освобождению труда. (Бурные аплодисменты.)
Напечатано в газете Печатается по тексту газеты
(lAlgemeen Handeltblad» „ . .
M 12837, 10 сентября 1872 г. Перевод с голландского
[ 567
ПОЛНОМОЧИЯ, ВЫДАННЫЕ Ф. ЭНГЕЛЬСУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Настоящим удостоверяется, что решением от 27 октября 1872 г. Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих уполномочил Фридриха Энгельса, проживающего в доме № 122 по Риджентс-парк-род (Лондон, Англия), принимать денежные суммы и взносы для передачи вышеупомянутому Генеральному Совету.
По поручению и от имени Генерального Совета
Ф. А. Зорге, генеральный секретарь Нью-Йорк, 27 октября 1872 г.
|
uAnnali », vol, IV , 1961 _ . Перевод с английского |
Впервые опубликовано в журнале Печатается по фотокопии рукописи
Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
568 ]
«ЧЕСТНЫЙ» ДЖОН ХЕЙЛЗ
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ « INTERNATIONAL HERALD» «"
Уважаемый гражданин,
Как мне ни претит любое публичное выступление, я считаю себя обязанным, как член старого Генерального Совета с самого основания Интернационала и член Британского федерального совета с его первых шагов, ответить на письмо «честного» Джона Хейлза, опубликованное в последнем номере вашей газеты.
Джон Хейлз хвастается тем, что пишет свои письма от собственного имени; Энгельсу и Марксу прекрасно известно, что для него нет большего наслаждения, чем увидеть свое имя в печати. Но не в этом суть дела. Они возражали против того, что письма, которые он подписывал «Джон Хейлз, генеральный секретарь Британского федерального совета» писались «без ведома и санкции» Британского совета *. А факты именно таковы.
26 сентября несколько его сторонников по его наущению предлагают следующую резолюцию: «Поручить секретарю-корреспонденту» (Джону Хейлзу) «разослать по одному экземпляру нашего печатного органа в Англии « International Herald» всем федеральным советам Товарищества». Выполнив это решение, он тут же по собственному почину шлет отколовшимся советам письма, которые появляются в газетах « Internationale» (Брюссель), « Bulletin de la Fédération jurassienne», «Federacion» (Барселона) и других; «честный» Джон Хейлз тем самым под меняет собой федеральный совет.
Что касается его попыток — разоблаченных Марксом и Энгельсом — соединить в своем лице все функции федерального
• К, Маркс a Ф, Энгельс. Редактору газеты «International Herald», Ред .
ПРИЛОЖЕНИЯ
569
совета, то о них можно судить по следующим примерам. На заседании федерального совета 7 ноября Джон Хейлз предложил «осуществить следующее перераспределение обязанностей, а именно — назначить генерального секретаря, который будет вести переписку и финансовые расчеты, составлять официальные отчеты для печати и выступать в качестве представителя совета, и секретаря-протоколиста, в обязанности которого будет вхо дить ведение протокольной книги совета». Но и этого было мало для Джона Хейлза. Он взял обратно свое предложение, и было принято предложение, внесенное его вчерашним врагом, а сего дня другом Моттерсхедом, гласившее: «Мы назначаем генерального секретаря, который будет отвечать перед советом за все дела, касающиеся Товарищества, и обеспечиваем ему ту помощь,, которая может ему понадобиться*. Вот это действительно была централизация, и не удивительно, что Манчестерский федеральный совет сразу же заявил протест против решения Британского совета по этому вопросу.
Джон Хейлз утверждал в своем письме к Юрской федерации, что «Британский федеральный совет запросил у гражда нина Энгельса, тогдашнего секретаря-корреспондента для Ис пании, адрес Лоренцо», а «гражданин Энгельс формально отказался его сообщить». В своем ответе Энгельс потребовал, чтобы Хейлз подтвердил этот запрос федерального совета соответ ствующей выпиской из протокола. Вместо этого Хейлз ссылается на свидетельство своего друга Роча. Чего стоит свидетельство Роча, можно узнать, сравнив его поведение и голосование на Гаагском конгрессе с официальным отчетом о том же конгрессе, представленным им Британскому совету.
В отношении адреса лиссабонского совета, то, как заявил Энгельс, Хейлзу его не предоставили, потому что знали, что «такого рода адреса нужны ему исключительно для личных инт риг. О подобной сдержанности в отношении других членов Британского федерального совета не могло быть и речи». Что же отвечает Хейлз? Что Энгельс якобы потому отказался сообщить адрес, что Британский федеральный совет не предпринял в связи с португальским делом никаких шагов!
Все той же «честной» преданностью истине отмечен и ответ Хейлза на заявление в письме Энгельса и Маркса, а именно, будто «выполнение им своих обязанностей корреспондента нашло оценку в особой резолюции Генерального Совета при передаче этих функций гражданину Милнеру». Он дает понять, будто это место в протоколе относится к моменту его времен ного отстранения от должности генерального секретаря. Это отстранение было предложено Подкомитетом (в состав которого
570
ПРИЛОЖЕНИЯ
входил друг Хейлза Юнг) и единодушно утверждено Генераль ным Советом. Третейской комиссии Генерального Совета было поручено провести расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми против Хейлза, но созыв Гаагского конгресса и по следовавший роспуск лондонского Генерального Совета прорвали ее работу; опубликование собранных ею материалов остается sa ней. Однако упомянутое выше место в протоколе относится к совсем другому моменту. На том самом заседании, на котором Хейлз был временно отстранен от должности Генеральным Советом (протокол случайно также вел Юнг), гражда нин Эккариус внес предложение о назначении особого секретаря для Англии для оживления переписки с тред-юнионами, кото рую Хейлз совершенно забросил. Решение было принято в следующей измененной редакции: поручить одному из членов Совета вести переписку с тред-юнионами — и для этой цели был назначен гражданин Милнер.
Джон Хейлз старательно избегает повторения своих смехотворных утверждений, будто, существование тайного Аль янса явилось «изобретением» старого Генерального Совета, или будто этот Совет «пытался организовать обширное тайное об щество внутри нашего Товарищества». Но на что Джон Хейлз способен по части честной выдумки, можно увидеть из следующей почтовой открытки, разосланной им по ряду адресов 21 декабря истекшего года:
«Граждане! Британский федеральный совет выехал из помещения в доме № 7 на Ред-Лайон-корт, Флит-стрит, Лондон, и если ничтожная фракция сохранила помещение за собой, то сделано это было без ведома членов совета, и любые ее шаги должны расцениваться соответственно. Перечисленные ниже лица намерен» превратить Товарищество в тайную политическую организацию для насаждения предписываемых ев уставом вавоворов, вместо того чтобы оставить его таким, как оно есть, т. е. реальной организацией труда. Они составляют то меньшинство, о котором говорилось в недавно вышедшем циркуляре. Это — гражданин Лес снер (немец, избранный группой), У. X . Райли (от группы), А. Вейлер (немецкая секция), Э. Хила (Уэст-Энд), Дж. Митчел (то же, но предста вляет Хинклв), С. Викери (Беркенхед), Ч. Мёррей (Норманби), однако примкнул лишь на том собрании, которое было распущено гражданином Викери, Э. Дюпон (Манчестерская иностранная секция), Дж. Милнер (явившийся с мандатом от некой Национальной лиги реформ 1849 г.)».
Не довольствуясь распространением подобной нелепой выдумки, «честный» Джон Хейлз доверяет ее почтовой открытке. Почему не информировать прямо полковника Хен-дерсона?
Джон Хейлз упрекает гражданина Энгельса, одного из старейших и наиболее уважаемых лидеров германского рабочего
ПРИЛОЖЕНИЯ
571
класса, в том, что он был хлопчатобумажным фабрикантом. Таковым был и Роберт Оуэн. Хейлз забывает добавить, что Энгельс в течение 40 лет вел борьбу за дело рабочего класса как своим пером, так и с оружием в руках (во время революции в Германии в 1849 г.); что уже в 1845 г. он выступил в защиту этого дела в получившей европейскую известность книге «Положение рабочего класса в Англии»; что в последующие годы он принимал активное участие в английском рабочем движении, сотрудничая в журнале Роберта Оуэна «New Moral World », в газетах Фергюса О'Коннора « Northern Star», Дж. Дж. Гарни « Red Republican » и Эрнеста Джонса « People ' s Paper ».
Что касается «честности» Джона Хейлза, то он сам может быть верит в нее, но, насколько я знаю, это не помешало тред-юниону, членом которого он состоит, направить в Генеральный Совет своих представителей, чтобы предъявить Хейлзу обвинение в том, что, будучи надсмотрщиком, он вступил в сговор с хозяином против своих товарищей-рабочих. Это не помешало его другу Моттерсхеду обвинить его в продажности на заседании того же Совета. И это не помешало ему самому заявить перед следственной комиссией, тогда же назначенной, что он обращался в поисках работы к члену парламента г-ну Глину, вербовщику г-на Гладстона. Это не помешало и гражданину Буну, когда он был назначен в комиссию для проверки финансовой отчетности Хейлза, отказаться подписать баланс. Хейлз, заявил он, когда секретарем был Эккариус, доказывал, что 5 шиллингов в неделю достаточная оплата этой должности, а сам потребовал 10 шиллингов сразу после своего назначения и затем добился повышения до 15 шиллингов. Эта прибавка была утверждена только на три месяца, однако Хейлз продолжал выписывать ее себе без нового голосования. Предложение гражданина Буна, чтобы Хейлз вернул излишек, полученный им сверх положенного, не прошло, так как принята была поправка Энгельса — списать те 5 шиллингов в неделю, которые казначей Юнг выплачивал Хейлзу сверх положенного, учитывая, что сам Совет не выполнил своих обязанностей и не предпри нял никаких шагов в этом вопросе, пока Хейлз не был отстранен от должности.
Джон Хейлз заявляет в своем письме, что его обязанностью как генерального секретаря было выполнять распоряжения Генерального Совета. Пусть так, но весьма странно, что его «честность» оставалась послушным орудием Генерального Совета, пока Хейлз получал от Совета плату, и открыто взбунтовалась, лишь только эта плата перестала поступать.
572
ПРИЛОЖЕНИЯ
Я сам подвергся заточению в прусской крепости и изгнанию из отчизны sa то участие, которое принимал в движении своего класса, и я не могу позволить людям, подобным Джону Хейлзу, извращать это движение, подчиняя его мелочным интересам личного тщеславия.
С братским приветом
Ваш Фридрих Лесснер
Написано Ф. Лесснером при участии К. Маркса около 4 января 1873 г.
Напечатано в газете « International Herald » Л8 41, 11 января 1873 г.
Печатается по тексту газеты Перевод с английского На русском языке публикуется впервые
[ 573
* ПИСЬМО БРИТАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ « EASTERN POST» 654
Милостивый государь,
Разрешите мне по поручению подлинного Британского фе дерального совета Международного Товарищества Рабочих воспользоваться столбцами вашей газеты для ответа на некоторые утверждения, напечатанные в ее последнем номере за подписью Джона Хейлза и других.
Наше право именоваться подлинным Британским федеральным советом подтверждается присоединением к нам ряда орга низационно оформленных, реально существующих английских секций, которые в соответствии с уставом представлены в нашем совете 23 делегатами, а также присоединением двух членов Ноттингемскои группы и поддержкой примкнувшего к нам единственного печатного органа Международного Товарищества в Великобритании *. Более того, из всех организаций подоб ного рода в Англии только мы поддерживаем связь с Генераль ным Советом, представляющим авторитет Товарищества в целом, а также с советами и секциями, поддерживающими его во всех частях света; между тем ваши корреспонденты, даже если бы они располагали необходимой численностью, чтобы отстаивать положение, на которое они претендуют, имели бы ничуть не больше прав именоваться советом Международного Товарище ства Рабочих, чем конгресс федератов в период американской войны на то, чтобы именоваться Конгрессом Соединенных Штатов. Фактически ваши корреспонденты и их друзья отреклись от решений Гаагского конгресса, от Генерального Совета и
* — « International Herald », Ред.
574
ПРИЛОЖЕНИЯ
платформы Интернационала. Никто не будет возражать, если они образуют близкую по своему характеру ассоциацию с целями, в известной мере сходными, но претендовать на то, что они являются единственно подлинным Британским советом Международного Товарищества Рабочих, и клеймить признанных членов Интернационала как раскольников — все это проявление изобретательности столь же странной, сколь и смехотворной.
Что касается места наших заседаний, то обстоятельства личного порядка, изложение которых, разумеется, неуместно в вашей газете, помешали нам провести несколько наших пос ледних заседаний в обычном помещении, в котором мы, кстати сказать, всегда собирались. Те же обстоятельства или их последствия также помешали нам тотчас же подыскать подходящее помещение для наших заседаний, которые, однако, будут впредь проводиться в Эклектик-холл, Денмарк-стрит, Сохо. Между прочим дом на Сити-род, 197, где собирался гак назы ваемый «съезд», скорее всего не зарегистрирован как общественное помещение, и поскольку не появилось никаких объявлений о том, где «вновь избранный исполнительный комитет» прово дит свои заседания, отнюдь не беспочвенным будет предположение, что они происходят там же, где состоялось уже столько собраний Интернационала под тем же руководством, а именно — попросту нигде.
Что касается правомочности так называемого «съезда», то собрание, принявшее решение о его созыве, было проведено без предварительного объявления и не в тот вечер, когда происходят регулярные заседания; только члены большинства были осведомлены о созыве, а члены меньшинства впервые узнали о нем, когда явились в обычное место заседаний в установ ленный вечер, чтобы принять участие в работе Совета. Они были, конечно, как громом поражены, но за отсутствием протокольных книг, документов и т. п. разошлись, приняв решение апеллировать к секциям. Так они и сделали, и в результате секции почти единодушно высказались в их пользу, в то время как на этот весьма «экстраординарный» съезд удалось загнать лишь 12 делегатов, мандаты которых оказались, естественно, вне всяких подозрений.
Ваши корреспонденты слишком уж рассчитывают на наше предполагаемое незнакомство с Уставом Товарищества, когда приводят нижеследующее в качестве одного из уставных пунктов, якобы принятых Ноттингемским съездом 582: «Если поло жение в федерации делает это необходимым, федеральный совет имеет право созвать внеочередной съезд ранее очередного наз-
ПРИЛОЖЕНИЯ
575
наченного съезда». Официальный протокол Ноттингемского съезда, записанный его секретарем, находится в распоряжении Совета и в нем не содержится подобного пункта; более того, не содержится и такого пункта, которому можно было бы путем какого-либо искажения придать подобный смысл.
В ответ на утверждение, будто на Гаагском конгрессе присутствовали лица, мандаты которых были недействительны, можно указать на то, что представитель Британского федерального совета *, который присутствовал на конгрессе и входил в ман датную комиссию, был настолько удовлетворен представленными полномочиями, что, как можно судить по протоколу комиссии, подписал его без каких-либо оговорок или возражений. Между тем решения конгресса, как правило, были приняты большин ством голосов при соотношении четыре к одному. Какое же глу бокое пренебрежение к своему долгу проявил указанный представитель, а ведь он и тогда пользовался, и сейчас еще пользуется доверием комитета на Сити-род, 197 и его сторонников!
Что сама неразборчивость в средствах нередко толкает участников борьбы фракций на весьма сомнительные, крайние поступки ради торжества своей программы, является истиной, к сожалению слишком часто подтверждаемой, однако ни в малейшей мере не применимой к конгрессам и съездам Между народного Товарищества Рабочих. До и после съезда в Ноттингеме голословные утверждения о незаполненных бланках и фиктивных мандатах раздавались и сейчас еще раздаются не менее редко, чем до и после Гаагского конгресса. В частности, в настоящий момент в руках Федерального совета находится письмо одного лица, выполняющего для комитета на Сити-род те самые функции, которые г-н Глин выполняет для министерства. В этом письме съезд в Ноттингеме дезавуируется в выражениях, весьма сходных с теми, которые теперь употребляет та же инстанция применительно к конгрессу в Гааге. Так как съезд в Ноттингеме предшествовал конгрессу в Гааге, не лучше ли было бы сперва разобраться с вопросом о съезде? Это было бы весьма подходящей работой для группировки, которую представляют авторы опубликованного вами на прошлой неделе письма.
А пока они поглощены личной возней, выискивая в истории Товарищества все то, что может показаться предосудительным, и выставляют это напоказ нашим глумливым и злобствующим противникам, которых они заведомо снабжают материалом, мы будем дальше придерживаться своего курса, не отступая перед
* — Джов Роч. Ред.
576
ПРИЛОЖЕНИЯ
препятствиями. Мы пренебрегаем мелочными нападками тех, кто, по-видимому, добивается лишь сведения личных сче тов, нанося этим урон Товариществу. Великое дело нас ждет впереди, и этому делу мы намерены посвятить себя неотступно и не позволим себе даже на короткий срок отвлекаться от него ради надуманных препирательств, предмет которых для непо священной читательской публики не более как пошлый и нудный набор пустых звуков.
По поручению Британского федерального совета Сам. Викери, секретарь-корреспондент
Составлено С. Викери при участии Перевод с английского
ф. Энгельса 17 —20 февраля „ -
1S7S г. Н° РУССКОМ языпе публикуется впервые
Напечатано в газете «ХЛе Eastern Post » 22 февраля 1 S73 г.
[ 577
ПРОГРАММА МАНЧЕСТЕРСКОГО СЪЕЗДА БРИТАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛА.
1—2 ИЮНЯ 1873 ГОДА658
\. Организация Британской федерации.
2. Наилучшее средство претворения в жизнь целей и принципов Товарищества.
3. Отношение Международного Товарищества Рабочих к профессиональным союзам.
4. Наилучшее средство претворения в жизнь решения Гаагского конгресса о политическом действии рабочего класса.
5. Всеобщее [народное! образование.
6. Земельный вопрос.
7. Отмена права наследования.
8. Государственная собственность на все средства производства.
9. Право рабочих на определенную долю национального кредита для содействия кооперативному производству.
Составлено при участии И. Маркса и Ф. Энгельса не ранее 3 мая 1873 г.
Опубликовано в газете « The International
Herald » M 69, 17 мая 1873 г,
и в виде листовки
Печатается по тексту листовки
Перевод с английского
На русском языке публикуется впервые
578 ]
ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫвм
Ниже приводится обращение к членам тред-юнионов Великобритании и Ирландии, выпущенное Британским федеральным советом Международного Товарищества Рабочих:
Товарищи рабочие!
На очередном общем конгрессе Международного Товарищества Рабочих, состоявшемся в Гааге в сентябре прошлого года, была единогласно принята нижеследующая резолюция; Гене ральному Совету Международного Товарищества Рабочих специально поручается создать международные профессиональные союзы. Для этого ему надлежит в течение одного месяца после этого общего конгресса составить, перевести и опубликовать на всех языках обращение и разослать его всем рабочим обществам, адреса которых могут быть установлены, независимо от того, вступили они в Интернационал или нет. В этом обраще нии Генеральный Совет должен предложить различным рабочим обществам основать международный союз своей профессии и уточнить то условия, на которых они сами согласны в такой союз вступить. Генеральный Совет соберет эти условия, когда они будут сформулированы, и составит общий проект, который будет предложен всем обществам, желающим вступить в международные профессиональные союзы. Ближайший конгресс Международного Товарищества Рабочих, назначенный на сентябрь 1873 г., утвердит окончательные условия создания международных союзов.
В соответствии с этой резолюцией Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих выработал проект международного профессионального союза, краткое изложение кото-
ПРИЛОЖЕНИЯ
579
рого Британский федеральный совет настоящим предлагает на ваше рассмотрение с просьбой как можно скорее сообщить свое мнение о нем. Само собой разумеется, что данный проект при зван лишь служить отправным пунктом и не имеет какого-либо обязательного или принудительного характера; напротив того, самим союзам предоставляется полная возможность выработать свой собственный устав.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА
1. Все союзы одной профессии в каждой стране выбирают сообща центральный исполнительный орган для этой профессии в данной стране.
2. Центральные органы различных профессий в разных странах избирают генеральный совет для всех профессий и всех стран.
3. Обязанностью генерального совета, опирающегося на консультации и помощь центральных органов, является предупреждение вывоза или ввоза рабочей силы из одной страны (или округа) в другую страну (или округ) всякий раз, как этого потребуют интересы рабочего класса.
4. В случае необходимости вся сила организации должна быть мобилизована на разрешение конфликта, возникшего в какой-либо из профессий или стран.
Международное Товарищество Рабочих, являющееся не чем иным, как объединением рабочих всех стран, сплотившихся для экономического освобождения своего класса, воодушевленное чувством самого искреннего братства, предлагает этот проект на рассмотрение всех членов профессиональных союзрв и рабочих, как примкнувших к Международному Товариществу в индивидуальном или коллективном порядке, так и находя щихся вне его рядов. Тем, кто уже состоит в профессиональных союзах, нет необходимости разъяснять значение совместных действий. Их собственный опыт напомнит им, что каждая победа, одержанная ими в их борьбе против нанимателей, была одержана благодаря совместным действиям, а каждое поражение было вызвано разногласиями и разобщенностью. Проект международного профессионального союза является лишь дальнейшим распространением принципа, уже признанного, осу ществлением идеи, лежащей в основе деятельности бесчисленных местных и национальных обществ, существующих в настоящее время.
Функции международного профессионального союза до сих пор выполнялись Международным Товариществом Рабочих, но
580
ПРИЛОЖЕНИЯ
легко понять, что эти специфические обязанности могут гораздо легче и эффективнее выполняться чисто рабочей организацией, специально предназначенной для этой цели. На первом конгрессе Международного Товарищества Рабочих, созванном в Женеве в 1866 г., были приняты также решения: 1. Создавать во всем мире профессиональные союзы наподобие тех, которые уже существуют в Англии. 2. Организовать статистическое обследование условий жизни рабочих во всех странах, с тем чтобы эти статистические данные собирались самими рабочими. 3. Предложить в качестве предела рабочего дня 8 часов труда; поскольку требование 8-часового рабочего дня в настоящее время выдвигается рабочими Америки, конгресс считал необходимым написать это требование па знамени рабочего класса всех стран.
Все последующие конгрессы подтвердили эти решения. Брюссельский конгресс в 1868 г. принял резолюцию об обра зовании профессиональных союзов и создании общего стачечного фонда. Лондонская конференция 1871 г. приняла следующую резолюцию о сельскохозяйственных рабочих:
«1. Конференция предлагает Генеральному Совету, а также федеральным советам или комитетам подготовить к очередному конгрессу доклады о том, какими средствами обеспечить присоединение земледельцев к движению промышленного пролетариата.
2. В то же время федеральным советам или комитетам предлагается направлять в сельские районы агитаторов с целью организации публичных собраний, пропаганды принципов Интернационала и основания сельских секций».
Наконец, имеется резолюция Гаагского конгресса, которая завершает дело и дает в руки рабочих орудие, с помощью которого можно управлять миром.
Не обращаясь к подробностям многочисленных стачек, в которых Международное Товарищество Рабочих успешно высту пило посредником, мы упомянем лишь два-три характерных факта. В октябре 1866 г. телеграмма, посланная Генеральным Советом во Францию, помешала отправке большого числа французских рабочих-оцинковщиков, собравшихся ехать в Лондон, где им предстояло заменить бастующих английских ра бочих. В марте 1867 г. во время стачки машинистов и кочегаров, когда железнодорожные компании заявили, что на линии направляются рабочие из Франции и Бельгии, Генеральный Совет позаботился о том, чтобы все континентальные газеты Това рищества опубликовали сообщение о стачке, и призвал своих корреспондентов всеми возможными средствами прекратить
ПРИЛОЖЕНИЯ
581
отправку уже нанятых рабочих. Генеральный Совет сделал это по собственной инициативе, не ожидая обращения машинистов и кочегаров, которым, как нам кажется, даже и сейчас неизвестны эти факты. Однако во время процесса парижских членов Интернационала прокурор выдвинул их против Международного Товарищества в качестве обвинения.
Когда американские литейщики забастовали несколько лет тому назад, то, являясь отделением британского Общества литейщиков, они тем не менее сочли нужным обратиться к Генеральному Совету Международного Товарищества Рабочих, чтобы предотвратить ввоз английских рабочих в их страну. Во время недавней стачки плотников и столяров их исполнительный комитет обратился к Международному Товариществу Рабочих, после чего Генеральный Совет предложил всем секретарям-корреспондентам известить о стачке профессиональные союзы на континенте для предотвращения отправки рабочих в Англию. Более того, Генеральный Совет специально поручил одному из своих членов следить за ходом стачки, чтобы вовремя предостеречь континентальных рабочих. Только недавно Британский федеральный совет по просьбе Лондонского общества переплетчиков смог помешать попытке одной лондонской фирмы ввезти иностранных рабочих и принять их на работу за более низкую плату, чем та, на которую соглашаются здеш ние рабочие. Издатели французской газеты, напечатавшей сообщение Британского федерального совета, были приговорены к штрафу и тюремному заключению судом либеральной республики г-на Тьера.
Нет нужды перечислять все те стачки на континенте, которые добились бы выполнения выдвинутых требований, если бы не вмешательство правительств. Мы остановимся только на фактах, имевших место во время последней стачки горняков на севере Франции. Стачка уже продолжалась несколько недель, когда стало известно, что английские тред-юнионы постановили прислать деньги для поддержки бастующих рабочих. Узнав об этом, г-н Тьер (он является акционером данной компании) направил на место стачки войска с категорическим приказом загнать рабочих в шахты для возобновления работ, а сопротивляющихся — расстрелять. Этот приказ был выполнен исправно, к великому ликованию буржуазных газет, снова объявивших г-на Тьера спасителем.
Враги рабочего класса, перепуганные мощью Международного Товарищества Рабочих, исподволь стремились повредить ему в глазах тред-юнионов, изображая его как чисто политическую организацию, не заботящуюся об их профессиональных
582
ПРИЛОЖЕНИЯ
интересах. Несколько вышеприведенных фактов являются нашим ответом на это клеветническое обвинение.
Лондонская конференция (1871) и Гаагский конгресс (1872) утвердили следующую резолюцию о политическом действии рабочего класса:
IX . О ПОЛИТИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ РАБОЧЕГО КЛАССА
«Принимая во внимание,
что во введении к Уставу сказано: «Экономическое освобож дение рабочего класса есть великая цель, которой всякое политическое движение должно быть подчинено как средство»;
что Учредительный манифест Международного Товарище ства Рабочих (186-^) гласит: «Магнаты земли и магнаты капитала всегда будут пользоваться своими политическими привилегиями для защиты и увековечения своих экономических монополий. Они не только не будут содействовать делу освобождения труда, но, напротив, будут и впредь воздвигать всевозможные препятствия на его пути... Завоевание политической власти стало, следовательно, великой обязанностью рабочего класса»;
что на Лозаннском конгрессе (1867) была принята следующая резолюция: «Социальное освобождение рабочих неразрывно связано с их политическим освобождением»;
что в заявлении Генерального Совета по поводу мнимого заговора французских членов Интернационала накануне плебисцита (1870) сказано: «По смыслу нашего Устава особая задача всех наших секций в Англии, на европейском континенте и в Америке бесспорно заключается не только в том, чтобы служить организационными центрами борьбы рабочего класса, но также и в том, чтобы поддерживать в соответствующих странах всякое политическое движение, способствующее достижению нашей конечной цели — экономического освобождения рабочего класса»;
что искаженные переводы первоначального Устава дали повод к ложным толкованиям, которые нанесли вред развитию и деятельности Международного Товарищества Рабочих;
перед лицом необузданной реакции, жестоко подавляющей всякую попытку к освобождению со стороны рабочих и стре мящейся путем грубого насилия сохранить классовые различия и порождаемое ими политическое господство имущих классов;
принимая во внимание,
что против объединенной власти имущих классов рабочий 'класс может действовать как класс, только организовавшись
ПРИЛОЖЕНИЯ
583
в особую политическую партию, противостоящую всем старым партиям, созданным имущими классами;
что эта организация рабочего класса в политическую партию необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной ре волюции и достижение ее конечной цели — уничтожение классов;
что то объединение сил, которое уже достигнуто рабочим классом в результате экономической борьбы, должно служить ему также рычагом в его борьбе против политической власти крупных землевладельцев и капиталистов, —
конференция напоминает членам Интернационала,
что в борьбе рабочего класса его экономическое движение и политическое действие неразрывно связаны между собой» *.
Что касается этой резолюции, то, как мы полагаем, долгом Товарищества было напомнить рабочему классу, что для него пришло время отделиться от буржуазии и принять свою соб ственную политическую линию поведения; только так он перестанет быть орудием честолюбивых буржуазных интриганов независимо от того, называют ли они себя сепаратистами, сецес-сионистами, автономистами или как-нибудь иначе. Предоставим их всех отеческому попечению тех правительств, которые тре бовали от Англии — правда, тщетно — запрещения Генерального Совета и самого Международного Товарищества Рабочих. Эти мелкие личности не могут помешать продвижению рабочего класса к его цели.
Но провозглашая необходимость политической деятельности рабочего класса, Международное Товарищество Рабочих рассматривает ее только как средство для достижения цели, а этой целью является социальное и экономическое освобождение рабочего класса, короче говоря, уничтожение классов.
По мере того как приближается день полного освобождения рабочего класса от его экономического порабощения праздным классом, все более и более очевидным становится первостепен ное значение объединения.
Только отсутствие братских уз единения между рабочими разных стран задерживало до сих пор это освобождение.
На сохранение такого положения, на дальнейшее отчужде ние между рабочими разных стран направлены все усилия государственных деятелей. Для этого пускаются в ход слова «нации» и «расы», для этого пишется история. Для этого сильные мира сего за неимением лучших средств соблазняют невежествен-
• К. Маркс и Ф. Энгельс. Резолюции конференции делегатов Международного Товарищества Рабочих, состоявшейся в Лондоне с 17 цо 23 сентября 1871 года. Ред.
584
ПРИЛОЖЕНИЯ
ные и обманутые народы фальшивыми националистическими лозунгами, натравливают их друг на друга и вовлекают в кровопролитные войны. Но эта игра почти проиграна. Час правителей подходит к концу, близится час народа. Рабочие всего мира, на невежестве и взаимном отчуждении которых зиждется все здание прогнившего современного общества, пробуждаются к пониманию своей коллективной силы, первое же проявление которой превратит в прах это одряхлевшее здание.
Британский федеральный совет:
Мальтман Барри Джордж Милнер
Джордж Беннет Чарлз Мёррей
А. Комбо У. Харрисон Райли
Альфред Дейс Огюст Серрайе
Эжен Дюпон У. Таунсенд
Дж. Джордж Самюэл Викери
Фридрих Лесснер Дж. У. Уилер
Эклектик-холл, Денмарк-стрит, Сохо, 8 мая.
Написано при участии Ф. Энгельса Печатается по тексту газеты
в конце апреля — начале мая 1873 г. „
перевод с английского
Напечатано в приложении к газете
«
The
International
Herald
»
M во,
Ha
vyccKOM
языке
публикуется впервые
24 мая 1873 г.
ПРИМЕЧАНИЯ УКАЗАТЕЛИ
[ 585
[ 587
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Серия статей Ф. Энгельса «Письма из Франции» (как и статьи «Письма из Германии», см. настоящий том, стр. 27—36, 60—63) была написана для чартистского журнала « Democratic Review», издававшегося Дж. Дж. Гарни в Лондоне в 1849—1850 гг. Редактор журнала Гарни и Энгельс старались придать статьям характер корреспонденций, присланных непосредственно из Парижа, что особенно заметно в шестой статье (см. примечание 31). Анализ статей показывает, что они основаны на материалах не только французской, но и английской прессы, а также других источниках информации (частные письма в адрес Энгельса из Парижа, наблюдения члена Союза коммунистов Фердинанда Вольфа, который, будучи выслан из Парижа, приехал в Лондон в декабре 1849 г.). Четвертое письмо серии — «Выборы. — Славная победа красных. — Преобладающее влияние пролетариата. — Уныние в партии порядка. — Новые планы репрессий и провокаций по отношению к революции» — писалось Энгельсом одновременно с работой Маркса над третьей главой «Классовой борьбы во Франции» (март 1850 г.), которая тогда печаталась в «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» под общим заглавием «С 1848 по 1849». В статьях Энгельса содержится глубокий анализ политической обстановки во Франции.^ Приведенные в «Письмах из Франции» факты и оценки событий часто повторяются, помимо указанной выше третьей главы «Классовой борьбы», в «Третьем международном обзоре», а также позднее в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» (см. настоящее издание, т. 7, стр. 65—96, 473—483; т. 8, стр. 115—217). Совпадение многих мыслей и самого подхода к анализу французских событий несомненно свидетельствует о том, что в «Письмах из Франции» нашла отражение совместная точка зрения Маркса и Энгельса.
Еженедельная чартистская газета « The Northern Star», публикуя обзоры новых номеров « Democratic Review », всякий раз отмечала особую значимость «Писем из Франции» и «Писем из Германии». Так, в обзоре декабрьского номера (« The Northern Star», 5. I 1850) говорилось, что ««Письма из Франции и Германии» составляют новую и ценную часть этого журнала; они будут способствовать продвижению вперед славного дела братства между народами»,
20 М. в 8., т. 44
588
ПРИМЕЧАНИЯ
«Письма из Франции» и «Письма из Германии» публикуются в 44 томе в той же последовательности, как и в « Democratic Review», хотя первое письмо из Германии помечено 18 декабря, а первое письмо из Франции — 20 декабря 1849 года.
Впервые на русском языке «Письма из Франции» опубликованы в журнале «Вопросы истории КПСС», 1976, №№ 8—9. — 3.
2 Эта информация, по-видимому, взята Энгельсом из телеграфного сообщения, опубликованного в « Times » 19 декабря 1849 г.; законопроект был внесен в Национальное собрание 18 декабря 1849 г. — 3.
3 Постановление об отмене налога на вино с 1 января 1850 г. было принято Учредительным собранием 19 мая 1849 г. — 4.
ь Droit d'octroi (право октруа) — пошлина на ввозимые в город предметы широкого потребления. — 4.
5 Непосредственным поводом к февральской революции послужил запрет назначенного на 22 февраля 1848 г. очередного антиправительственного банкета и демонстрации в Париже. — 6.
в Во Временном правительстве (24 февраля — 4 мая 1848 г.) пост министра финансов занимали представители партии умеренных буржуазных республиканцев: банкир Мишель Гудшо, ушедший 5 марта в отставку, и сменивший его Луи Антуан Гарнье-Пажес. — 6.
7 Речь идет об образовавшейся в 1848 г. после поражения Июньского восстания парижского пролетариата так называемой партии порядка, которая представляла собой коалицию соперничающих монархических группировок — легитимистов и орлеанистов; возглавлялась Тьером, Фаллу, Монталамбером и др. — см. об этом в работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции» (настоящее издание, т. 7, стр. 57—59). — 6.
8 На президентских выборах во Франции, состоявшихся 10 декабря 1848 г., за кандидатуру Луи-Наполеона голосовало 5 343 тысячи человек — 8/4 общего числа участников выборов. — 7.
в С декабря 1848 г. Елисейский дворец служил резиденцией президента Французской республики Луи-Наполеона Бонапарта. — 7.
Ю По поводу данной статьи цикла «Письма из Франции», а также второй статьи «Писем из Германии» (см. настоящий том, стр. 29—33) « The Northern Star» (2 февраля 1850 г.) писала: ««Письма из Франции и Германии» бесспорно наиболее важны среди материалов этого номера « Democratic Review ». Разоблачения намерений европейских деспотов и приведенные доказательства развития революционного духа во Франции и Германии придают этим письмам чрезвычайную ценность. У письма из Франции один недостаток — оно сравнительно коротко». — 7.
И Говоря об изменении настроений французского крестьянства за последние 12—15 месяцев, Энгельс сравнивает обстановку во Франции зимой 1850 г. с теми впечатлениями о враждебности французского крестьянства революционным выступлениям городского пролетариата, которые он вынес из своего путешествия ш Франции в октябре — ноябре 1848 г, (см, настоящее издание, т, 5, стр. 510—512). — /,
ПРИМЕЧАНИЯ
589
12 Фригольдеры — одна из категорий мелких землевладельцев в Англии, которая вела свое начало от средневековых «свободных держателей»; фригольдеры платили лендлорду незначительную фиксированную денежную ренту и имели право свободно распоряжаться своими земельными участками. Здесь, как и во многих других случаях, Энгельс, описывая явления французской и немецкой действительности, старается употреблять знакомые английским рабочим понятия. — 7.
13 16 марта 1848 г. Временное правительство издало декрет о введении надбавки в 45 сантимов на каждый франк четырех прямых налогов с земельных собственников (поземельный налог, налог на движимость, налог на окна и двери, патенты); тяжесть нового налога легла главным образом на мелких крестьян. — 7, 51.
I * 13 декабря 1849 г. с целью отстранения от должности демократически настроенных учителей, еще до принятия нового закона об образовании (см. примечание 16) министр образования Парье внес в Законодательное собрание временный закон, согласно которому учителя подчинялись власти полицейских префектов. Закон был принят И января 1850 г. - 8.
15 Эти сведения Энгельс заимствует, по-видимому, из статьи в газете «Times» от 21 января 1850 г., в которой сообщалось, что Этьен Эдуар Фаван, республиканец, примыкавший к партии Горы, на выборах в департаменте Гар после смерти легитимистского депутата Жан Батиста де Бона получил 21 668, консерватор Э. Грель — 12 745, а легитимист Лурдуэ — 9 249 голосов. — 8.
le Имеется в виду закон о реформе народного образования (так называемый закон Фаллу), проект которого был внесен 18 июня 1849 г. министром народного просвещения Фаллу. Этот закон, принятый Законодательным собранием 15 марта 1850 г., закреплял за католической церковью и религиозными организациями господствующее положение в народном образовании. — 9.
17 Сообщение о том, что закон о высылке июньских повстанцев в Алжир будет рассматриваться в Законодательном собрании 21 января 1850 г., было опубликовано в «Le Moniteur Universel» № 20, 20. I 1850 г. — 9.
,18 2 марта 1850 г. « The Northern Star » при обзоре мартовского номера « Democratic Review» писала о данной статье и о третьей статье «Писем из Германии» (см. настоящий том, стр. 34—36) следующее: «Мы должны добавить, что «Письма из Франции и Германии» содержат важные разоблачения намерений Священного союза и его орудия — президента Бонапарта. Вероятно, эти письма являются наиболее ценной частью « Democratic Review», каждый должен их прочесть — уж во всяком случае каждый, кто хочет знать правду о народах и тиранах на континенте. «Письма», опубликованные в этом номере, показывают, что великие события не за горами». — 9.
I 9 «Деревья свободы» были посажены на улицах Парижа после победы февральской революции 1848 года. Посадка «деревьев свободы» — обычно дубов или тополей — стала традицией во Франции еще в период буржуазной революции конца XVIII в. и была а свое время закреп-
20*
590
ПРИМЕЧАНИЯ
лена постановлением Конвента. В январе 1850 г. под предлогом устранения помех уличному движению по приказу префекта полиции Карлье «деревья свободы» срубали. Этими действиями власти, по существу, пытались спровоцировать народные волнения. Упомянутый Энгельсом рисунок помещен в « The Illustrated London News » № 412, 9. II 1850 г. — 10.
20 Имеется в виду годовщина февральской революции 1848 года. — 10.
21 В Версале с 10 октября по 15 ноября 1849 г. происходили заседания Верховного суда по делу участников организованной депутатами Горы 13 июня 1849 г. демонстрации протеста против нарушения конституции — посылки французских войск для подавления революции в Риме. Из 76 подсудимых 29 судились заочно; в результате процесса 11 человек были оправданы, 36 приговорены к высылке. — 10.
22 Эти дебаты во французском Законодательном собрании 16 фовраля 1850 г. Энгельс приводит по отчету, опубликованному в «Le Moniteur universel» № 48, 17. II 1850 г. — 11.
23 фрагмент данной статьи со слов: «Поистине такой состав знаменателен...» и до конца данного абзаца под названием «Избрание Карно, Видаля и Дефлотта» приведен в « The Northern Star » 6. IV 1850 г. в обзоре апрельского номера «Democratic Review». — 12.
21 Данная фраза: «О Швейцарии теперь не может быть и речи» является одним из доказательств того, что оба цикла статей — «Письма из Германии» и «Письма из Франции» — написаны одним автором. О замысле Священного союза начать поход против революции Энгельс писал 18 февраля 1850 г.*в третьей статье серии «Письма из Германии». В частности, в этой статье содержится такая фраза: «Несомненно, если во Франции не случится ничего неблагоприятного, в будущем месяце начнется «священная» кампания против Швейцарии и, быть может, Турции» (см. настоящий том, стр. 35). — 13.
25 Так же как н в предыдущем случае (см. примечание 24), данная фраза Энгельса подтверждает принадлежность его перу и «Писем из Франции», и «Писем из Германии». Мысль о быстром приближении революции развивалась Энгельсом в третьем письме из Франции, а соображения о предстоящей войне, о планах Священного союза начать войну в Европе, чтобы задушить революцию, в третьей статье «Писем из Германии». Кроме того, в том же февральском письме из Германии Энгельс рассматривает вопрос о попытках деспотических правительств Австрии, Пруссии и России получить с этой целью займы за границей. Он писал при этом, что «Россия и Пруссия добывают деньги, чтобы воевать. Австрия же должна воевать, чтобы добыть деньги!» (см. настоящий том, стр. 35). Здесь же, в мартовской статье «Писем из Франции», возвращаясь к своей мысли, он приходит к выводу, что «уже нельзя больше содержать армии внутри каждой страны — либо их нужно распустить, либо они должны содержать себя сами за счет противника». — 14.
26 Парижский гарнизон участвовал в выборах на основании декрета Временного правительства от 4 марта 1848 г., в соответствии с которым избирательным правом пользовались все французы мужского пола, достигшие 21 года. — 14.
ПРИМЕЧАНИЯ
591
27 По-видимому, эта информация была получена Энгельсом не из газет: перечисленные в «Le Moniteur Universel» 20 и 21 марта законопроекты, которые были выдвинуты для обсуждения в Законодательном собрании в эти дни, лишь отчасти совпадают с теми законопроектами, которые названы Энгельсом в данной статье. Это предположение подтверждается и первым абзацем следующей статьи Энгельса. — 14.
28 В обзоре данного номера « Democratic Review», опубликованном 4 мая 1850 г. в « The Northern Star», говорилось, что «в этом месяце статья «Письмо из Франции» представляет особый интерес». — 14.
28 Обсуждение проекта закона о высылке рабочих из Парижа происходило на заседаниях Законодательного собрания 4, 5, 18—22 апреля 1850 г. - 15.
30 Буржуазным спартанцем Энгельс иронически называет парижского коммерсанта Александра Леклера, награжденного орденом Почетного легиона за то, что он в качестве национального гвардейца участвовал вместе со своими сыновьями в подавлении Июньского восстания 1848 года. — 16.
31 Данное иисьмо, по-видимому, не было написано Энгельсом целиком. Оно было опубликовано в виде фрагмента в июньском номере « Demo cratic Review » в статье Гарни «Тактика и программа контрреволюционеров» со следующим комментарием: «Мы начали опасаться ареста нашего парижского корреспондента; его письмо, по сравнению с обычным сроком, было получено нами с задержкой на несколько дней. Оно пришло только тогда, когда наш журнал шел в печать. И мы можем привести здесь лишь краткие извлечения». — 17.
82 Энгельс имеет в виду результаты состоявшегося 22 мая 1850 г. предварительного обсуждения закона об отмене всеобщего избирательного права. За его отмену было подано 462 голоса, против — 227. Подробнее об этом см. в «Классовой борьбе во Франции» и в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» (настоящее издание, т. 7, стр. 101—102; т. 8, стр. 163—165). — 17.
83 Намек на обращение газеты мелкобуржуазных республиканцев «La République» к народу от 17 мая 1850 г. с призывом любой ценой соблюдать спокойствие («La République», 18. V 1850), а также на речь Виктора Гюго в Законодательном собрании 21 мая 1850 г. при обсуждении проекта изменения избирательного закона («Le Moniteur Universel», 1er et 2iràie supplément au № 142, 22. V 1850, p. 1762—1763). — 17.
84 О падении авторитета представителей мелкобуржуазного социализма и революционных демократов (Альбера, Барбеса, Луи Блана, Прудона и др.) среди французских рабочих Энгельсу писал из Парижа Дронке (21 февраля и в начале мая 1850 г.). —19.
85 При обсуждении Законодательным собранием проекта закона о ежегодной прибавке к содержанию президента, внесенного в Собрание министром финансов Фульдом 4 июня 1850 г., была назначена специальная комиссия из 15 человек (Баву, Кретон, Шапо, Фортуль и др.), которая 14 июня отклонила этот проект, —19,
592
ПРИМЕЧАНИЯ
36
Речь идет о проспекте
брошюры некоего Даниэля Борма:
Borme fils.
Le Rideau est levé. Grande lanterne magique des pâtissiers
politiques
des
24
février,
15
mai et
24
juin
1848,
dédiée
aux paysans, aux ouvriers
laborieux et aux honnêtes gens, par M. Borme fils, ex-accusé du
15
mai.
[Paris], impr. de Mme de Lacombe
[1850]
in
4°,
2
p.
(
Борм
-
сын
.
Занавес
поднят. Яркий волшебный фонарь, осветивший политическую возню
24 февраля, 15 мая и 24 июня 1848 г., посвященный крестьянам, тру
долюбивым рабочим и честным гражданам г-ном Бормом, бывшим
обвиняемым по делу 15 мая. [Париж], напечатано у г-жи Лакомб
[1850]
in
4°, 2 стр.). В этом проспекте говорится об участии Борма
в организации выступлений роялистов в марте — мае 1848 г., а также
в процессе, проходившем в Бурже.
Процесс в Бурже проходил 7 марта — 3 апреля 1849 г. над парижскими рабочими, участниками событий 15 мая 1848 г. (см. примечание 81). В результате процесса Барбес был приговорен к пожизненному тюремному заключению, Бланки — к 10 годам одиночного заключения, Собрие, Распайль, Альбер и другие — к различным срокам тюремного заключения и ссылке в колонии. — 21.
37
Речь идет о попытке газеты
«Times»
использовать Борма в
качестве
свидетеля в процессе, возбужденном против этой газеты бывшим
префектом полиции Парижа в феврале — июне 1848 г. мелкобуржуаз
ным домократом Коссидьером, по обвинению в клевете на парижскую
полицию за публикацию отрывков из книги
A. Chenu. Des Conspira
teurs. Les sociétés secrètes; la préfecture de
police sous Cossidière; les
corps francs. Paris, 1850
(A. Шеню.
Заговорщики. Тайные общества;
префектура полиции при Коссидьере; вольные стрелки. Париж, 1850).
11 июня 1850 г. газета
«La République»
опубликовала письмо Борма,
в котором он протестовал против попытки
«Times»
использовать его
в качестве свидетеля защиты в этом процессе; письмо Борма было пере
печатано также в лондонской газете «
The
Red
Republican
» № 3, 6.
VII
1850 (
vol
. 1). — 21.
88 Вместо увеличения цивильного листа на 3 млн. франков в год Законодательное собрание предоставило Луи-Наполеону единовременную сумму в 2 160 тыс. франков (см. настоящее издание, т. 7, стр. 105). — 21.
se Имеется в виду принятое Законодательным собранием 16 июля 1850 г. постановление о внесении залога за газеты и введении штемпельного сбора за периодические и непериодические издания. — 21.
40 Речь идет о статье «Affaiblissement graduel de l'Assemblée nationale» («Постепенное ослабление Национального собрания»), опубликованной в бонапартистской газете «Le Pouvoir» 15 июля 1850 г. Газета была оштрафована в соответствии со статьей 15 закона от 25 марта 1822 г. за оскорбление палат. — 23.
а Всего Энгельсом в « Democratic Review » под заглавием «Письма из Германии» (см. примечание 1) опубликовано четыре статьи; первые три из них, содержащие взаимные отсылки, публикуются в 44 томе вместе под общим заголовком «Письма из Германии»; четвертое письмо, написанное позднее и не содержащее прямых ссылок на первые три, помещено отдельно, в соответствии с той датой, которой оно помечено в « Democratic Review » (см. настоящий том, стр. 60—63). — S 7.
ПРИМЕЧАНИЯ
593
42 Этот термин, образованный по аналогии с часто встречавшимися в чартистской прессе понятиями («profitmongers», «moneymongers»), употребляется Энгельсом здесь хронологически впервые; в «Письмах из Франции» он применяет его для обозначения сторонников «партии порядка» (см. примечание 7). — 27.
43 Речь идет о франкфуртском Национальном собрании, которое 30 мая перенесло свои заседания в Штутгарт, а 18 июня 1849 г. было разогнано вюртембергскими властями. — 27.
44 Interim (временное соглашение) — договор, заключенный в сентябре 1849 г. между Пруссией и Австрией, о совместном руководстве делами Германии до окончательного решения вопроса о германской конституции. На основании этого договора была создана прусско-австрийская союзная комиссия. — 27.
45 К этому месту статьи редакция журнала сделала следующее примечание: «Уже после получения данного письма в Англию пришло сообщение об отказе «Регента» и передаче его власти (?) австрийским и прусским уполномоченным. Так закончился франкфуртский фарс. Редакция «Democratic Reviewin. Вероятно, текст этого примечания был написан самим Энгельсом. — 27.
46 Это регентство было избрано 7 июня 1849 г. в составе пяти человек (Раво, Фогт, Симон, Шюлер, Бехер); после поражения революции все они эмигрировали в Швейцарию. — 28.
*7 «Союз трех королей» («Уния трех королей») — заключенное 26 мая 1849 г. в Берлине соглашение между Пруссией, Саксонией и Ганновером, которое представляло собой попытку прусской монархии добиться гегемонии в Германии. Это соглашение предусматривало приспособление имперской конституции, выработанной франкфуртским Национальным собранием, к интересам монархии. Был избран даже парламент, собравшийся в Эрфурте 20 марта 1850 г. Ограниченным «федеральным государством» этот союз называли прежде всего за ограниченность полномочий центральной власти. С самого начала в Союз не вошла не только Австрия, но и ряд других германских государств (Бавария и др.), почему «Союз трех королей» в тогдашней литературе иногда называли прусским Зондербундом (см. примечание 65). В ноябре 1850 г. Пруссия под давлением России и Австрии была вынуждена от него отказаться. — 28.
48 Намек на то, что 28 мая 1849 г. прусское правительство обратилось к немецким правительствам с призывом присоединяться к «Союзу трех королей». Обращение вместе с проектом новой имперской конституции было опубликовано немецкой печатью в конце мая — начале июня 1849 г. — 28.
*9 Ирония Энгельса по отношению к бессильным попыткам разного рода центральных органов власти в Германии осуществить объединение страны сквозит даже в подчеркнутом употреблении заглавных букв. — 28.
80 Намек на Николая I , который был женат на сестре прусского короля Фридриха-Вильгельма IV , принцессе Шарлотте (Александре Федоровне), — 29,
594
ПРИМЕЧАНИЯ
и Энгельс имеет в виду оправдание судом присяжных в декабре 1849 г. в Берлине и Кенигсберге руководителей левого крыла в прусском Национальном собрании Б. Вальдека и И. Якоби, которым в связи с их отказом покинуть франкфуртское Собрание по требованию прусского правительства предъявлялось обвинение в государственной измене. — 29.
52 Оранжисты — члены реакционной террористической организации, созданной в Ирландии в 1795 г. лендлордами и протестантским духовенством для борьбы против национально-освободительного движения ирландского народа. Орден оранжистов систематически занимался натравливанием протестантов на ирландцев-католиков. Свое название получил в память Вильгельма III Оранского, подавившего восстание в Ирландии в 1688—1689 гг. — 29.
53 С 1615 г. осуществление почтовой связи в Германской империи, за исключением Пруссии и некоторых других государств, было наследственным правом князей Турн-унд-Таксис, которое после французской буржуазной революции конца XVIII века в ряде областей было утрачено. В 1815 г. между Турн-унд-Таксисом и некоторыми государствами, в первую очередь в Южной Германии, были заключены соглашения, по которым привилегия почтовых перевозок была возвращена Турн-унд-Такейсам или за ежегодный налог, пли в качестве ленного права. В Вюртемберге управление почтой перешло снова в руки Турн-унд-Таксиса в 1819 г. за ежегодный взнос в 70 тысяч гульденов. В конце
1849
г.
Interim
(см. примечание 44) положил конец уже выработанному
договору о переходе почты к вюртембергскому правительству. Только
в 1851 г. она была передана в его руки за выкуп в 1
V
2
миллиона гуль
денов. — 30.
54 Речь идет об австрийской конституции 4 марта 1849 г. и созданных на ее основе конституциях отдельных немецких земель, входящих в состав Австрийской империи. В жизнь проведены не были. — 30.
55 Этот факт биографии Энгельса до сих пор был неизвестен; однако высказанная в этом споре идея развита Энгельсом в 1846 г. в статье «Вопрос о прусском банке» (см. настоящее издание, т, 4, стр. 22— 23). — 31.
M Энгельс имеет в виду речь, произнесенную Кобденом 18 января 1850 г. в Лондон-таверн, Бишопсгейт-стрит, на митинге, созванном в связи с предложением о русском займе на сумму в 5 500 тысяч фунтов стерлингов для строительства железной дороги между Петербургом и Москвой. Отчет о митинге и речь Кобдена опубликованы в « Times » 19 января
1850 г. — 31.
57 5 декабря 1848 г. одновременно с разгоном прусского Национального собрания была опубликована октроированная конституция. В соответствии с ней в Пруссии вводилась двухпалатная система, первая палата с помощью возрастного и имущественного ценза превращалась в привилегированную «палату господ»; к двустепенным выборам во вторую палату по избирательному закону от 5 декабря 1848 г. допускались только так называемые самостоятельные пруссаки. — 31.
*& Вторая палата была распущена Фридрихом-Вильгельмом IV в апреле 1849 г„ а 30 мая был издан новый избирательный закон, устанавли-
ПРИМЕЧАНИЯ
595
вавший трехклассную систему выборов, основанную на высоком имущественном цензе и неравном представительстве различных слоев населения. Каждый класс выставлял одинаковое количество выборщиков независимо от числа избирателей. Таким путем королю удалось добиться избрания раболепного большинства в палату депутатов, которая, собравшись 7 августа 1849 г., приняла предложенную правительством конституцию. — 32.
59 Речь идет о послании Фридриха-Вильгельма IV от 7 января 1850 г., в котором содержались его поправки к конституции 7 августа 1849 г. (см. примечание 58). Послание опубликовано в «Neue Preußische Zeitung» № 9, 11 января 1850 г. — 32.
60 Звездная палата (англ. — Court of Star Chamber ) — высшее судебное учреждение Англии в XV — XVII вв. (получила свое название от украшенного звездами потолка зала заседаний в королевском дворце в Вестминстере). — 32.
61 Этот процесс в Кёльне проходил 17—19 января 1850 г. — 33.
62 Новая конституция Пруссии была принята 31 января 1850 г.; ее характеристику см. в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Первый международный обзор» (настоящее издание, т. 7, стр. 224—225, 234—235). Ниже Энгельс иронизирует над речью Фридриха-Вильгельма IV , произнесенной им в связи с принятием этой конституции перед обеими палатами прусского рейхстага 6 февраля 1850 г. — 34, 64.
63 Речь идет о тронной речи Фридриха-Вильгельма IV при открытии Соединенного ландтага в Пруссии 11 апреля 1847 года. — 34.
64 В результате буржуазной революции 29 февраля 1848 г. княжество Невшатель в Швейцарии, сохранявшее вассальную зависимость от Пруссии (об истории этих отношений см. примечание 295), было провозглашено республикой. О событиях 1848 года в Невшателе см. статью Энгельса «Бывшее княжество» (настоящее издание, т. 6, стр. 3—4). — 36.
65 Зондербунд — сепаратный союз семи экономически наиболее отсталых католических кантонов Швейцарии, заключенный в 1843 г. с целью сопротивления прогрессивным буржуазным преобразованиям в Швейцарии и защиты привилегий церкви и ордена иезуитов. 23 ноября 1847 г. армия Зондербунда, выступившая против остальных кантонов при поддержке Австрии и Пруссии, была разбита войсками федерального правительства. — 36, 356.
ее Данное «Уведомление» написано К. Марксом и Ф. Энгельсом в связи с тем, что выпуск первого номера «Neue Rheinische Zeitung. Politischökonomische Revue», материалы для которого были отправлены в Гамбург в начале февраля 1850 г., задержался. Первый номер «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» был готов к 28 февраля и вышел в Гамбурге 8 марта, второй —ок. 25 марта 1850 г. — 39.
67 Во втором выпуске журнала «Neue Rheinische Zeitung. Politischökonomische Revue» была опубликована вторая глава «Классовой борьбы во Франции» — «13 июня 1849 г.»; указанная в «Уведомлении» третья глава — «Влияние 13 июня на континент» под заглавием
596
ПРИМЕЧАНИЯ
«Последствия 13 июня 1849 г.» была помещена в третьем номере «Revue»; эамысел четвертой и отчасти третьей глав был реализован Марксом в других материалах журнала, в частности, в написанных им совместно с Энгельсом международных обзорах. — 39.
68 Четвертая глава работы Ф. Энгельса «Германская кампания за имперскую конституцию» под заглавием «Умереть за республику!» была опубликована в третьем номере «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue», который вышел в свет около 11 апреля 1850 г. — 39.
69 Этот замысел не был осуществлен.
Лондонское Общество немецких рабочих (Просветительное общество немецких рабочих) — см. примечание 94. — 39.
70 Статью о финансовом положении Пруссии по просьбе Маркса должен был написать немецкий историк и публицист, мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848—1849 гг. Густав Бергенрот, который 10 февраля 1850 г. в ответ на письмо Маркса от 7 февраля обещал выполнить эту работу. Однако последовавшая затем высылка Берген-рота из Берлина помешала осуществиться этому намерению, о чем Бергенрот информировал Энгельса в письме 9 марта 1850 г. — 39.
71 В конце «Уведомления» редакция поместила следующее объявление: ««Neue Rheinische Zeitung» выходит ежемесячными выпусками объемом не менее пяти листов. Подписная цена на три месяца — 25 зильбергрошей, отдельный номер стоит 10 зильбергрошей. Ответственный издатель К. Шрамм». — 39.
72 Произведение Ф. Энгельса «Два года одной революции. 1848 и 1849 гг.» представляет собой реферат первой главы работы К. Маркса «Классовая борьба во Франции» (см. настоящее издание, т. 7, стр. 8—32), которая публиковалась в 1850 г. в «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» (см. примечания 1 и 67). Реферат, опубликованный в апреле — июне 1850 г. в « Democratic Review», содержит рассказ об издании «Neue Rheinische Zeitung» и судьбах редакторов газеты, общую оценку работы Маркса, а также новые факты и собственные соображения Энгельса по поводу событий во Франции. Энгельс приводит в реферате большие выдержки из работы Маркса, причем старается сделать их более доступными для понимания английского читателя. Важнейшие разночтения между текстом Маркса и рефератом Энгельса указываются в подстрочных примечаниях. — 40.
78 Маркс приехал в Париж после закрытия «Neue Rheinische Zeitung» в начало июня 1849 г. с мандатом Центрального комитета демократов и сразу установил связи с руководителями французского демократического и социалистического движений, тайных рабочих организаций. Кроме него в Париже оказались еще три редактора «Neue Rheinische Zeitung» — Г. Веерт, Ф. Вольф и Э. Дронке, которые приняли участие в событиях 13 июня. — 40.
7* Речь идет о самом Энгельсе, который принял участие в баденско-пфальцеком восстании в качестве адъютанта Виллиха и участвовал в четырех сражениях. Отряд Виллиха после поражения восстания последним покинул немецкую территорию, вместе с ним Энгельс
ПРИМЕЧАНИЯ
597
перешел швейцарскую границу 12 июля 1849 г. В рядах революционной армии сражались также наборщики «Neue Rheinische Zeitung» и многие члены Союза коммунистов, в их числе и погибший в бою Иосиф Молль. — 40.
75
В 1895 г.
Энгельс, выпуская «Классовую борьбу во Франции» отдель
ным изданием, дал следующее примечание об этих событиях: «8 июля
1847 г. в Париже в палате пэров начался процесс против Пармантье
и генерала Кюбьера — они обвинялись в подкупе чиновников с целью
получить соляную концессию — и против тогдашнего министра обще
ственных работ Теста, обвинявшегося в том, что он принимал от них
взятки. Последний во время процесса пытался покончить с собой.
Все были приговорены к крупным денежным штрафам. Тест, кроме
того, — к трем годам тюремного заключения» (настоящее издание,
т. 7, стр. 81). — 42.
76
Восстание в
Париже 5—6 июня 1832
s. было
подготовлено левым
крылом республиканской партии, тайными революционными общест
вами, в том числе Обществом друзей народа. Принимавшие участие
в восстании рабочие соорудили ряд баррикад и защищались с боль
шим мужеством и стойкостью.
Восстание рабочих в Лионе в апреле 1834 г., проведенное под руководством тайного республиканского Общества прав человека и гражданина, относится к числу первых массовых выступлений французского пролетариата. Восстание, поддержанное республиканцами в ряде других городов, особенно в Париже, было жестоко подавлено.
Восстание 12 мая 1839 г. в Париже, в котором главную роль играли революционные рабочие, было подготовлено тайным республиканско-социалистическим Обществом времен года под руководством О. Бланки и А. Барбеса; оно было разгромлено войсками и национальной гвардией. — 42.
77
Джордж Хадсон
— по-видимому, Энгельс имеет в виду Джефри Хад-
сона (1619—1682), английского карлика, пажа Генриетты Марии,
жены английского короля Карла
I, капитана
королевских войск во
время гражданской войны. Широкой его известности способствовал
роман «Певерил Пик», в котором Вальтер Скотт изобразил Джефри
Хадсона под собственным именем.
Робер Макер — тип ловкого дельца-пройдохи, созданный знаменитым французским актером Фредериком Леметром и увековеченный в карикатурах Оноре Домье. Образ Робера Макера являлся сатирой на господство финансовой аристократии в период Июльской монархии. — 43.
78
В феврале 1846 г.
готовилось восстание в польских землях с целью
национального освобождения Польши. Однако в результате предатель
ства со стороны шляхетских элементов и ареста руководителей вос
стания прусской полицией восстание вспыхнуло только в Кракове.
22 февраля повстанцам удалось одержать победу и создать нацио
нальное правительство, выпустившее манифест об отмене феодальных
повинностей. Восстание было подавлено в начале марта 1846 г.,
а в ноябре Австрия, Пруссия и Россия подписали договор о присое
динении Кракова к Австрийской империи. Это решение фактически
было нарушением Венского договора 1815 г., однако ни Англия,
ни Франция против иего не выступили.
598
ПРИМЕЧАНИЯ
Зондербунд — см. примечание 65. Во время ноябрьских событий
1847
г. Гизо фактически стал на позиции Австрии и Пруссии, попы
тавшихся вмешаться в швейцарские дела и оказать поддержку Зон-
дербунду.
12 января 1848 г. в Палермо (Сицилия) вспыхнуло восстание, послужившее сигналом для начала революции во всей Италии. '— 44.
7» В Бюзансе (департамент Эндр) весной 1847 г. голодные рабочие, жители окрестных деревень, совершили нападение на продовольственные склады спекулянтов, что привело к кровавому столкновению населения с войсками. 16 апреля 1847 г. четверо участников событий были казнены, многие другие приговорены к каторге. — 44.
80 Возможно, что Энгельс при составлении реферата пользовался не окончательным вариантом, а первоначальной рукописью Маркса, так как приведенный в этом абзаце текст не полностью соответствует окончательному варианту «Классовой борьбы» (см. настоящее издание, т. 7, стр. 16—17). — 48,
81 15 мая 1848 г. парижские рабочие предприняли попытку разогнать Учредительное собрание и создать новое временное правительство; они требовали выполнить обещание о предоставлении рабочим хлеба, работы и создания министерства труда. Выступление было подавлено, а вожди восставших — Бланки, Барбес, Альбер, Распайль — арестованы (см. примечание 36). — 57.
82 Публикация заканчивается пометкой редакции «Продолжение следует», однако это обещание выполнено не было. — 59.
83 Речь идет о февральской революции 1848 года. — 60.
84 Энгельс говорит о так называемом процессе Рискон-Ту, имевшем место 9—30 августа 1848 г. в Антверпене. Процесс был сфабрикован правительством бельгийского короля Леопольда для расправы с демократами. Поводом для него послужило столкновение 29 марта
1848
г. бельгийского республиканского легиона, отправлявшегося
из Франции на родину, с отрядом солдат бельгийской армии у дере
вушки Рискон-Ту. Этому событию Энгельс в
«Neue
Rheinische Zeitung»
посвятил специальную
статью «Смертные приговоры в Антверпене»
(см. настоящее издание, т. 5, стр. 403—406). — 60.
85
Так называемая аундская пошлина — денежный
сбор, который с 1425
по 1857 г. взимался Данией с иностранных судов, проходивших через
пролив Зунд. — 61.
ее Энгельс, по-видимому, имеет в виду тайный русско-датский договор о дружбе, союзе и помощи, заключенный в 1767 г. и подтвержденный трактатом 1773 г. В соответствии с этим трактатом великий князь Павел Петрович (будущий русский император) уступал Дании полученные им по наследству от Петра III права на Готторпское герцогство в обмен на графства Ольденбург и Дельменхорст в Северной Германии. С присоединением Готторпского герцогства весь Шлезвиг-Гольштейн оказался во владении Дании. Дания выступала также на стороне России в Северной войне (1700—1720), была ее союзницей по договору о «вооруженном нейтралитете» (см. примечание 492) и в русско-шведской войне 1788—1790 гг. — 61.
ПРИМЕЧАНИЯ
599
87
С 1460 г. между Данией, Шлезвигом и Гольштейном
существовала
личная уния. Король Дании при своем избрании в герцогствах Шлез-
виг и Голыптейн должен был давать клятву, что оба они «навечно»
должны оставаться едиными. В обоих герцогствах наследование шло
только по мужской линии, а в Дании с 1665 г. допускалось наследо
вание и но женской линии. — 62.
88 Текст ноты Вильденбруха напечатан в приложении к газете «Allgemeine Zeitung» № 170, 18 июня 1848 г. Об этой ноте см. также в статье Маркса «Новогодние поздравления» (настоящее издание, т. 6, стр. 171). — 62.
89 Сражение у Фредерисии состоялось 6 июля 1849 года. — 62.
90 Мир между Пруссией и Данией был заключен 2 июля 1850 года. — 62.
91 Набросок раздела о Германии для «Третьего международного обзора», опубликованного К. Марксом и Ф. Энгельсом в ноябре 1850 г. в № 5—6 «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» (см. настоящее издание, т. 7, стр. 446—490), был написан К. Марксом, вероятно, в октябре 1850 г. Наряду с мыслями, получившими обстоятельное развитие в «Обзоре», данный набросок содержит и положения, которые не нашли отражения в опубликованной работе. — 64.
92 Великое герцогство Гессен-Дармштадт и курфюршество Гессен-Кас-сель (Кургессен), давшие в 1849 г. согласие войти в объединение германских государств под гегемонией Пруссии (см. примечание 47), в 1850 г. под давлением Австрии и России вышли из унии и перешли на сторону Австрии. — 64.
98 Крестьянство пожало плоды революции — речь идет об отмене крепостной зависимости австрийских крестьян, проведенной австрийским рейхстагом 31 августа 1848 года. См. об этом: Ф. Энгельс. «Революция и контрреволюция в Германии» (настоящее издание, т. 8, стр. 39—40).
Покровительственная система по отношению к банку — речь идет о ряде правительственных мер, поставивших австрийский национальный банк под защиту государства: 22 мая 1848 г. — министерский указ, позволявший банку ограничить обмен банкнот на звонкую монету и вводивший их принудительный курс; в начале 1849 г. при содействии банка был начат выпуск государственных бумажных денег; 6 декабря 1849 г. — соглашение между государством и банком, регулирующее их взаимные претензии, и др. — 64.
94 Этот набросок, который предполагалось опубликовать от имени членов Союза коммунистов К. Пфендера и Г. Бауэра, вероятно, был составлен К. Марксом и Ф. Энгельсом во время их встречи в Лондоне в конце декабря 1850 г. в связи с тем, что после раскола в Союзе коммунистов (сентябрь 1850 г.) и выхода Маркса, Энгельса и их сторонников из Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне представители левоавантюристической сектантской фракции Виллиха— Шаппера пытались обвинить их в растрате денежных средств Социал-демократического комитета помощи немецким эмигрантам (см. об этом настоящее издание, т. 27, стр. 566—567. — Текст заявления К. Пфендера от 21 января 1852 г.). Возможно, однако, что этот набросок был
600
ПРИМЕЧАНИЯ
сделан Марксом и Энгельсом годом позднее, во время пребывания Энгельса в Лондоне с 20 декабря 1851 по 3 января 1852 г., и послужил основой для второго заявления Пфендера (см. настоящее издание, т. 28, стр. 430). Текст последнего заявления не разыскан, однако в ЦПА ИМЛ хранится переписанный в январе 1852 г. рукой В. Пипера документ, составленный от имени Пфендера и Бауэра и во многом повторяющий публикуемый в данном томе набросок.
Просветительное общество немецких рабочих было основано в Лон доне в феврале 1840 г. К. Шаппером, И. Моллем и другими деятелями Союза справедливых. После организации Союза коммунистов руководящая роль в Обществе перешла к местным общинам Союза. В 1847 и 1849—1850 гг. активное участие в деятельности Общества принимали Маркс и Энгельс.
Социал-демократический комитет помощи немецким эмигрантам был создан 18 сентября 1849 г. для помощи нуждающимся демократам; в состав Комитета вошли Карл Маркс, Генрих Бауэр, Карл Пфендер, Карл Блинд, Антон Фюстер (см. настоящее издание, т. 7, стр. 542). 3 декабря в него был включен Фридрих Энгельс. При выходе Маркса, Бауэра, Пфендера и Энгельса из состава Комитета специаль ная комиссия Просветительного общества проверила все бухгалтер ские книги и расписки и нашла все в полном порядке. Последний отчет Социал-демократического эмигрантского комитета, подписанный Марк сом и Энгельсом 18 сентября 1850 г., был опубликован в « Deutsche Londoner Zeitung» № 287, 27 сентября 1850 г. (см. настоящее издание, т. 7, стр. 562-563).
Набросок сделан рукой Энгельса в Записной книжке Маркса и отредактирован последним. — 65.
85 Публикуемые в настоящем томе четыре рукописи Маркса, посвященные главному труду классика английской буржуазной политической экономии Д. Рикардо «О началах политической экономии и налогового обложения», относятся к декабрю 1850 и марту — апрелю 1851 г. В этот период Маркс, эмигрировавший в Лондон после поражения буржуазно-демократических революций на европейском континенте, приступил к новому циклу экономических исследований, в частности, к углубленному критическому изучению буржуазных экономистов-классиков. В письме к Энгельсу от 2 апреля 1851 г. Маркс заметил: «В сущности эта наука со времени А. Смита и Д. Рикардо не продви нулась вперед, хотя в области отдельных исследований, часто чрезвычайно тонких, сделано немало» (настоящее издание, т. 27, стр. 207). В 1844—1845 гг. в Париже и Брюсселе Марксом уже был составлен конспект французского перевода книги Рикардо, изданного Ж.-Б. Сэем в 1835 году. В начале 50-х годов Маркс проштудировал третье английское (последнее прижизненное) издание, опубликованное в 1821 г., sa два года до смерти автора.
Публикуемые рукописи содержатся в Марксовых тетрадях с выписками из работ различных авторов, из официальных документов, периодической печати, преимущественно по экономическим вопросам. Сохранилось множество таких тетрадей и среди них 24 тетради, пронумерованные Марксом римскими цифрами. В тетради IV находятся выписки из книги Рикардо, посвященные рикардовской теории денег. В тетради VIII дан подробный конспект всей работы Рикардо. Наконец, в отдельной тетради с выписками содержатся Марксовы заметки о взглядах Рикардо на земельные налоги и набросок предметного указателя к его книге.
ПРИМЕЧАНИЯ
601
Извлечения из книги Рикардо приведены Марксом либо в форме прямых цитат (часто в собственном переводе на немецкий язык с добавлением английских слов и целых фраз), либо в форме изложения мыслей Рикардо. Все эти извлечения даются в заново проверенном и уточненном переводе, при этом в квадратных скобках указываются страницы русского издания труда Рикардо, опубликованного в I томе его Сочинений (М., 1955). В ряде случаев печатаемый в настоящем издании перевод цитируемых Марксом мест расходится с переводом, даваемым в указанном русском издании книги Рикардо. Если Маркс ту или иную цитату приводит в сокращенном виде или в виде пересказа своими словами, то в настоящем издании перевод этой цитаты дается в соответствии с формулировкой ее у Маркса. Все цитаты заключены в кавычки, даже если последние отсутствовали в рукописи.
Заголовки, даваемые редакцией, отмечены звездочкой, а необходимые дополнения в тексте заключены в квадратные скобки. Номера тетрадей рукописи Маркса указапы в квадратных скобках римскими цифрами, номера страниц рукописи — арабскими цифрами.
При переводе текста на русский язык были исправлены явные описки в рукописи, при этом все сколько-нибудь существенные исправления оговорены в примечаниях. Там же отмечены существенные отклонения текста рукописи от текста книги Рикардо.
Собственные комментарии Маркса к составленным им выпискам и конспекту, а также введенные им заголовки и подзаголовки, как правило, печатаются корпусом, весь остальной текст—петитом.—67.
08 Приводимые ниже выписки Маркса относятся к рикардовской теории денег. Они содержатся на последних страницах тетради с выписками, на обложке которой рукой Маркса написано: «Тетрадь IV . Лондон. Ноябрь 1850. Декабрь 1850.». — 69.
7 В рукописи сказано: «в цене», однако ниже в тексте всюду говорится о стоимости золота и серебра. — 69.
8 Этот заголовок воспроизводит начало заголовка отдела VII первой главы книги Рикардо. — 69.
во В рукописи вместо «стоимость» сказано: «продукт», однако речь здесь у Рикардо идет о стоимости авансированного капитала: норма прибыли не изменится только в том случае, если изменения в стоимости денег окажут одинаковое влияние как на стоимость авансированного капитала, так и на стоимость произведенного им продукта. — 70.
100 у Маркса здесь вместо рикардовского термина «меновая торговля» ( trade of barter ) употреблен термин «уровень обмена» ( rate of barter ). — 71.
101 В рукописи вместо «премии» сказано: «пошлины». — 72.
102 В рукописи описка: 125 ф. ст. — 74.
юз Имеются в виду бумажные деньги. — 74.
104 у Рикардо сказано: «рыночная стоимость», — 76.
105 у Рикардо сказано: «для поддержания его существования». — 76.
106 у Рикардо говорится о соответствии между рыночной и естественной ценой товаров. — 76,
602
ПРИМЕЧАНИЯ
107 у Рикардо сказано: «даже во много раз большее количество банкнот, чем находящееся в данный момент в обращении». — 78.
108 реЧь идет о сбережении волота от изнашивания в обращении путем вамены его бумажными деньгами. — 78.
109
Настоящие заметки, так же как и публикуемый
вслед за ними набросок
предметного указателя, находятся в тетради небольшого формата,
которую Энгельс пометил 1851 годом. Можно предполагать, что они
составлены приблизительно в конце марта — начале апреля 1851 г.
Заметки Маркса представляют собой резюме некоторых выводов Ри
кардо, сформулированных в главах
IX—
XII
его
труда. — 81.
11° (Мнимой рентой» Маркс называет здесь то, что фигурирует у Рикардо (см. главу X его книги) как «вознаграждение, получаемое земельным собственником за пользование его капиталом, затраченным на ферму». Это вознаграждение Рикардо отличал от собственно ренты, которая определялась им как «сумма, уплачиваемая земельному собственнику за пользование землей, и только землей». — 81,
m Маркс называет этот вид налога «своеобразным» (originelle), потому что оп отличается как от налога на ренту, так и от десятины. — 81.
112 Все строки публикуемого ниже наброска указателя последовательно зачеркнуты, что свидетельствует об использовании его Марксом в дальнейшей работе над книгой Рикардо. — 82.
118 Часть наброска указателя содержится на обложке, помеченной здесь цифрой [1а]. — 82,
il4 Здесь и далее (в публикуемом ниже конспекте книги Рикардо) Маркс, вслед за Рикардо, иногда вместо термина «естественная цена» ( natural price) применяет как равнозначный термин «реальная цена» ( real price). С другой стороны, Рикардо последовательно различает понятия «первичная и естественная цена» (primary and natural price) и «действительная или рыночная цена» ( actual or market price ). — 83,
il.5 Содержащий обширные комментарии Маркса конспект работы Рикардо был составлен Марксом в апреле 1851 г. в процессе заполнения тетради VIII с выписками. Он охватывает все основные разделы книги Рикардо, за исключением тех из них, которые были использованы Марксом при составлении выписок, относящихся к рикардовской теории денег. — 84.
не Эта фраза является заголовком отдела IV первой главы книги Рикардо. — 85.
117 В рикардовском примере, который здесь воспроизводит Маркс, молчаливо предполагается, что уже в конце первого года фабрикант, применяющий машины, получает прибыль в 1 000 ф. ст. на 10 000 ф. ст. авансированного капитала. Следовательно, товарная стоимость в конце первого года составляет не 5 500, а 6 000 ф. ст. (изнашивание машин в расчет не принимается). Из прибыли в 1 000 ф. ст. 500 ф. ст. расходуются на личные нужды, а 500 ф. ст. присоединяются к авансированному капиталу, который теперь составляет 10 500 ф. ст, Из этой суммы
ПРИМЕЧАНИЯ
603
5 000 ф. ст., как в прежде, расходуются на труд, а 5 500 ф. съ — на машины. — 86.
118 До повышения заработной платы первый капиталист продавал свой товар за 5 000 -f- 500, т. е. за 5 500 ф. ст. После повышения заработной платы на 10% — с 2 000 до 2 200 ф. ст. — он продает его за 5 200 + + 520, т. е. за 5 720 ф. ст. — 86.
но У Рикардо сказано: «меновая стоимость». — 87.
120 У Рикардо сказано: «цена». — 87.
121 Имеется в виду тот случай, когда преобладает оборотный капитал. — 87.
122 в рукописи 1 500 ф. ст., однако выше и ниже Маркс исходит из того, что цепа произведенного фабрикантом товара равна 2 000 ф. ст. — 88.
123 в рукописи вместо 1 333 и 1 300 ошибочно приведены цифры 1 033 и 1 030. — вв.
12« У Рикардо вместо «машин» сказано: «произведенных товаров», но сразу же вслед за этим говорится, что реальная стоимость машин не повысится в результате роста заработной платы. — 89.
125 у Рикардо сказано: «стоимости». — 89.
12в В конце 21-й страницы рукой Маркса написано: «(Продолжение смотри на стр. 29.)». На страницах 22—28 содержится продолжение выписок из книги Джемса Стюарта « An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy». In three volumes . Dublin, 1770. В начале 29-й страницы рукой Маркса написано: «Рикардо, Давид. Продолжение со стр. 21». — 89.
127 В рукописи сказано: «не пропорционально». — 89.
128 у Рикардо сказано: «стоимость». — 91.
129 у Рикардо говорится: «Богатство часто возрастает всего быстрое, в то время как...». — 91.
130 Слова «и труда» добавлены Марксом. — 91.
131 Слова «или над ним» добавлены Марксом. — 92.
132 Слова «тот же самый» добавлены Марксом. — 92.
133 у Рикардо сказано: «с меньшим трудом». — 92.
134 у Рикардо сказано: «относительную». — 92.
135 у Рикардо в этой фразе говорится не о налоге, а о затратах на здания и т. д. — 93.
604
ПРИМЕЧАНИЯ
136 Речь идет о таких усовершенствованиях в земледелии, результатом которых является возрастание количества производимого в земледелии продукта. — 96.
137 Эта цитата отчеркнута Марксом на полях. — 97.
Ш у Рикардо сказано: «в таком же количестве, как и прежде». — 98.
139 Имеется в виду окончившаяся в 1815 г. война коалиции европейских держав против наполеоновской Франции. — 100.
но в рукописи ошибочно сказано: «столь сильно нарушившей». — 100.
141 У Рикардо сказано: «рыночной стоимостью». — 104.
142 у Рикардо говорится: «рыночную стоимость». — 105.
143 Речь здесь идет о «естественной цене» в рикардовском понимании, т. о. по существу о стоимости товаров. — 106.
144 В рукописи ошибочно сказано: «денег». — 106.
145 у Рикардо сказапо: «необходимо утверждать». — 106.
14« у Рикардо здесь сказано: «посредством купли», что, однако, не меняет смысла фразы. Рикардо сначала говорит о купле товара купцом у фабриканта, тогда как Маркс сразу же говорит о продаже этого товара за границу. — 107.
147 Место из книги Рикардо, которое здесь имеется в виду, процитировано Марксом выше (см. настоящий том, стр. 106). — 109.
148 На страницах 41 — 42 содержится продолжение упоминавшихся выше (см. примечание 126)выписок из работы Джемса Стюарта « An Inquiry ...». В конце 40-й страницы рукой Маркса написано: «Продолжение на стр. 43». В начале 43-й страницы находится пометка: «Рикардо Д. Начала политической экономии. Продолжение со стр. 40». — 110.
149 В рукописи вместо «в Португалии» сказано: «в Шотландии». — 111.
150 Рикардо цитирует здесь начало главы VI книги IV «Богатства народов» А. Смита (см. А. Смит. «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, стр. 397). — 112.
151 У Рикардо сказано: «на наименее производительном рынке». — 112.
152 Последняя фраза из этой цитаты дважды отчеркнута Марксом на полях. — 114.
153 Эта фраза дважды отчеркнута Марксом на полях. — 114.
154 у Рикардо сказано: «их реальную стоимость». — 115,
155 у Рикардо: «иногда», — 115.
ПРИМЕЧАНИЯ
605
15в у Рикардо: «фактическом». — 116.
157 У Рикардо: «стоимость». — 117.
158 дВе последние фразы отчеркнуты Марксом на полях. — 118.
159 у Рикардо сказано: «как говорится». — 119.
160 в рукописи сказано: «хлебных законов». — 119.
161 У Рикардо сказано: «реальное вознаграждение рабочего». — 120. 152 у Рикардо: «рабочий класс». — 120.
юз у Рикардо сказано: «иногда». — 121.
164 у Рикардо: «усовершенствованию». — 122.
165 В конце 49-й страницы рукой Маркса помочено: «(Продолжение на стр. 53)». Соответственно 53-я страница открывается пометкой: «Рикардо (Д.) (Продолжение со стр. 49)». На страницах 50—52 содержатся выписки из относящегося к началу XVII в. трактата Антонио Серра о деньгах и продолжение выписок из работы Джемса Стюарта. — 122.
166 Две последние фразы дважды отчеркнуты Марксом на полях. —123.
167 Излагаемое здесь Марксом положение Рикардо гласит: «Г-н Сэй приводит в виде примера налог на соль в дореволюционной Франции, который, по его словам, уменьшил добычу соли наполовину. Однако если потреблялось меньше соли, то и меньше капитала затрачивалось на ее производство. Следовательно, хотя производитель и получал меньше прибыли при производстве соли, зато он получал больше прибыли при производстве других товаров» (стр. 273) [стр. 197]. — 124.
168 В конце 53-й страницы помечено: «(Продолжение на стр. 56)». На страницах 54—55 содержатся дальнейшие выписки из указанной работы Джемса Стюарта. В начале 56-й страницы имеется пометка: «Д. Рикардо (продолжение со стр. 53)». — 124.
169 в рукописи сказано: «сырого продукта». — 125.
170 Рикардо исходит из того, что совокупная стоимость продукта, получаемого с участка земли, не платящего ренту, составляет 720 ф. ст. и определяет совокупную стоимость (за вычетом ренты) продукта всех остальных участков. — 125.
171 У Рикардо сказано: «обеспечения рабочих». — 127.
172 у Рикардо добавлено: «или с тем капиталом». — 127.
173 Имеются в виду комментарии Уэйкфилда к вышедшему в 1835—1839 гг. английскому изданию «Богатства народов» А. Смита (см. настоящее издание, т. 26, ч. III , стр. 191—192). — 128.
174 Весь этот принадлежащий Марксу комментарий отчеркнут им на полях. — 130.
606
ПРИМЕЧАНИЯ
175 у Рикардо сказано: «дешевых иностранных товаров». — 130. •7* В рукописи описка: «заработной платы». — 132.
177 См. настоящий том, стр. 109—110. — 132.
1*8 у Рикардо сказано: «особой категории лиц». — 133.
178 У Рикардо: «иногда». — 133.
180 Рикардо цитирует соответствующее положение А. Смита в самом начале главы XXVI как доказательство того, что Смит преувеличивает роль валового дохода по сравнению с чистым доходом. — 134.
181 У Рикардо: «государственному кредитору». — 136.
182 у Рикардо сказано: «теми, кто воспроизводит, или же теми, кто не воспроизводит новую стоимость». — 139.
183 у Рикардо: «за последние 20 лет». — 139.
18* «Односторонним» Рикардо называет налог, затрагивающий прибыль в одних отраслях и но затрагивающий ое в других. — 140.
185 Следующая, 66-я страница рукописи открывается пометкой «Май 1851», после чего идут выписки из журнала « Economist ». — 140.
186 Марксовы «Размышления» содержатся на страницах 48—52 тетради VII с выписками из работ различных авторов преимущественно по вопросам теории денег и денежного обращения. Эта тетрадь была заполнена Марксом приблизительно в марте 1851 г., поэтому теоретический уровень «Размышлений» отражает соответствующий период в разработке марксистской политической экономии. Это был период дальнейшего накопления огромного фактического материала — конкретного, исторического и теоретического — и вместе с тем перехода от конкретного изучения буржуазной экономики к дальнейшим обобщениям, выражающим глубинный механизм функционирования капиталистического способа производства. «Размышления» продолжают на более высоком уровне начатую в 40-е годы критику мелкобуржуазных — в особенности прудонистских — концепций, объяснявших экономические кризисы недостатками капиталистической денежной системы, пытавшихся искусственно сконструировать деньги таким образом, чтобы, как отмечает Маркс, «они не обладали свойствами денег». Критика прудонизма по этому вопросу была завершена Марксом в рукописи 1857—1858 гг. и в первом выпуске «К критике политической экономии» (1859) на основе разработанной им в тот период теории стоимости и теории денег. — 141.
187
См
.
Smith, A.
Recherches sur la nature
et les causes de la richesse des
nations. Tome
II.
Paris,
1802,
p. 292—293 (Смит,
А. Исследование
о природе и причинах богатства народов. Том
II.
Париж
, 1802,
стр
. 292—293);
Tooke, Th.
An
Inquiry into the
currency principle.
Second
edition
.
London, 1844,
p
. 36 (Тук, Т. Исследование законов
денежного обращения. Издание
второе
.
Лондон
, 1844, стр
. 36);
«Re
port... from
the select committee appointed to inquire into the cause
of the high price of gold bullion. Ordered, by the House of Commons,
to be printed, 8 June 1810». London, 1810
(«Отчет... особого комитета
по расследованию причин высокой цены золотых слитков. Опубли
ковано по распоряжению палаты общин от 8 июня 1810 г.». Лондон,
ПРИМЕЧАНИЯ
607
1810). Выписки из этого отчета содержатся на страницах 29—31 тетради VII .
Характеристику взглядов Смита и Тука по данному вопросу Маркс впоследствии дал в «Теориях прибавочной стоимости» и в III томе «Капитала» (см. настоящее издание, т. 26, ч. I , стр. 104, 241—243; т. 25, ч. I, стр. 486—489). Цитируя Смита, Маркс воспроизвел пояснение переводчика Смита на французский язык Ж. Гарнье о том, что под « dealers » понимаются «все купцы, мануфактуристы, ремесленники и т. д. — одним словом, все агенты торговли и промышленности страны» (настоящее издание, т. 26, ч. I, стр. 104). — 141.
188 Подробную характеристику полемики буржуазных экономистов по вопросу о перепроизводстве в условиях капиталистической экономики и, в частности, позиций Рикардо и Сисмонди в этом споре Маркс дал впоследствии в рукописях 1857—1858 и 1861—1863 гг. (см. настоящее издание, т. 46, ч. I , стр. 388—391; т. 26, ч. II , стр. 586—594). — 141.
183 Критика упрощенческих взглядов Прудона, объяснявшего перепроизводство тем, что рабочий в буржуазном обществе не может выкупить свой собственный продукт, была впоследствии дана Марксом в рукописи 1857—1858 гг. (см. настоящее издание, т. 46, ч. I, стр. 405— 417). — 142.
190 в рукописи описка: «наибольшим». — 144.
191 Имеются в виду кризисы перепроизводства. — 144.
192 Марксову характеристику представителей бирмингемской школы «сторонников малого шиллинга», основанную бирмингемским банкиром Томасом Атвудом, см. в настоящем издании, т. 46, ч. I , стр. 389— 390; т. 13, стр. 66—67; т. 23, стр. 244; т. 25, ч. II , стр. 85, 107. —146.
193 Последние две фразы отчеркнуты Марксом на полях. — 146.
194 См . М . Stirner. «Der Einzige und sein Eigenthum». Leipzig, 1845, S. 353 (M. Штирнер. «Единственный и его собственность». Лейпциг, 1845, стр. 353). Критику мелкобуржуазных взглядов Штирнера на природу денег Маркс и Энгельс дали в «Немецкой идеологии» (см. настоящее издание, т. 3, стр. 394—398). — 146.
195 Если приводимый Марксом факт верен, то император Адриан повторил реплику императора Веспасиана по поводу введенного им налога на общественные уборные. — 148.
196 Работа Ф. Энгельса «Критический разбор книги Прудона «Общая идея революции в XIX векем представляет собой реферат книги «Idée géné rale de la Révolution au XIX"* siècle (Choix d'études sur la pratique révolutionnaire et industrielle)», выпущенной в свет Прудоном в 1851 г. Реферат был составлен Энгельсом по просьбе Маркса для задуманной им работы «Новейшие откровения социализма или «Общая идея революции в XIX веке» П.-Ж. Прудона. Критика Карла Маркса». Маркс намеревался опубликовать ее в журнале И. Вейдемейера «Die Revolution». Обсуждение книги Прудона занимает большое место в переписке Маркса и Энгельса в августе 1851 г. 8 августа Маркс подробно излагает в письме к Энгельсу ее содержание, делая при этом большие выписки
608
ПРИМЕЧАНИЯ
(см. настоящее издание, т. 27, стр. 267—273), а в середине августа пересылает книгу Энгельсу в Манчестер и просит высказать о ней подробное суждение. Энгельс работал над рефератом в два приема, в августе (примерно с 16 по 21) и с середины октября. В конце октября весь материал уже был отослан Марксу, который 24 ноября 1851 г. написал Энгельсу: «Я прочел здесь еще раз твою критику. Жаль, что нет возможности ее напечатать. Если бы я еще добавил туда свою горчицу, она могла бы появиться под нашим общим именем, при том условии, что это не причинило бы никаких неприятностей твоей торговой фирме» (настоящее издание, т. 27, стр. 333).
Рукопись Энгельса состоит из шести листов большого формата, на каждой странице текст написан в две колонки, в левом или правом верхнем углу — пометки: «Общая идея революции в XIX веке»; эти пометки в настоящей публикации опускаются. Рукопись двуязычна. Петитом набран текст Прудона, причем буквальные выписки на французском языке взяты в кавычки, переложение Энгельсом текста Прудона на немецкий язык дано без кавычек. Собственный текст Энгельса печатается корпусом, а подчеркивания в нем — курсивом. В тексте, набранном петитом, обычный курсив — это курсив Прудона, полужирный курсив — слова, выделенные Энгельсом. — 150.
197 Речь идет о французской буржуазной революции конца XVIII века. — 150.
1№ 21 января 1793 г. по приговору Конвента был казнен Людовик XVI. — 151.
189 Прудон имеет в виду серию судебных процессов 1822 г. над членами республиканских обществ (в том числе — карбонариями), пытавшимися поднять антимонархические восстания в Анже, Ла-Рошели, Сомюре.
О восстании 1839 г. см. примечание 76. — 151.
200 Новый избирательный закон, фактически отменявший всеобщее избирательное право во Франции, был принят Законодательным собранием 31 мая 1850 г. (см. настоящий том, стр. 17—18). — 151.
201 В мае 1852 г. истекал срок президентских полномочий Луи Бонапарта. Согласно французской конституции 1848 г. выборы нового президента должны были проводиться каждые четыре года во второе воскресенье мая. — 151.
202 Здесь и ниже Прудон употребляет термины: «le préjugé gouvernemental», «l'idée gouvernementale», «le système gouvernemental», «l'évolution gouvernementale» для обозначения различных аспектов политической правительственной системы, которую он противопоставляет конструируемой им экономической системе, «организации экономических сил». — 152.
203 По традиции, которую не смогла уничтожить даже французская революция конца XVIII века, торговля мясом в Париже находилась в руках корпорации мясников, которые поддерживали низкие цены на живой скот и высокие цены на мясо. Прудон, говоря о «вольной продаже мяса», имеет в виду мероприятия, проводимые правительством с 1848 г. с целью ликвидации монополии корпорации мясников (разрешение ежедневной продажи мяса на рынках лицам, не принадлежащим к этой корпорации, и т. д.). -=■ 154,
ПРИМЕЧАНИЯ
609
204 у Прудона далее раскрывается содержание этого понятия: «паразитическое потребление [le parasitisme] — это финансовый мир, противозаконная собственность, бюджет и все, что ему сопутствует» (Proudhon, p. 52). — 154.
205 Имеются в виду принятые 4—11 августа 1789 г. Учредительным собранием решения, которыми французская буржуазная революция провозгласила отмену сословных привилегий и всех форм личной зависимости крестьянства. — 156.
206 Имеется в виду речь Руайе-Коллара, которую он произнес в палате депутатов 22 января 1822 г. в прениях по проекту закона о печати. _ 157.
207 Независимые магистратуры — имеются в виду высшие судебно-адми-нистративные органы дореволюционной Франции. — 157.
208 Речь идет о конституции, «дарованпой» 4 июля 1814 г. французскому народу от имени Людовика XVIII во время первой реставрации Бурбонов. — 157, 307.
209 Разъясняя свою мысль, Прудон продолжает: «Этот принцип, который и составляет самую суть так называемых ассоциаций по убою скота, этот принцип имеет так мало общего с ассоциацией, что во многих этих [объединениях] по убою скота работа выполняется наемными рабочими под управлением директора, который представляет вкладчиков» (Proudhon, р. 98). — 161.
210 Энгельс иронизирует над следующим примечанием Прудона: «Взаимность не является вещью идентичной с обменом; однако она все более и более стремится стать законом обмена и совместиться с ним. Научный анализ этого закона был дан впервые в брошюре «Organisation du Crédit et de la Circulation» (Paris, 1848, Garnier Frères), a первая попытка его применения была предпринята «Народным банком»»
(Proudhon, p. 97—98). — 161.
211
Речь идет о
словах Луи Блана из статьи
«Un homme et une doc
trine» в его журнале
«Le Nouveau Monde»
№ 6, 15 декабря 1849 г. —
212 Компаньонажи (compagnies ouvrières, compagnonnages) — тайные союзы ремесленных подмастерьев, существовавшие во Франции с XII до середины XIX века. Первоначально ставили своей задачей взаимопомощь подмастерьев одной профессии, с XVI в. они превращаются в организации борьбы подмастерьев против эксплуатации со стороны мастеров. Далее в тексте «compagnies ouvrières» всюду переводятся как «рабочие товарищества». — 162.
813 Речь идет об исторической школе права — реакционном направлении в правовой и исторической науке (Гуго, Савиньи, Эйхгорн), возникшем в Германии как реакция на идеи Просвещения и французской буржуазной революции конца XVIII века. Характеристику этой школы см. в статьях К. Маркса «Философский манифест исторической школы права» и «К критике гегелевской философии права. Введение» (настоящее издание, т. 1, стр. 85—92 и 416). — 163.
610
ПРИМЕЧАНИЯ
214 Речь идет об Учредительном национальном собрании, заседавшем с 4 мая 1848 г., и сменившем его 28 мая 1849 г. Законодательном национальном собрании. Луи Бонапарт был избран всеобщим голосованием президентом Французской республики 10 декабря 1848 г. — 164.
-*5 Имеется в виду якобинская конституция, принятая Конвентом 24 июня 1793 г. Конституция провозглашала свободу личности, вероисповедания, законодательной инициативы, печати, подачи петиций, право на труд, на образование, на сопротивление угнетению. Конституция при плебисците была одобрена большинством французского народа, однако в действие введена не была. —164.
21в В понятие «прежняя революция» («l'ancienne révolution») Прудон вкладывает представление о чисто политической революции. Он противопоставляет ее своей схеме социальной революции (Proudhon, р. 196). — 165.
217 Речь идет о Французском банке, основанном в 1800 г. компаниой акционеров под покровительством Бонапарта с капиталом в 30 миллионов франков (у Прудона ошибочно — 90 млн. франков). Банк получил от государства ряд привилегий, но продолжал считаться собственностью компании. Главным директором банка с 1834 по 1857 г. был граф д'Аргу, при котором банк получил ряд новых привилегий и среди них — монопольное право выпускать банкноты более мелкого достоинства. Новые привилегии, по словам Маркса, превратили банк «в частное предприятие государственного масштаба» (настоящее издание, т. 12, стр. 232). — 165.
218 Маркс в письме к Энгельсу от 8 августа 1851 г., делая обзор книги Прудона, пишет: «Вместо процентов государство платит аннуитеты, то есть выплачивает годичными долями данный ему взаймы капитал» (настоящее издание, т. 27, стр. 269). — 166.
219 По закону 15 января 1790 г., принятому Учредительным собранием, во Франции вводилось новое административное устройство. Страна делилась на 83 департамента, которые, в свою очередь, подразделялись на кантоны и коммуны. — 167.
220 Здесь термин «plus-value» употреблен Прудоном в ином значении, чем это было принято тогда во Франции; сравни Энгельса («Юридический социализм»): «...рядом с употребляемым Сисмонди mieux-value [прибавочная стоимость] в повседневной деловой жизни Франции с незапамятных времен общепринято выражение plus-value для обозначения всякого увеличения стоимости, которое ничего не стоит владельцу товаров» (настоящее издание, т. 21, етр. 512). — 169.
221 Среди них Прудон называет Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Кабе, Луи Блана, чартистов (Proudhon, p. 238). — 170.
222 Далее на той же странице Энгельсом по-русски, но латинским алфавитом записаны три строфы из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. — 177.
223 Данная рукопись представляет собой вводные и заключительные замечания К. Маркса к «Политической программе» участника революции 1848—1849 гг. венгерского генерала Дьёрдя (Георга) Клапки.
ПРИМЕЧАНИЯ
611
Этот документ интересовал Маркса потому, что он свидетельствовал о внутренних разногласиях в венгерской эмиграции и недовольстве определенных ее кругов диктаторскими замашками Кошута. Кроме того, Маркса насторожили пробонапартистские тенденции, под влиянием которых в 50-х годах XIX в. оказалась значительная часть буржуазной и мелкобуржуазной демократической эмиграции. Как видно из письма Маркса Клуссу от 10 мая 1852 г., он собирался опубликовать свои замечания в « New- York Daily Tribune » (см. настоящее издание, т. 28, стр. 439), обеспокоенный тем обстоятельством, что Клапка намеревался принять участие в вооруженных выступлениях против австрийского господства, которые готовились в Венгрии и Италии сторонниками Кошута и Мадзини. Маркс считал, что попытка организации революционных выступлений на континенте после поражения революции 1848—1849 гг. может пойти только на пользу победившей реакции и особенно режиму Второй империи. Замысел Маркса в этой форме остался неосуществленным, однако через несколько месяцев, в сентябре 1852 г., Маркс выступил на страницах « New - York Daily Tribune» против этих опасных тенденций в статьях «Действия Мадзини и Кошута. — Союз с Луи-Наполеоном. — Пальмерстон», «Кошут, Мадзини и Луи-Наполеон» (см. настоящее издание, т. 8, стр. 382—384, 410-411). — 178.
224 Заметки К. Маркса по поводу взглядов американского вульгарного буржуазного экономиста Генри Чарлза Кэри извлечены из статьи члена Союза коммунистов Адольфа Клусса ««Лучшая газета Штатов» и ее «лучшие люди» и политэкономы», которая была опубликована в нью-йоркской рабочей газете « Die Reform» в сентябре 1853 г. Статья Клусса содержала критику идейного разброда в немецкой мелкобуржуазной эмиграции в Старом и Новом Свете, взглядов американских экономистов и разъясняла позицию пролетарских революционеров, возглавляемых Марксом. При работе над статьей Клусс широко использовал письма Маркса и Энгельса за 1852—1853 гг. в его собственный адрес и в адрес Вейдемейера. Он писал Марксу 11 сентября 1853 г., что хотя он публикует статью от своего имени, но она представляет собой плагиат из Маркса («Sie bloß von Euch zusammengestohlener Zeug ist»).
Текст Маркса отличается от текста самого Клусса прежде всего тем, что в противоположность последнему он останавливается на кардинальных теоретических вопросах развития капитализма в США, его месте в общей системе капиталистических отношений и связанных с этим специфических чертах экономической мысли в этой стране в лице наиболее крупного ее экономиста Г. Ч. Кэри. Клусс включил фрагменты из писем Маркса в текст своей статьи целиком, внося минимальные стилистические изменения и дополнения (они оговариваются в примечаниях) с целью связного изложения всего текста. Об этом говорит близость, а иногда и прямая идентичность содержания указанных фрагментов с тем, что было сказано о взглядах Кэри в письмах Маркса Энгельсу 14 июня 1853 г. и Вейдемейеру 5 марта 1852 г. В письме Энгельсу 8 октября 1853 г. Маркс, положительно оценив данную работу Клусса, прямо указывал: «В своей статье против «Neu-England-Zeitung» он, как мне кажется, довольно удачно собрал соответствующие места из моих писем о Кэри и т. д.» (настоящее издание, т. 28, стр. 227-228, 254, 424).
Переписка по этим проблемам между Марксом и Клуссом продолжалась и после публикации данной статьи,
612
ПРИМЕЧАНИЯ
На русском языке текст Маркса впервые опубликован в журнале «США. Экономика, политика, идеология» № 5, 1977 г. — 180.
225 Данной фразе Клусс предпослал следующий текст: «Консервативно-буржуазная экономическая теория, против которой прямо борются социалисты [Sozialen! всех фракций, теория американца Кэри и француза Бастиа, преподносится легковерной публике (впрочем, судя по длительным крикам о помощи «Neu-England-Zeitung» и по распространяющимся слухам, выдвигать гипотезу о публике преждевременно) в качестве новейшего немецко-американского открытия, в качестве ^высшего синтеза» политической экономии. Мы увидим, что повсюду, где высокопарный высший синтез отваживается вторгнуться в действительную жизнь, он играет на руку властям предержащим как готовое к услугам орудие. Редакция «Neu-England-Zeitung», кажется, еще но запятнала свой непорочный образ мыслей изучением трактатов столь хлопотливо-материального свойства, как трактаты по политической экономии. Мы видим каждый день, что ее дискуссии по социальным вопросам годятся лишь на свалку. Упомянутая выше доктрина вместе с самим г-ном Бастиа была окончательно осуждена социалистическими трибуналами Европы в 1849 г. во время полемики в прудо-новской «Voix du peuple»; дальнейший ход истории давно лишил эту теорию, отражавшую строго определенный исторический период, всякого основания в европейском обществе».
Принадлежность этого отрывка Клуссу подтверждается также его письмом Марксу от 4 сентября 1853 года. Суждения Клусса о полемике Бастиа с мелкобуржуазными социалистами (здесь имеется в виду прежде всего полемика Бастиа с Прудоном в 1850 г.) расходятся с оценкой Маркса (см. настоящее издание, т. 16, стр. 30; т. 26, ч. III , стр. 550; т. 27, стр. 333).
«Neu-England-Zeitung» («Газета Новой Англии») — демократическая газета, издававшаяся на немецком языке в Бостоне мелкобуржуазным демократом Эдуардом Шлегером; была основана в 1852 году. В газете сотрудничали А. Руге, А. Гёгг, К. Гейнцен и другие немецкие буржуазные радикалы и мелкобуржуазные демократы. Некоторое время газета печатала статьи И. Вейдемейера. — 180.
228 Впоследствии при работе над «Капиталом» Маркс сделал довольно подробные выписки из »той книги Уэйленда, которые содержатся в его эксцерптной тетради за 1859—1862 гг. — 180.
227
Далее следует
фраза, вставленная в текст Маркса Клуссом: «Резю
мируем же кратко основные принципы доктрины, которые изложены
Бастиа в его «Социальных
гармониях» с грацией и в удобопонятной
|
{ |
орме, но пропагандируются Кэри без всякого таланта к изложению, ез дара обобщения и точности. Г. Ч. Кэри нельзя отказать в некоторых положительных знаниях и даже оригинальных изящных идеях». Сравнительную оценку Кэри и Бастиа у Маркса см. настоящее издание, т. 46, ч. I, стр. 4, 5, 9, 196. — 180.
228 Здесь обыгрывается название книги немецких мелкобуржуазных демократов Т. Пёше и К. Гёппа: « The New Rome . The United States of the World», вышедшей в свет в Филадельфии в 1853 г . — 180.
229 В этой фразе заметно вмешательство Клусса, о чем свидетельствует его письмо Марксу от И сентября 1853 г. В письме Маркса Вейдемей-еру от 5 марта 1852 г,, откуда Клусс заимствует эти мысли, сказано:
ПРИМЕЧАНИЯ
613
Кэри «старается их [экономистов Европы — Рикардо, Мальтуса, Милля, Сэя и др. — Ред.] опровергнуть, но не так, как это делает глупый Гейнцен, который существование классов связывает с наличием политических привилегий и монополий. Кэри хочет показать, что экономические условия — рента (земельная собственность), прибыль (капитал) и заработная плата (наемный труд) — представляют собой условия ассоциации и гармонии, а отнюдь не борьбы и антагонизма» (настоящее издание, т. 28, стр. 424). — 181.
230 речь идет о книге Кэри «Essay on the Rate of Wages: with an Examination of the Causes of the Differences in the Condition of the Labouring Population throughout the World». New-York, [1835], p. 194—210, 213—220, 228, 230 etc. — 181.
231 Маркс имеет здесь в виду книгу Кэри «The Slave Trade, Domestic and Foreign: why it exists, and how it may be extinguished». Philadel phia , 1853. В том жо году стереотипное издание этой книги вышло в Лондоне. В этой книге Кэри (стр. 203—204) цитировал статью Маркса «Выборы. — Финансовые осложнения. — Герцогиня Сатерленд и рабство», опубликованную в « New- York Daily Tribune » 9 февраля 1853 г. (см. настоящее издание, т. 8, стр. 525—526). Маркс познакомился с книгой Кэри по экземпляру, присланному ему автором, и 14 июня 1853 г. в письме к Энгельсу сделал ее краткий критический обзор, основные моменты которого воспроизведены в данном наброске (см. настоящее издание, т. 28, стр. 227—228).
Далее следует фраза, вписанная в текст Маркса Клуссом: «Как сильно бы он удивился, если бы узнал, что немецкие молокососы в лавинообразном усилении могущества крупного капитала видят образование снежного кома «англо-саксонского» духа децентрализации и индивидуальности». — 181.
232
Далее следует
фраза, принадлежащая Клуссу: «Так как этого совер
шенно не замечает даже школа Кэри, то было бы, конечно, с нашей
стороны совершенно несправедливым требовать, чтобы впавшие в ма
разм государственные деятели и новоиспеченные государственные
экономисты из
«Neu-England-Zeitung» составили себе
хотя бы общее
понятие об этом, так как они по уши сидят в буржуазном навозе и еще
очень далеки от понимания исторического значения того направления,
которое они сами выучили наизусть». — 182.
283 Далее следует текст, который принадлежит Клуссу и которым он завершает критику Кэри и его последователей: «Все эти факты, разумеется, непостижимы, для «трезвого страха перед палкой и доморощенного разума» римских юнцов из Филадельфии, которые почерпнули из какого-то консервативного журнала мудрость, будто бы сегодня работницы из Ловелла зарабатывают в три раза больше, чем 30 лет назад. Судя по этому мудрому заключению, работницы тех времен должны были есть только 41/2 дня в неделю, а свою наготу прикрывать в лучшем случае фиговым листком. Что город вообще возник лишь за последние 30 лет и с двухсот душ, влачивших растительное, безмятежное существование, вырос в фабричный город с тридцатью шестью тысячами жителей; что сегодня примерно третья часть этого населения состоит из работниц (население Ловелла состоит на пять восьмых из женщин и лишь на три восьмых из мужчин, однако мы полагаем, что фактически это несоответствие намного резче), которые при среднем веаелЬном заработке в три доллара еще сводят концы с концами,
614
ПРИМЕЧАНИЯ
то есть их заработная плата колеблется около этой средней цены таким образом, что они в благоприятные времена могут положить в сберегательную кассу один пфенниг, который снова проживают, когда деловая жизнь либо вовсе замирает, либо рабочий день сокращается наполовину; что большая часть этих работниц обречена на безбрачие силой обстоятельств, а не демократическими узаконениями, — все это вещи, которые не позволено видеть «демократическому» кан дидату в охотники за должностями, даже если допустить, что он мог бы это видеть.
Конечно, здесь, в Америке, мы не можем отрицать «равенства возможностей для индивидуумов, сверх которого кое-кто (то есть филадельфийские римляне) не в состоянии ничего увидеть»; золотая лихорадка достаточно долго действовала в качестве римско-демокра-тического комиссара, а равенство возможностей было продемонстрировано в Новом Орлеане. Но возможность равенства, г-н юнец, лежит по ту сторону буржуазного горизонта, ее охватывает только не скованный никакими предрассудками более широкий кругозор того преобразователя [К. Маркса. — Ред.], который знает современный рабочий вопрос во всем его объеме*. — 183.
ш Статья К. Маркса «Давид Уркарт» для публикации в газете « Die Reform» была оформлена в данном виде Клуссом, как это следует из его письма Вейдемейеру от 7 декабря 1853 г., из присланных ему заметок Маркса об Уркарте. Основным объектом критики взглядов Уркарта Марксу послужила книга: D . Urquhart. Progress of Russia in the West, North, and South. Ld., 1853. Первый абзац статьи «Давид Уркарт» принадлежит, по-видимому, Клуссу, либо же он был им отредактирован. Впервые на русском языке статья «Давид Уркарт» опубликована в примечании 761 к 28 тому Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. — 184.
235 Как явствует из письма Клусса Вейдемейеру от 7 декабря 1853 г., речь идет о статье Джонса. — 184.
28в В Записной книжке Маркса за 1850—1854 гг. содержится следующая запись об отправке данной статьи в Нью-Йорк: «Пятница, 31 марта. Разное: подоходный налог, г-н Бейнс, Ваш. Уилкс, Престон». При публикации статьи редакция опустила ту часть статьи Маркса, в которой давался критический разбор книги английского радикального публициста Вашингтона Уилкса «Пальмерстон в трех эпохах» ( W . Wilks . Palmerston in three Epochs : a Comparision of Facts with Opinions ». London, 1854). Представление о критических замечаниях Маркса на эту книгу дает его письмо Энгельсу от 4 апреля 1854 г. (см. настоящее издание, т. 28, стр. 286).
Статья печатается по фотокопии газеты очень плохого качества. Слова, заключенные в квадратные скобки, не поддаются однозначной расшифровке. — 186.
237 Билль о подоходном налоге — речь идет о предложении Гладстона удвоить на шесть месяцев ставки подоходного налога в связи с предстоящим вступлением Англии в Крымскую войну. 27 марта 1854 г. Англия объявила России войну, а 30-го, после третьего чтения, билль о подоходном налоге был принят. — 186.
238 Речь идет об осуществленной английским правительством публикации Синей книги: « Correspondence respecting tue Rights and Privileges
ПРИМЕЧАНИЯ
615
of the Latin and Greek Churches in Turkey». London, 1854. Материалы этого издания проанализированы в статьях Маркса «Документы о разделе Турции» и «Секретная дипломатическая переписка» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 137—148, 149—164). — 186.
239 Подробную характеристику внесенного Гладстоном 18 апреля 1853 г. бюджета см. в статьях Маркса «Фергюс О'Коннор. — Поражение министерства. — Бюджет», «Фунты, шиллинги, пенсы, или классовый бюджет и кому он идет на пользу», «Беспорядки в Константинополе. — Столоверчение в Германии. — Бюджет», «Мыло для парода, лакомый кусок для « Times ». — Бюджет коалиционного министерства» (настоящее издание, т. 9, стр. 60—63, 64^-68, 70—76, 78—85). —186.
240 Отрывок из речи Пакингтона Маркс приводит по публикации в « Times » № 21703, 31 марта 1854 г. — 186.
241 Речь идет о коалиционном министерстве 1852—1855 гг. Джорджа Абердина. В министерство Абердина («кабинет всех талантов») входили представители вигов, пилитов и фракции ирландских депутатов в английском парламенте. — 186.
242 «Вольной человек» — выражение, которое употребил применительно к Турции Николай I в беседе 9 января 1853 г. и в последующих беседах с английским посланником Дж. Г. Сеймуром (« Correspondence...», Part V, p . 877). — 186.
243 «Елейный пъюзиит» — так Маркс называет Гладстона. Пьюзиизм — течение в англиканской церкви, к которому принадлежал Гладстон; подчеркивая ханжество и лицемерие Гладстона, Маркс часто называет его «елейным» (см., например, настоящее издание, т. 9, стр. 74). Ниже Маркс приводит отрывок из выступления Гладстона по речи Пакингтона (« Times», 31. Ill 1854). — 186.
244 Здесь Маркс имеет в виду свою статью «Фергюс О'Коннор. — Поражение министерства. — Бюджет», опубликованную в « New- York Daily Tribune » 3 мая 1853 г. (см. настоящее издание, т. 9, стр. 58—63). — 186.
245 Называя так Гладстона, Маркс обыгрывает прозвище средневекового философа-схоласта Дунса Скота — «Доктор Субтилис» (« Doctor Subti - lis» — «Тонкий доктор»). — 187.
246 Компания Южных морей обанкротилась в 1720 г., ее банкротство способствовало увеличению английского государственного долга. По проекту финансовой реформы 1853 г. Гладстон предполагал снизить процент по акциям этой компании с 3 до 23/4%. Оценку его предложения см. настоящее издание, т. 9, стр. 46 и 53. — 187.
247 в связи с подъемом массового забастовочного движения английского пролетариата в 1853 г. группа чартистов во главе с Джонсом выдвинула идею создания широкой рабочей организации «Массовое движение», которая должна была объединить и тред-юнионы и неорганизованных рабочих, в первую очередь с целью координации забастовок в различных районах страны. Организацию должен был возглавлять периодически созываемый Рабочий парламент из делегатов,
616
ПРИМЕЧАНИЯ
избранных на митингах неорганизованных рабочих и на собраниях тред-юнионов, примкнувших к «Массовому движению». Рабочий парламент был созван в Манчестере 6 марта 1854 г. и заседал до 18 марта 1854 года. Он обсудил и принял программу «Массового движения» и создал Исполнительный комитет из 5 человек.
Попытка организовать «Массовое движение», однако, не удалась, так как большинство лидеров тред-юнионов, отрицательно относившихся к политической борьбе, не поддержало идею создания единой массовой рабочей организации. Спад забастовочного движения к лету 1854 г. также отрицательно сказался на участии в движении широких рабочих масс. После марта 1854 г. Рабочий парламент больше не собирался. — 188.
248 Маркс имеет в виду передовую статью газеты « The Morning Post», № 25033, 27 марта 1854 года. — 189.
24» Речь идет об одном из эпизодов крупнейшей в то время стачки английских рабочих, начавшейся в августе 1853 г. в городе Престоне. О ходе стачки и ее значении см. настоящее издание, т. 9, стр. 345, 431 — 433, 456—457, 481—482; т. 10, стр. 235, 649. — 189.
250 фармерс-армс ( Farmer' s Arms) — помещение, в котором находился Рабочий комитет во время стачки престонских ткачей. — 189.
251 Далее Маркс использует фактические данные из статьи Э. Джонса « The Cottonlaw of Preston. — Who are the real Conspirators ?», опубликованной в « The People' s Paper» 25 марта 1854 г. — 189.
252 Акт о мятеже ( Riot act ) — уполномочивал местные власти силой разгонять собрания «нарушителей порядка», привлекая их участников к уголовной ответственности. Перед толпой зачитывался приказ разойтись и по прошествии одного часа в случае неповиновения открывался огонь. — 190.
253 Речь идет о завербованных рабочих, привезенных предпринимателями в Престон с целью сорвать забастовку (« Times » № 21694, 21. Ill 1854). - 190.
254 Текст резолюций приводится Марксом по статье « Prosecution of the Lancashire Leaders», опубликованной в «The People' s Paper» 1 апреля 1854 г. В соответствии с принятой тогда практикой « People ' s Paper » за 1 апреля вышла в свет вечером 31 марта и была использована Марксом в данной статье, написанной в тот же вечер. — 191.
255 В связи с началом Крымской войны Энгельс предложил свое сотрудничество в качестве военного обозревателя лондонской либеральной газете « Daily Nows», послав редакции 30 марта статью «Кронштадтская крепость» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 635—641), а после 3 апреля 1854 г. по просьбе самой редакции — статью «Русская армия», которая должна была открыть серию статей о сухопутных и морских силах России. Эта статья была набрана и оттиск ее получен Энгельсом, вероятно, 12 апреля 1854 г. вместе с письмом редактора газеты Г. Дж. Линкольна, который запрашивал Энгельса о том, на каких условиях он согласен писать для этой газеты. С сотрудничеством в « Daily News » Энгельс связывал большие надежды; он рассчитывал, что постоянная работа в газете позволит ему отказаться от коммерческой деятельности и переехать в Лондон. Однако, как это явствует из письма Энгельса Марксу от 20 апреля 1854 г., узнав о политических взглядах Энгельса, Линкольн аннулировал прежнюю договоренность,
ПРИМЕЧАНИЯ
617
Отдельные положения статьи «Русская армия» Энгельс развил в опубликованных им в «New - York Daily Tribune» и « Putnam ' s Monthly » работах «Военные силы России» и «Армии Европы» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 532—536; т. 11, стр. 471—483). — 192.
256 Энгельс имеет в виду книгу английского автора Ч. Ф. Хеннигсена, участника движения горцев Дагестана и Чечни под руководством Шамиля, « Revelations of Russia », вышедшую в свет в Лондоне в 1844 г. Эта книга получила в Европе довольно широкую известность. Ее автор впоследствии стал участником революции 1848—1849 гг. в Венгрии и Гражданской войны в США. — 192.
257 Речь идет о русско-турецкой войне 1828—1829 гг. — 196.
258 Статья К. Маркса и Ф. Энгельса «Европейская война», о котороп нет специальной пометки в Записной книжке Маркса, первоначально являлась частью его статьи «Парламентские дебаты о войне» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 174—184), отправленной Марксом в Нью-Йорк 4 апреля 1854 г. Редакция « Tribune», вычленив три абзаца из этой статьи, опубликовала их отдельно, придав им вид передовой, написанной самой редакцией газеты. Это вмешательство редакции в первоначальный текст Маркса и Энгельса отчетливо прослеживается.
В первом абзаце — первые две строчки и фраза: «Однако наш хорошо осведомленный лондонский корреспондент считает это выдумкой биржевиков» принадлежат редакции. Большая часть этого абзаца со слов: «В самом деле, кажется совершенно очевидным...» и до конца написана Энгельсом; она почти текстуально совпадает с письмом Энгельса Марксу от 3 апреля 1854 г. (см. настоящее издание, т. 28, стр. 282—283). Остальная часть абзаца принадлежит Марксу.
Во втором абзаце, как показывает его сравнение с четвертым и пятым абзацем статьи «Парламентские дебаты о войне», редакция также произвольно обошлась с материалом Маркса, хотя установить степень ее вмешательства здесь труднее; однако оно почти несомненно во фразе: «Если бы эти условия были открыто выдвинуты раньше, они существенно уменьшили бы опасность войны, поскольку нет никакого сомнения в том, что такого рода эмансипации как раз и желают союзники». Редакции принадлежит и последняя фраза в данном абзаце: «Вне всякого сомнения, это станет ясно, когда со следующим пароходом мы получим полную информацию».
Третий абзац по своему содержанию во многом перекликается со статьями Маркса «Греческое восстание», «Объявление войны. — К истории возникновения восточного вопроса», а также со статьей «Греция и Турция. — Турция и западные державы. — Сокращение хлебной торговли в Англии», написанной позднее (см. настоящее издание, т. 10, стр. 129-131, 167-173, 201-203). - 198.
259 в марте 1854 г. прусский король Фридрих-Вильгельм IV обратился к Николаю I с просьбой во избежание конфликта вывести войска из Дунайских княжеств. В ответном письме Николай I выразил согласие при условии, что западные державы гарантируют эмансипацию христиан в Турции и выведут свои флоты из Черного моря. Сведения об этих переговорах Маркс почерпнул из материалов, опубликованных в « Times » 4 апреля 1854 г. — 199.
260 Речь идет о разногласиях, возникших в правительственных кругах Турции в связи с подписанием 12 марта 1854 г. договора о военном союзе Франции, Англии и Турции. Шейх-уль-ислам Ариф Хикмет-бей
618
ПРИМЕЧАНИЯ
и председатель Высшего совета юридических установлений Рифаат-паша выступили против каких-либо компромиссов в вопросе о положении христиан в Турции и были смещены со своих постов. — 200.
261 Статья Ф. Энгельса «Турецкая война» написана им 24 аиреля 1854 г., об этом свидетельствует письмо Энгельса Марксу от 21 апреля 1854 г. (см. настоящее издание, т. 28, стр. 290) и пометка в Записной книжке Маркса об отправке ее в Нью-Йорк: «Вторник, 25 апреля. Военная статья». «Турецкая война» была получена в Нью-Йорке со значительным опозданием, 14 мая. Тем не менее редакция газеты, заинтересованная в военных статьях Энгельса, использовала присланный материал и опубликовала его в качестве передовой. При этом она придала ему вид статьи, написанной на основании более поздних известий, полученных с пароходом «Атлантика», который покинул Европу на неделю позже, 3 мая 1854 г. С этой целью к статье Энгельса был добавлен первый абзац с обзором известий о бомбардировке союзным флотом Одессы, которые были опубликованы в том же номеро « New- York Daily Tri bune» в рубрике «Война». Возможно, что содержащаяся в конце абзаца ироническая оценка храбрости адмирала Дандаса взята редакцией « Tribune» из статьи Маркса «Бомбардировка Одессы. — Греция. — Воззвание черногорского князя Данилы. — Речь Мантёйфсля», опубликованной в том же номере газеты (см. настоящее издание, т. 10, стр. 212—218). Текст первого абзаца статьи «Турецкая война» целиком воспроизводится ниже:
«Вчера пароход «Атлантика» доставил сообщение о первом настоящем нападении британского и французского флотов на русских в Черном море. По-видимому, британский паровой фрегат «Фуриос» подошел к Одессе под парламентерским флагом, чтобы забрать оттуда британского и французского консулов, и, после того как они были взяты на борт, подвергся обстрелу с берега. Англичане представляют этот акт как безответственное нарушение прав парламентерского флага, которое требует немедленного отмщения. Со своей стороны, русские утверждают, что, после того как консулы поднялись на борт, корабль остался в гавани, чтобы дать офицерам возможность зарисовать укрепления, и был обстрелян с единственной целью прекратить эти незаконные действия. Как бы там ни было, британский и французский адмиралы решили, что надо действовать, и в соответствии с этим послали крупные силы для бомбардировки города. Очевидно, эта операция была проведена не самым блестящим образом, так как, по имеющимся сведениям, хотя мы еще не располагаем официальными донесениями, во время подавления огня береговых батарей, поджога торговых судов, небольшое количество которых было в порту, и разрушения дворца князя Воронцова, находящегося неподалеку от берега, отдельные британские корабли получили весьма серьезные повреждения. Сам город, расположенный на вершине холма, сравнительно далеко от берега, не пострадал. Отомстив таким образом, корабли вновь отошли. По-видимому, адмирал Дандас принял как руководство к действию данный ему одним из его офицеров совет в письме, опубликованном в Лондоне, не слишком усердствовать и не ввязываться в трудные и опасные предприятия». — 201.
»2 Речь идет о русско-турецкой войне 1828—1829 гг. — 201.
MS Позднее история крепости Силистрия несколько более подробно была изложена Энгельсом в статье «Осада Силистрия» (см. настоящее издание, т, 10, стр. 275), — 201.
ПРИМЕЧАНИЯ
619
284 Авторство данной статьи устанавливается на основании писем Энгельса Марксу от 1, 6 и 9 мая 1854 г., пометки в Записной книжке Маркса об отправке 5 мая в Нью-Йорк военной статьи («5 мая, пятница. Военная статья») и сравнении текста этой статьи с публикациями газеты «Times», послужившими для Энгельса источником для описания военных действий на дунайском фронте. В статье (первая фраза первого абзаца, последняя фраза второго и в некоторых других случаях) заметно вмешательство в текст Энгельса редакцпп « Tribune». — 204.
205 Речь идет о телеграфном сообщении из Вепы, опубликованном в газете « Times» № 21732,4 мая 1854 г. под заголовком « Defeat of the Russians ». — 204.
2« e Сомнения Энгельса в полной достоверности данных о «решающей победе» Омер-паши под Чернавода полностью подтвердились. 9 мая 1854 г. «Times» опубликовала статью своего собственного корреспондента из Вены, в которой он рассматривал это событие как обычную стычку неприятельских войск и данные о потерях русских считал преувеличенными. — 205.
267 Эти слова вставлены в текст статьи Энгельса редакцией «New-York Daily Tribune»; речь идет о статье « The Greek Insurrection», помещенной в том же помере « Tribune». — 205.
208 в январе 1854 г. в Стамбуле было объявлено о том, что полиции удалось раскрыть заговор греков. По утверждению западной печати, во главе заговора, целью которого было поднять восстание живущих в Турции греков и славян, стоял барон Эльсиер. См. об этом статьи К. Маркса «Военные планы Франции и Англии. — Греческое восстание. — Испания. — Китай»; «Бомбардировка Одессы. — Греция. — Воззвание черногорского князя Данилы. — Речь Маптёйфеля» (настоящее издание, т. 10, стр. 108, 214). — 205.
269 Речь идет о заметке, опубликованной в «National-Zeitung» и перепечатанной в «Times » № 21732, 4 мая 1854 г. — 205.
270 о восстании в Черногории см. статью К. Маркса «Бомбардировка Одессы. — Греция. — Воззвание черногорского князя Данилы. — Речь Мантёйфеля» (настоящее издание, т. 10, стр. 216—217). — 206.
271 Энгельс имеет в виду статьи К. Маркса «Парламентские дебаты 22 февраля. — Депеша Поццо-ди-Борго. — Политика западпых держав», «Военные планы Франции и Англии. — Греческое восстание. — Испания. — Китай», «Секретная дипломатическая переписка» и отчасти свою статью «Турецкий вопрос» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 98, 110, 155—156; т. 9, стр. 23). Эта отсылка соответствует намерению Энгельса, о котором оп писал Марксу 1 мая 1854 г.: «Настало время вернуться к нашим первым статьям по этому вопросу и в политическом отношении: события и здесь блестяще подтвердили нашу точку зрения» (настоящее издание, т. 28, стр. 297). — 206.
272 В связи с начавшейся в 1854 г. буржуазной революцией в Испании Маркс тщательно изучал историю испанских революций XIX в., результатом его занятий были 5 тетрадей выписок и серия статей «Революционная Испания», опубликованная в « New - York Daily Tri bune » в сентябре — декабре 1854 г. (см. настоящее издание, т. 10, стр. 423—480 и 631 — 634). Набросок «Центральная хунта», вероятно,
21 М. и 9., т. 44
620
ПРИМЕЧАНИЯ
является первоначальным вариантом третьей статьи этой серии. Рукопись представляет собой черновой вариант с большим количеством зачеркиваний, которые в данной публикации не воспроизводятся. — 207.
273 в сражении при Байлене 20 июля 1808 г. 14 тысяч французов под командованием генералов Дюпона и Веделя сдались испанскому генералу Кастаньос-и-Арагони. Оценку роли сражения при Байлене в ходе революции 1808 — 1814 гг. см. настоящее издание, т. 10, стр. 439-440. — 207.
274 До создания Центральной хунты севильская хунта номинально считалась верховной. — 207.
275 См. об этом: К. Маркс «Революционная Испания» (настоящее издание, т. 10, стр. 445). — 208.
276 Капитан-генерал — высшее воинское звание в Испании, учрежденное в XVI в. Капитан-генералу принадлежала верховная военная и административная власть в округе, районе пли стране. — 209.
277 Письмо Веллингтона Маркс цитирует по книге: W. Napier . History of the War in the Peninsula and in the South of France, from the year
1807 to the year 1814. London, 1838, v. 2, p. 473. — 209.
278 Набросок Энгельса о сражении 25 октября 1854 г. под Балаклавой отчасти использован им в статье «Сражение под Балаклавой», опубликованной в « New - York Daily Tribune» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 550—557). Данные английских и русских донесений для более наглядного сопоставления расположены Энгельсом в две колонки; на одной из страниц рукописи им сделан план расположения войск в этом сражении. Заголовок наброска дан Энгельсом. — 210.
279 Часть данных о численности и составе русских войск Энгельс заимствует из публикации «Русского инвалида» (22 октября 1854 г.) — «Донесение генерал-адъютанту князю Меншикову начальника 12 пехотной дивизии генерал-лейтенанта Липранди от 14. X », — вероятно, по перепечатке в « Times » 13 ноября 1854 г. — 210.
280 Данные о числе и составе войск, участвовавших в сражении с обеих сторон под Балаклавой 25 октября 1854 г., уточнены Энгельсом в статье «Сражение под Балаклавой» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 556-557). - 216.
281 Набросок Ф. Энгельса «Крымская война» содержит хронологический обзор важнейших военных операций в Крыму, начиная с высадки союзных войск 14 сентября 1854 г. и кончая штурмом Севастополя в сентябре 1855 г. Набросок воспроизведен (факсимиле) в т. 11 настоящего издания, а русский перевод в примечании 289 того же тома (стр. 585, 714-716). - 217.
282 Об инкерманском сражении Энгельсом написана специальная статья (см. настоящее издание, т. 10, стр. 558—563). — 218.
288 О значении Селенгинского редута в обороне Севастополя см. в статьях Энгельса «Сражение под Севастополем», «Ход войны», «Вылазка 23 марта» и др. (настоящее издание, т, 11, стр. 158—159, 178— 179, 200-201), - 218,
ПРИМЕЧАНИЯ
621
s84 0 роли Камчатского люнета (Мамелон) в обороне Севастополя см. в статьях Энгельса «Вылазка 23 марта», «Севастополь» и др. (настоящее издание, т. И, стр. 201, 298—299, 302 и др.). — 218.
285 Речь идет о попытке союзных войск захватить бастионы Корабельной стороны в Севастополе, предпринятой 18 июня 1855 г.; штурм французов и англичан был отбит с большими потерями для союзников (см. настоящее издание, т. И, стр. 351—353, 367—370). — 219.
286 Об этой битве Энгельсом написана специальная статья «Сражение на Черной» (см. настоящее издание, т. 11, стр. 541—547). — 219.
287
Публикуемые ниже
три статьи К. Маркса «Дипломатическая неучти
вость», «Комитет в Ньюкасле-на-Тайне» и «Большой митинг в защиту
политических эмигрантов» помещены в немецкой демократической
газете «Neue
Oder-Zeitung», в которой Маркс сотрудничал
в 1855 г.
Это сотрудничество давало ему возможность выступать в печати в годы
реакции, когда рабочей прессы на континенте почти не существовало,
поддерживать связь с Германией, знакомить немецких читателей
с важпейшими вопросами международной политики, рабочего и демо
кратического движения, экономического развития капиталистических
стран. Статьи Маркса в
«Neue Oder-Zeitung», опубликованные в
т. 11
настоящего издания, помещались в газете без подписи, но помечались
специальным корреспондентским значком — «
X
». В октябре 1855 г.
в связи с финансовыми и цензурными трудностями издания редактор
газеты М. Эльснер попросил Маркса временно прекратить посылку
статей и корреспонденций. Сохранившиеся документы не позволяют
с полной уверенностью утверждать, что после перерыва Маркс возоб
новил сотрудничество в
«Neue Oder-Zeitung», хотя в. ноябре и
декабре
снова многие статьи и корреспонденции из Лондона помечены его
корреспондентским значком. Всего таких статей и корреспонденций
24. Две первые из указанных выше трех принадлежат, бесспорно,
Марксу, поскольку они отправлены из Англии 2 и 6 октября 1855 г.,
до получения письма Эльснера. Наиболее важные положения третьей
статьи «Большой митинг в защиту политических эмигрантов» почти
целиком совпадают с письмом Маркса Эльснеру от 8 ноября 1855 г.
(см. настоящее издание, т. 28, стр. 528), что также позволяет сделать
заключение о принадлежности этой статьи Марксу. Все 24 статьи
опубликованы на немецком языке в книге:
Stanislaw Schwann. «Ko-
respondencje
Karola Marksa do wrozlawskiej
«Neue Oder-Zeitung»».
Poznan, 1958.
— 220.
288 Комитет в Ньюкасле-на-Тайне был одним из организационных комитетов по иностранным делам (Foreign Affairs Committees ), которые создавались в английских городах Уркартом и его сторонниками в 40— 60-х годах XIX в. главным образом в целях борьбы с политикой Пальмерстона. Об Уркарте см. настоящий том, стр. 184—185. —221.
289 Продолжение корреспонденции в «Neue Oder-Zeitung» не появилось. По-видимому, после получения письма Эльснера от 7 октября 1855 г. (см. примечание 287) Маркс оставил ее незавершенной. — 223.
290 10 октября 1855 г. французский мелкобуржуазный демократ Феликс Пиа опубликовал в газете «L'Homme» открытое письмо королеве Виктории в связи с ее визитом во Францию в августе того же года. Анти&онапартистское но содержанию, это письмо носило свойствен-
21*
622
ПРИМЕЧАНИЯ
ный всем выступлениям Пиа провокационный и авантюристический характер. Оно вызвало большую полемику в английской, а также в эмигрантской прессе, серьезные опасения в возобновлении билля об иностранцах (см. примечание 201). Редактор «L'Homme» Свенто-славский и некоторые другие эмигранты получили приказ губернатора Джерси покинуть остров. Из числа статей и корреспонденций о конфликте па острове Джерси, опубликованных в «Neue Oder-Zeitung», помимо данной статьи корреспондентским значком « X » (см. примечание 287) подписано еще две статьи и две корреспонденции.
Отчет о митинге, которому посвящена данная статья Маркса, опубликован в «Times» 13 ноября 1855 г. — 224.
281 Билль об иностранцах время от времепи вводился английским парламентом в качестве закона под предлогом ограждения английских подданных от якобы враждебных действий со сторопы иностранцев, находившихся в Англии. Вопрос о возобновлении этого билля в связи с событиями па Джерси и высылке из Англии представителей революционной эмиграции был решен отрицательно только в начале 1856 г. Пальмерстон 1 февраля 1856 г. заявил в палате общин, что английское правительство но будет вносить в парламент новый билль об иностранцах. — 224.
282 фузионисты, фузиониам (Fusion — слияние) —сторонники слияния легитимистов, приверженцев старшей ветви французской династии Бурбонов, с приверженцами младшей ветви — орлеанистами. — 224, 307.
283 Английский реакционный государственный деятель виконт Сидмунт (Генри Аддингтон) был министром внутренних дел в торийском кабинете Ливерпуля с 1812 по 1821 г. С его именем связан ряд антинародных законов, проведенных в это время: в 1815 г. — введение хлебных законов в интересах лендлордов; в 1817 г. — «Акт о затыкании рта» (« Gagging Act »), который ограничивал право проведения общественных собраний, закрывал клубы радикалов и фактически вводил цензуру; а также законы, введенные после кровавой расправы с рабочими на митинге близ Манчестера (бойня при Питерлоо). — 225.
294 Данное сопроводительное письмо было направлено Марксом редактору уркартистской газеты « The Free Press » в связи с посылкой в нее для публикации в сокращенном виде серии статей «Падение Карса», которая целиком была помещена в чартистской газете « The People ' s Paper » в апреле 1856 г. (см. настоящее издание, т. 11, стр. 633—667). Вариант, помещенный во « Free Press » под заголовком «Любопытные места в карских документах» («Kars Papers Curiosities »), представлял собой в основном выдержки из второй и третьей статей в « People ' s Paper ». — 227.
295 Осенью 1856 г. между Пруссией и Швейцарией возник конфликт в связи с событиями в Невшателе. Княжество Невшатель и графство Валанжен (немецкие названия Нейенбург и Валендис), ранее принадлежавшие Бургундскому дому, в 1707 г. при прусском короле Фридрихе I перешли во владение Пруссии (см. настоящий том, стр. 239—240). В 1815 г. по решению Венского конгресса княжество было включено в состав Швейцарского союза в качестве 21-го кантона, при этом была сохранена его вассальная зависимость от Пруссии. В 1848 г. Невшатель стал республикой (см. примечание 64), а в сентябре 1856 г. здесь вспыхнуло монархическое восстание, участники которого были
ПРИМЕЧАНИЯ
623
арестованы швейцарским правительством. Прусский король потребовал освободить арестованных, в ответ на это швейцарское правительство потребовало отказа Пруссии от всяких прав на этот кантон. Конфликт вызвал большой резонанс в политической и общественной жизни Европы.
Маркс откликнулся на него остросаркастпческой статьей «Божественное право Гогенцоллернов», которая была опубликована в лондонской чартистской газете « The People ' s Paper » 13 декабря 1856 г. и американской прогрессивной газете «New - York Daily Tribune» 9 января 1857 г. Маркс рассматривал возникший конфликт как «вечный спор между революцией и божественным правом» (настоящее издание, т. 12, стр. 98).
Основой для статьи «Божественное право Гогенцоллернов» и послужила работа Маркса «Пруссия («Военное государство»)», которая представляет собой конспект книги: А. F. Stein. «Preußisch-Bran-donburgischo Geschichte. Ein Handbuch zur Erinnerung und Belehrung», первое издание которой вышло в 1811 г. Книга Штейна, являвшаяся открытой апологией прусского милитаризма, неоднократно переиздавалась впоследствии и использовалась государственным аппаратом в пропагандистских целях для возвеличивания «славы и доблестных традиций» прусской военщины. Помимо Штейна в своем конспекте Маркс использовал и некоторые другие источники.
Конспект, составленный Марксом в ноябре 1856 г., представляет собой рукопись в виде двух колонок: в левой содержится собственно конспект, а в правой замечания Маркса и его отчеркивания. Однако собственный текст Маркса не ограничивается замечаниями в правой колонке; в самом конспекте многие формулировки и оценки принадлежат Марксу. Кроме того, Маркс дает свою периодизацию истории Пруссии, отличающуюся от периодизации Штейна. В отличие от апологетического тона Штейна Маркс подчеркивает то обстоятельство, что сила бранденбургских курфюрстов, а затем прусских королей основывалась не на их доблести и военной силе, а на подкупах, покупках и махинациях с наследованием. Отсюда и ирония, содержащаяся в самом заглавии: слова «Военное государство» Маркс берет в кавычки.
Маркс по крайней мере дважды обращался к этой работе: при написании статьи «Божественное право Гогенцоллернов», о чем уже говорилось выше, и в 1863—1864 гг. при работе над историей Польши. Так, «Пруссия («Военное государство»)» широко использована им в польских рукописях 1863—1864 гг. .при составлении «Дат» (см. «Архив Маркса и Энгельса», т. XIV , М., 1973, стр. 690—699) и во многих других случаях. Возможно, что отчеркивания в рукописи «Пруссия («Военное государство»)», которые воспроизводятся в настоящей публикации, сделаны им также в эти годы.
Выписки набраны петитом, собственные замечания Маркса — корпусом. Курсив в тексте принадлежит Марксу. Книга Штейна изобилует опечатками и грубыми фактическими ошибками, особенно в датах. Многие из них исправлены Марксом, отдельные поправки, без оговорок, внесены при подготовке рукописи к печати. — 228.
296 Маркс вычисляет здесь продолжительность правления дома Балленш-тедтов и Люксембургского дома; цифры эти он использует ниже в своих замечаниях. Штейн исчисляет правление маркграфов из дома Балленш-тедтов не в 178, а в 163 года, так как ведет счет с 1157 г., когда Альбрехту Медведю удалось укрепиться в Бранденбурге. =■ 228,
624
ПРИМЕЧАНИЯ
т Граф Отто фон Балленштедт стал герцогом Саксонским в 1112 г., однако скоро утратил это звание; его жена была дочерью саксонского графа Магнуса; на этом основании их сын Альбрехт Медведь претендовал на Саксонию. — 228.
а» Речь идет о правлении в Бранденбурге маркграфов из Баварского (1320—1373) и Люксембургского (1373—1417) домов. — 225.
299 Констанцский собор (1414—1418) — вселенский собор католической церкви, созванный с целью укрепления позиций католической церкви в условиях начавшегося реформационного движения. На соборе были осуждены учения вождей Реформации Джона Уиклифа и Яна Гуса. Собор формально ликвидировал раскол католической церкви, избрав нового главу церкви, папу Мартина V . Решения собора вызвали новый подъем гуситского движения в Чехии. — 229.
®*> Базельский собор (1431—1449) —вселенский собор католической церкви, созванный в целях ее укрепления путем утверждения верховенства собора над папской властью. В тексте речь идет об одном иа эпизодов деятельности этого собора: в мае 1432 г. начались переговоры представителей собора с гуситами, которые завершились 30 ноября 1433 г. подписанием так называемых Пражских компактатов (признание в Чехии причащения «иод обоими видами» для мирян, свобода церковной проповеди в духе гусизма и т. д.). Пражские компа-ктаты явились компромиссным соглашением между умеренным крылом гуситского движения — чашниками и феодально-католической реакцией. Представители левого крыла — табориты отвергли Пражские компактаты, настаивая на принятии первоначальных требований гуситского движения. — 230.
301 Речь идет о торжественном утверждении Пражских компактатов (см. примечание 300) императором Сигизмундом на Базельском соборе в июле 1436 г. Именно после этого соглашение и получило название Пражских компактатов. — 230.
302 Ганга — торговый и политический союз северонемецких городов во главе с Любеком, существовавший в XIV — XVI вв. — 231.
308 Новая марка была куплена Тевтонским орденом в 1402 г. у императора Сигизмунда за 63 200 дукатов. — 231.
SO* Договор о превращении земель Тевтонского ордена в светское герцогство и признании ленной зависимости Пруссии от Польши был подписан в Кракове в 1525 г. польским королем Сигизмундом и бывшим великим магистром Тевтонского ордена Альбрехтом Брандев-бургским. — 232.
805 Шмалъкалъденский союз (свое название получил от города Шмалькаль-дена, где был заключен 27 февраля 1531 г.) — союз протестантских князей и ряда имперских городов для защиты дела Реформации против католических князей во главе с императором Карлом V. В 1546—1548 гг. между императором и Союзом велась война, которая закончилась победой Карла V и распадом Шмалькалвденского союза (см. примечание 307). — 232, 333.
806 Аугсбургский религиозный мир был заключен 25 сентября 1555 г. между протестантскими князьями Германии и императором Карлом V
ПРИМЕЧАНИЯ
625
на рейхстаге в Аугсбурге; завершил ряд войн между католиками и протестантами и установил независимость князей в религиозных вопросах; подтвердил завоевания протестантов в Германии, признал лютеранство (наряду с католицизмом) официальным вероисповеданием, санкционировал секуляризацию церковных земель, содействовал усилению княжеского абсолютизма. — 232.
307
Interim
(Аугсбургский интерим, Аугсбургский религиозный компро
мисс) — договор между католиками и протестантами в Германии,
принятый на рейхстаге в Аугсбурге после поражения протестантов
в Шмалькальденской войне (см. примечание 305). Договор, носивший
компромиссный характер, вызвал недовольство обеих сторон и был
окончательно отменен Аугсбургский религиозным миром 1555 г. (см.
примечание 306).
Тридентский собор — вселенский собор католической церкви, заседавший в городах Триденте (Триенто) и Болонье в 1545—1563 гг. Собор осудил протестантизм и принял ряд решений, касающихся католической церкви, в частности, провозгласил власть папы выше власти соборов и усилил власть епископов. Решения собора стали программой сторонников феодально-католической реакции, выступившей против реформаторского движения. — 233, 334.
308 в 1611 г. Польский сейм вопреки оппозиции группы депутатов, отстаивавших права Польши па Восточную Пруссию, принял решение об объединении Прусского герцогства с Бранденбургом под властью Гогенцоллернов. При этом должна была сохраниться ленная зависимость Пруссии от Польши, которой был положен конец в 1657 г. (см. примечание 313). — 235.
309 Протестантская уния, созданная в 1608 г. для борьбы с католическими князьями Германии и императором, была союзом германских протестантских князей и имперских городов, первоначально ее членом был и Пфальц-Нейбург. Просуществовала до 1621 г.
Католическая лига — объединение католических духовных и светских феодалов Германии, созданное для борьбы с Протестантской унией в 1609 г. Армия Лиги под командованием Тилли принимала активное участие в Тридцатилетней войне (см. примечание 310) на стороне императора Фердинанда II . Лига прекратила свое существование в 1635 г. — 235.
310 Вестфальский мир положил конец Тридцатилетней войне (1618— 1648), которая велась между протестантскими (Чехия (Богемия), Дания, Швеция, Нидерланды и ряд германских государств) и католическими (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии) государствами Европы. В последний период войны (1635— 1648) на стороне протестантов открыто выступила Франция. Вестфальский мир закрепил политическую раздробленность Германии (см. также примечание 384). — 236, 347.
311 По-видимому, речь идет о Северной войне 1655—1660 гг. (см. примечание 314). — 236.
312 Реституционный эдикт 1629 г. предусматривал возвращение католическим князьям Германии секуляризованных церковных земель, явился результатом успехов габсбургско-католического лагеря на
626
ПРИМЕЧАНИЯ
первом этапе Тридцатилетней войны. Официально был отменен по Вестфальскому миру (см. примечание 310). — 236, 336.
313
Это
право было получено Фридрихом-Вильгельмом Гогенцоллерном
по Белявскому договору, заключенному 19 сентября 1657 г.: Бранден-
бург отказывался от всех притязаний на Западную Пруссию и получал
от Польши независимый суверенитет над Восточной Пруссией. —
238.
314
Оливский мир, подписанный
3 мая 1660 г. между Швецией, с одной
стороны, Польшей, императором Леопольдом
I
и бранденбургским
курфюрстом Фридрихом-Вильгельмом — с другой, был одним из
договоров, завершавших Северную войну 1655—1660 гг. Среди его
условий был пункт, подтверждавший условия Белявского договора
(см. примечапио 313). — 238, 338, 348.
815 Нимвегенский мир — договор между Францией (а также Швецией) и императором Леопольдом I , заключенный 5 февраля 1679 г., подтверждал условия Вестфальского мира (см. примечапио 310). Этот договор являлся частью Ннмвегенских договоров (1678—1679), завершивших войну 1672—1678 гг. между коалицией государств во главе с Францией и антифранцузской коалицией во главе с Нидерландами. — 239.
зю С ен-Жер женский мир был подписан 29 июня 1679 г. между Францией и Швецией, с одной стороны, и Бранденбургом — с другой. Примыкал к Нимвегенским мирным договорам (см. примечание 315). — 239.
817 Война за Испанское наследство велась в 1701—1714 гг. между Францией и Испанией, с одной стороны, и Англией, Австрией, Голландией и некоторыми другими европейскими государствами — с другой, за раздел испанских владений в Европе и других частях света после смерти в 1700 г. бездетного испанского короля Карла II (см. примечания 390 и 479). Бранденбургский курфюрст Фридрих III, обеспечив себе поддержку польской аристократии подкупом, а императора Леопольда I посылкой ему бранденбургских войск для войны с Испанией, объявил 18 января 1701 г. о создании Прусского королевства, провозгласив себя его первым королем под именем Фридриха I . — 239.
8*8 Возможно, что эта помета Маркса (Мачеёвский — известный польский историк и правовед XIX в., автор многих работ о славянах) не имеет прямого отношения к данным выпискам. — 239.
819 Утрехтский мир (см. примечание 390). Пруссия присоединилась к Утрехтскому мирному договору И апреля 1713 г. и помимо прав на Невшатель и Валанжен добилась от Франции и Испании признания за бранденбургским курфюрстом королевского титула. — 240.
320 Ганноверский союз — политическое объединение, направленное против Испании и Австрии, создано 3 сентября 1725 г. Францией, Англией и Пруссией. К союзу впоследствии присоединились Голландия (1726), Дания и Швеция (1727). — 240.
321 Прагматическая санкция — закой о престолонаследии в государстве Габсбургов, была издана в 1713 г, Карлом VI . Предусматривала
ПРИМЕЧАНИЯ
627
нераздельность наследственных земель Габсбургов и возможность перехода короны Австрийской империи к дочери Карла VI Марии- Терезии. — 240, 278, 343.
322 Губертсбургский мир, подписанный 15 февраля 1763 г. Австрией и Саксонией, с одной стороны, и Пруссией — с другой, стал возможен благодаря Петру III , который не только прекратил военные действия против Пруссии, но и обязался перед Фридрихом II использовать все влияние России на Австрию для окончания Семилетней войны (1756—1763). По условиям Губертсбургского мира Пруссия получила вновь все территории, потерянные в ходе войны. — 240, 347.
323 По Торунъскому миру 1466 г. Тевтонский орден вынужден был уступить Западную Пруссию Польше, а Восточную Пруссию признать польским леном. В 1568 г. бранденбургский курфюрст Иоахим II Гектор, принеся присягу Польской республике, вступил совместно с ней в ленное владение герцогством Пруссией (см. примечания 304, 308, 313). — 241.
324
Еампоформийский
мирный договор 17 октября 1797 г. завершил войну
Франции против Австрии, входившей в первую антифранцузскую коа
лицию европейских государств. По договору Франция получила Бель
гию, Ионические острова и часть Албании. Австрия обязалась содей
ствовать передаче Франции левого берега Рейна и отказывалась от своих
владений в Северной Италии, территория которых вошла в образо
ванную под французским протекторатом Цизальпинскую республику.
В то же время большая часть территории упраздненной Венецианской
республики, а также часть принадлежавших ей Истрии и Далмации
передавались Австрии. — 241, 244, 350.
325 реЧь идет о договоре, заключенном в Шёнбрунне 15 декабря 1805 г. Пруссия отказалась в пользу Франции от Ансбаха, Клеве и Невша-теля; Франция согласилась с аннексией Пруссией Ганновера, собственности английских королей. — 242.
326 По-видимому, в тексте описка: правильно не «Швеция», а «Дания». По Кильскому мирному договору, заключенному 14 января 1814 г. между Данией и Швецией (один из двух договоров, завершавших англо-датскую войну 1807—1814 гг.), Дания уступила Швеции Норвегию, а взамен получала Шведскую Померанию и остров Рюген. По договору 27 июля 1816 г. между Данией и Пруссией, о котором и идет речь в тексте, Шведская Померания и остров Рюген отходили Пруссии в обмен на Лауэнбург. — 242.
827 Данные заметки сделаны Марксом в эксцерптной тетради, датированной ноябрем 1854 — началом 1857 г., они составлены им в связи с работой над статьями «Морская торговля Австрии» (см. настоящее издание, т. 12, стр. 86—97). — 243.
328 Речь идет о привилегиях генуэзцев, полученных ими по Нимфейскому договору 1261 г. с византийским императором Михаилом VIII Палео-логом. — 243.
82Э Имеется в виду подписанный в Фонтенбло 10 октября 1807 г. договор -между Французской империей и Австрией об уточнении границ
628
ПРИМЕЧАНИЯ
между Австрийской империей и Итальянским королевством, королем которого был Наполеон I. — 244.
330 Конвенционные деньги, конвенционная монета — введенная в Австрии в 1753 г. 20-гульденовая, или конвенционная, система, которая устанавливала серебряную основу денежного обращения в стране. В соответствии с ней из одной кёльнской марки чистого серебра (примерно 234 грамма) чеканилось 20 гульденов. С этого момента серебряные или золотые деньги получили название конвенционной монеты. Несмотря па то что к началу XIX в. звонкая монета была практически вытеснена из обращения бумажными ассигнациями, которые объединялись под названием «Венская валюта», и чеканка металлических денег почти прекратилась, счет велся и по конвенционной системе. По мере увеличения количества бумажных денег, особенно в период революции 1848—1849 гг., курс конвенционной монеты по отношению к ним непрерывно возрастал. — 244.
331 Статья Ф. Энгельса «Горная война прежде и теперь» была написана им по просьбе Маркса для « New - York Daily Tribune» в начало января 1857 г. Маркс 10 января уведомил Энгельса о ос получении (см. настоящее издание, т. 29, стр. 70, 71). Поводом для статьи послужил Невша-тельский конфликт (см. примечание 295) и обсуждавшиеся в тогдашней печати планы вторжения прусских войск в Швейцарию. Статья состояла из двух частей; ее первая половина, в которой Энгельс рассматривал общие проблемы стратегии и тактики горной войны, в частности и на примере наполеоновских войн в Швейцарии, была опубликована газетой 27 января 1857 г. (см. настоящее издание, т. 12, стр. 111—119). Вторая, рассматривающая возможные варианты вторжения прусских войск в страну через Рейн и организации обороны со стороны Швейцарского союза, по решению редакции « Tribune» (как это видно из письма Ч. Дана Марксу от 5 марта 1857 г.) не была опубликована. Решение газеты было вызвано тем, что 16 января 1857 г. швейцарское правительство пошло на уступки Пруссии, выпустив арестованных монархистов. Конфликт тем самым был исчерпан. «Жалкий крах швейцарского хвастовства» — так оценил Маркс заключительный акт Невшательского конфликта (см. настоящее издание, т. 29, стр. 76). - 247.
332 По-видимому, при переписке Марксом была допущена ошибка. Указанные озера расположены на правом (восточном) фланге рассматриваемой Энгельсом позиции. — 248.
333 Под общим заголовком «Война против Персии» Марксом сразу после наброска статьи «Венеция» (см. примечание 327) сделано четыре записи: первые две — это черновой вариант статей об англо-иранской войне, третья и четвертая, озаглавленные Марксом «Фактические данные» и «Заявление Пальмерстона в парламенте», посвящены тому же вопросу. Упоминание в рукописи статьи в « Times », посвященной Китаю и опубликованной 2 января 1857 г., позволяет датировать данные наброски январем этого года (между 2 и 27 января). На основании всех этих материалов Марксом были написаны для « New - York Daily Tribune» две статьи об англо-иранском конфликте, из которых редакция газеты скомпоновала одну (см. настоящее издание, т. 12, стр. 120— 125). Публикуемые наброски, таким образом, позволяют составить более полное представление о первоначальном замысле Маркса.
ПРИМЕЧАНИЯ
629
Рукопись «Война против Персии» носит сугубо черновой характер, в ней много зачеркиваний и вставок, которые в данной публикации, . за исключением одного случая, не оговариваются. — 2.12.
334 Маркс говорит об англо-иранском конфликте 1837—1842 гг. Он также имеет в виду и события первой англо-афганской войны (1838—1842), в ходе которой английская армия потерпела сокрушительное поражение. — 252.
835 Речь идет о Пепджабе, бывшем при правлении Ранджит Сиигха сильным централизованным государством; аннексирован Англией в 1849 г. — 252.
ззс Столица Великих Моголов Дели была захвачена Надир-шахом в 1739 г. —252.
337 Гюлистанский мирный договор, завершивший русско-ирапскую войну 1804—1813 гг., был подписан 24 (12) октября 1813 г. — 253.
338 Туркманчайский договор, подписанный 22 (10) февраля 1828 г., завершил русско-иранскую войну 1826—1828 гг.; договор предоставлял России исключительное право иметь военный флот на Каспийском море. — 253.
339 Имеется в виду организованная в 1839 г. с целью утверждения русского влияния в низовьях Аму-Дарьи и обеспечения безопасности караванных путей к Бухаре и Коканду военная экспедиция из Оренбурга в Хиву под командоиаиием оренбургского военного губернатора генерала В. А. Перовского. Эта экспедиция, вследствие плохой подготовки окончившаяся неудачей, была предпринята в ответ на развязанную Англией в 1838 г. войну против Афганистана. — 253.
3W 17 июня 1809 г. — договор о союзе против наполеоновской Франции, подписанный афганским шахом Шуджей. а со стороны Англии — Эль-финстоном.
4 января 1801 г. — заключение англо-иранского договора, направленного против Франции.
25 ноября 1814 г. подписан договор между Ашлией и Ираном; он обязывал Иран расторгнуть союзы со всеми враждебными Англии государствами. — 254.
841 Маркс говорит о начале англо-франко-китайской войны 1856—1860 гр. (так называемая вторая «опиумная» война). Подробно о событиях, послуживших предлогом для войны, Маркс писал в это время в статье «Англо-китайский конфликт» (см. настоящее издание, т. 12, стр. 105-110). — 256.
842 Маркс имеет в виду передовую статью газеты «Times» от 29 декабря
1856 г., посвященную англо-иранской войне, и передовую статью о китайских событиях, опубликованную той же газетой 2 января
1857 г. — 256.
843
В феврале 1839 г. английским войскам, находившимся в
северной
Индии, был отдан приказ двигаться через Хайберский проход ва
Афганистан. — 259.
630
ПРИМЕЧАНИЯ
344 Имеется в виду Лондонская конвенция от 15 июля 1840 г. об оказании помощи турецкому султану против египетского паши Мухаммеда-Али, подписанная Англией, Россией, Австрией и Пруссией. — 260, 267, 355.
345 Незавершенная работа К. Маркса «Брошюры Б. Бауэра о коллизии с Россией» посвящена критике внешнеполитической концепции Б. Бауэра и особенно его представления о роли царской России в судьбах европейских народов. Бруно Бауэр, немецкий философ-идеалист, по политическим убеждениям буржуазный радикал, в 1854 г. во время Крымской войны опубликовал ряд брошюр, в которых, анализируя события войны и предшествующую историю внешней политики европейских государств, пришел к пыводу, что западные державы потерпели фиаско и что общеевропейским арбитром становится Россия. Еще в 1855 г. Маркс и Энгельс собирались пыступнть против «высокомерного тупоумия» «критической критики», т. о. против Б. Бауэра (см. настоящее издание, т. 28, стр. 523). Вероятно, данная рукопись, составленная в январе 1857 г., и являлась попыткой реализации этого замысла. При работе над ней Маркс подверг критике главным образом дво брошюры Бауэра: «La Russie et l'Angleterre» (вышла в июне 1854 г. в Шарлоттенбурге и являлась переводом с немецкого издания «Rußland und England») и «Die jetzige Stellung Rußlands» (напечатана там жо в октябре 1854 года).
Даипой рукописью открывается экспертная тетрадь Маркса за 1857 год с пометкой па первой странице: «1. Heft А.»; на второй: « A . Spada . Russian Ephémerides» (речь идет об издании: A . Spada. «Ephémérides russus politiques, littéraires, historiques et nécrologiques... jusqu' en 1816». St.-Petersbourg, 1816) и дата «1857 (Januar)». С третьей страницы начинается сама рукопись, которая в общей сложности занимает шесть страниц. Перед заглавием рукописи арабская единица за круглой скобкой. При публикации рукописи важнейшие зачеркнутые места воспроизведены в подстрочных примечаниях. Рукопись впервые была опубликована на русском языке в журнале «Летописи марксизма», т. VI, 1928 под заглавием «Брошюры Б. Бауэра о русском конфликте». — 261.
8*8 «Критика*, т. е. Б. Бауэр, так Маркс и Энгельс звали Бауэра еще с первой половины 40-х годов XIX в. (см. настоящее издание, т. 2, стр. 3—230). — 261. ■
3*7 Речь пдет о действиях русских войск на Дунае в мае — сентябре 1854 г. и в первую очередь о снятии осады Силистрии (см. настоящее издание, т. 10, стр. 269—293, 312—317, 367—371 и др.). — 262.
348 Имеется в виду фраза: «Европа разделена ролями в конституционной драме: Запад взял на себя роль честной оппозиции, России досталась роль правительства, вооруженного силой и осуществляющего свою власть». Этой фразой, впервые употребленной в брошюро «Россия и Англия», Бауэр открывает другую свою брошюру «Теперешняя позиция России». Слово «вышеприведенное» вставлено в текст Бауэра Марксом. — 262.
349 Обстоятельную критику прудоновской теории «народного банка» и «рабочих денег» Маркс дал в «Экономических рукописях 1857—1858 годов (первоначальный вариант «Капитала»)», в главе второй (см. настоящее издание, т. 46, ч. I ), — 265,
ПРИМЕЧАНИЯ
631
350
в 1774 г., став
генеральным контролером финансов, Анн Тюрго ввел
во Франции свободную торговлю хлебом и мукой. Эта мера, как и
последующие реформы Тюрго, встретила ожесточенное сопротивление
со стороны придворных кругов, высшего духовенства, дворянства,
чиновничества. В 1776 г. Людовик
XVI
подписал приказ об отставке
Тюрго.
Лига против хлебных законов, о которой идет речь ниже, была основана в 1838 г. манчестерскими фабрикантами, фритредерами Кобденом и Брайтом; она добивалась полной свободы торговли. После отмены хлебных законов в 1846 г. прекратила существование. Деятельность Лиги неоднократно подвергалась анализу и критике со стороны Маркса и Энгельса в работах 40—50-х годов, а также в «Капитале». — 265.
351 Имеется в виду Крымская война (1853—1856). — 265.
352 Речь идет о билло о реформе избирательного права (принят в 1832 г.); он был направлен против политической монополии земельной и финансовой аристократии, ликвидировав представительство некоторых «гнилых местечек» (см. примечание 362), и открыл доступ в парламент представителям финансовой буржуазии. В начале 50-х годов в Англии началась борьба за вторую избирательную реформу. В феврале 1852 г. Рассел сделал предварительное заявление в парламенте по поводу билля об избирательной реформе, который, однако, даже не был поставлен на обсуждение. Анализ содержания этого билля был дан Энгельсом в статье «Англия» (см. настоящее издание, т. 8, стр. 227—230). — 266, 312.
353 Намек на Д. Уркарта, считавшего Пальмерстона прямым агентом царского правительства. — 266.
35'. Версия о том, что английский дипломат Роберт Адер, доверенное лицо Фокса, был послан им в Петербург с целью расстроить планы У. Питта, была выдвинута в 1821 г. в книге: G. Tomline. Memoirs of the Life of the Right Honorable William Pitt. 3 Volumes, London, 1821. - 267.
£55 Обеспокоенный успехами России в русско-турецкой войне 1787— 1791 гг., Питт-младишй пытался помешать осуществлению Ясского договора. Русская дипломатия, используя английскую прессу и завязав сношения с лидером оппозиции Чарлзом Джемсом Фоксом, сумела предотвратить разрыв дипломатических отношений с Англией. Фокс выступил в палате общин с резкой критикой политики Питта. Одержав дипломатическую победу над Питтом, Екатерина приказала демонстративно купить для нее в Лондоне бюст Фокса, который был установлен в Царскосельском дворце между статуями Демосфена и Цицерона. Вероятно, говоря «о противозаконных связях», Маркс имеет в виду эти обстоятельства. — 267.
356 Об Утрехтском мире см. примечание 390.
В 1716 г. в Ганновере между Англией и Францией был подписан тайный договор, по которому Англия выступила гарантом сохранения французской короны за Орлеанским домом в случае смерти Людовика XV бездетным. Договор был подписан со стороны Англии государственным секретарем по иностранным делам при короле Георге I
632
ПРИМЕЧАНИЯ
Станхопом, а со стороны Франции — кардиналом Дюбуа. На его основе в 1717 г. был заключен Тройственный союз между Англией, Францией и Голландией, а в 1718 г. к союзу присоединилась Австрия (Четверной союз). Об этих событиях и говорится дальше в тексте Маркса. — 267.
357 Имеется в виду конвенция, подписанная 22 апреля 1834 г. в Лондоне Францией, Англией, Испанией и Португалией, по вопросам, касавшимся Пиренейского полуострова. — 267, 355.
358 Капитан из Итона ( Captain from Eton) — почетное звание, которое иолучали студенты Итонского колледжа за участие в политических диспутах, проводившихся п форме парламентских дебатов. Каннинг получил это звание в 1788 г. по окончании этого колледжа. — 268.
359 Маркс здесь имеет в виду речь Каниинга, произнесенную им 12 декабря 1826 г. в английском парламенте в связи с посылкой английских войск в Португалию. Каннинг заявил, что роль Англии в войно принципов (пли мнений) между различными странами мира сравнима с ролью Эола, который: «... сидит в крепостице высокой, скиптры держа, умягчает их дух и смиряет их гновы...» (Вергилий. «Энеида», I , 56—57). Посылка английских войск в Португалию явилась одним из эпизодов гражданских войн в этой стране (Мигелнстскио войны 1823-1834 гг.). — 268.
300 Речь идет об антифранцузской политике английского премьер-министра Уильяма Питта (старшего), который сыграл крупную роль в развязывании Семилетней войны (1756—1763), позволившей Англии захватить почти все владения Франции в Индии и Северной Америке. — 268.
301 Независимость испанских колоний в Америке была провозглашена в 1826 г. (кроме Кубы и Пуэрто-Рико), независимость португальской колонии Бразилии — в 1822 г. в результате войны за независимость испанских и португальских колоний 1810—1826 гг. — 268.
382 «Гнилые местечки» — так называли в Англии в XVIII —Х.Х вв. малонаселенные или обезлюдевшие городки и деревни, обладавшие со времен средневековья правом представительства в парламенте. Привилегии «гнилых местечек» были отменены реформами 1832 (см. примечание 352), 1867 и 1884 гг. — 268.
звз в оригинало «Stämme»; слово «Stamm» имело в 40—50-х годах XIX в. в исторической науке более широкое значение, чем в настоящее время. Оно обозначало совокупность людей, имевших общее происхождение. Здесь оно переводится словом «народность» в соответствии с фактическим содержанием употребленного термина. — 271.
804 В . Bauer «De la Dictature occidentale». Charlottenbourg, 1854, p. 25— 26. — 271.
885 в результате русско-турецкой войны 1828—1829 гг. был подписан Адрианопольский договор ( IX. 1829), который подтверждал автономию Сербии и обеспечивал автономию Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии). Гарантом завоеванных прав выступала Россия. На основе Адрианопольского договора в Дунайских княжествах
ПГИМЕЧАПИЯ
633
в 1831—1832 гг. был введен Органический регламент, определявший их общественно-политическое устройство. Оценку Органического регламента Марксом см. также в т. I «Капитала» (настоящее издание, т. 23, стр. 249-250). — 271.
зев Речь идет об одном из эпизодов русско-турецкой войны 1828—1829 гг. — осаде русскими войсками порта Эноса на Эгейском море. Энос был занят отрядом генерала Сиверса 26 августа 1829 г. — 272.
367 Речь идет о следующей цитате из депепш Лпвена, которую приводит Бауэр: «Мир должен быть заключен именно в нашем лагере; и только после того как он будет заключен, Европа сможет узнать его условия; тогда время для протестов будет упущено и придется терпеливо сносить то, чему уже нельзя будет пометать» (В. Bauer. «La Russie et l'Angleterre», p. 40). Приводимые Марксом цитаты из депеши Ливена Нессельроде от 13 (1) июня 1829 г. даются им по изданию «The Portfolio. Diplomatic Review. (New Series)». Vol. I, N 1. London, 1843, p. 24. — 272.
368 25 ноября 1836 г. в бухте Суджук-Кале (черноморское побережье Кавказа) русским военным кораблем было задержано английское торговое судно «Впксен». Этот эпизод подробно рассмотрен Марксом в памфлете «Лорд Пальмерстон» (см. настоящее издание, т. 9, стр. 416—
425). — 273.
360 о политике франкфуртского Национального собрания в национальном вопросе см. в статьях Маркса и Энгельса в «Neue Rheinische Zeitung» (настоящее издание, т. 5). — 273.
370 Набросок «О восточном вопросе» сделан Марксом в конце эксцерпт-ной тетради, которая датирована январем — мартом 1857 г.; на основании этого набросок датируется мартом 1857 г. — 274.
371 Маркс имеет в виду статьи Энгельса, относящиеся к периоду подготовки и началу Крымской войны, и в частности: «Действительно спорный пункт в Турции», «Турецкий вопрос», «Что будет с европейской Турцией?» и др. (см. настоящее издание, т. 9, стр. 11—15, 20—26, 31-36). - 274.
372 Основными источниками при составлении данных заметок К. Марксу послужили книги: G. F. Martens . Grundriß einer diplomatischen Geschichte der Europäischen Staatshändel und Friedensschlüsse seit dem Ende der 15-ten Jahrhunderts bis zum Frieden zu Amiens. Berlin, 1807 и анонимное издание , принадлежащее участнику венгерской революции 1849 г . И . Сабо , The State Policy of Modern Europe, from the Beginning of the sixteenth Century to the Present Time. 2 volumes. London , 1857 (см. также примечание 459). Выписки из Мар-тенса Маркс делал еще в сентябре — ноябре 1853 г. в связи с работой над статьями о Пальмерстоне, а выписки из « State Policy » в 1860 г. (см. настоящий том, стр. 332—356). Данные «Заметки» содержат собственные выводы и замечания Маркса, Работа публикуется по фотокопии, что очень затрудняет правильную датировку документа. «Заметки» были сделаны не ранее середины 1857 г. в связи с занятиями Маркса проблемами русско-английских внешнеполитических отношений и историей дипломатии вообще. — 275,
634
ПРИМЕЧАНИЯ
373 После смерти Карла Смелого к Франции перешли герцогства Бургундия и Пикардия. Присоединением этих земель, а также Прованса с Марселем Людовик XI завершил объединение всех французских земель, за исключением Бретани. — 275.
374 Речь идет о сложившейся в начальный период итальянских войн (1494—1559) антифранцузской коалиции. Договор о ее создании был подписан 31 марта 1495 г. в Венеции представителями Милана, Венеции, Испании, так называемой Священной Римской империи и папой римским. Маркс вслед за Мартенсом называет ее «Лигой общественного блага» по аналогии с возникшим под этим названием в конце 1464 г. во Франции союзом феодальной знати, фактически возглавляемым бургундским герцогом Карлом Смелым и направленным против политики объединения страны в единое централизованное государство, проводившейся королем Людовиком XI . — 275.
375 Людовик XII отказался от своей части Неаполитанского королевства, полученной по договору 1500 г., в 1504 г.; этим событием запер-шился второй период Итальянских войн. — 275.
370 Речь идет о событиях, предшествовавших созданию Камбрейской лиги. — 276.
877 В 1506 г. Максимилиан I вторгся в Миланскую область и был разбит венецианцами; за этим последовало заключение в городе Камбре союза между римским папой Юлием II , Максимилианом I , Людовиком XII , испанским королем Фердинандом и некоторыми итальянскими государствами (Флоренцией, Мантуей, Феррарой, Савойей и др.) против Венецианской республики с целью раздела ее владений. Официально Камбрейская лига оформилась 10 декабря 1508 года. После победы Франции при Аньяделло (у Мартенса Гьярдадда), против нее повернули все ее бывшие союзники, и 5 октября 1511 г. римским папой Юлием II , Венецией, Испанией, Англией и швейцарскими кантонами была создана Священная (Святейшая) лига. В результате действий Священной лиги французские войска были вытеснены из Италии в 1512 году. — 276.
*78 Здесь в рукописи, по-видимому, описка. После битвы при Павии и освобождения из плена Франциск I присоединился к так называемой Коньякской лиге, направленной против императора «Священной Римской империи» Карла V (см. настоящий том, стр. 333). — 276".
870 Като-Камбрезийский мир 1559 г., завершивший Итальянские войны (1494—1559), состоял из двух договоров (между Францией и Англией, Францией и Испанией). По этому договору Франция отказывалась от всяких притязаний на владения в Италии. Восстанавливалось Савойское герцогство, захваченное в 1536 г. Франциском I , и к нему была присоединена часть Пьемонта. — 276, 334.
880 В 1581 г. Генеральные штаты восставших провинций объявили о низложении Филиппа II , а 26 июля 1581 г. — об отделении Нидерландов от Испании, провозгласив их государственную независимость. — 277.
881 Впервые Генеральные штаты в Нидерландах были созваны в 1463 г., они представляли интересы отдельных провинций и имели право вотировать налоги. В ходе Нидерландской буржуазной революции XVI в,
ПРИМЕЧАНИЯ
635
![]() Генеральные штаты всей страны были созваны в 1576 г.,
после ее победы они стали высшим постоянно действующим законодательным органом
республики. — 277.
Генеральные штаты всей страны были созваны в 1576 г.,
после ее победы они стали высшим постоянно действующим законодательным органом
республики. — 277.
382 После подписания Вестфальского мира 1648 г. (см. примечание 310) Франция продолжала войну с Испанией вплоть до 1659 г. Она закончилась подписанием мира 7 ноября 1659 г. в Пиренеях на о-ве Фезан на реке Бидасоа. Пиренейский мир способствовал переходу гегемонии в Западной Европе от Испании к Франции. — 277, 338.
383 Имеется в виду война за Мантуанское наследство (1628—1631), бывшая составной частью Тридцатилетней войны (1618—1648). Война за преобладание в Северной Италии велась между представителями боковых линий рода Гонзага: Фердинандом, князем Гуасталлы (Фер-ранте II), поддержанным испанскими и австрийскими Габсбургами, и находившейся по договору 1528 г. в фактической зависимости от Испании Генуей, с одной стороны, и ставленником Франции Карлом, герцогом Новорским (Карло I Гонзага) — с другой. В 1629 г. к Франции был вынужден присоединиться и герцог Савойский. Исход войны укрепил международные позиции Франции. — 277.
38'i Речь идет о Вестфальском мире (см. примечание 310), который был подписан 24 октября 1648 г. в Мюнстере; состоял из двух объединенных мирных договоров — Оснабрюкского (между императором «Священной Римской империи» и его союзниками, с одной стороны, и Швецией с союзниками — с другой) и Мюнстерского (между императором и Францией с их союзниками). Переговоры о мире велись с 1645 года. - 277, 837.
385 Маркс воспроизводит название I главы первого тома работы И. Сабо « The State Policy of Modern Europe », p . 1. — 277.
386 Имеется в виду сепаратный договор Испании с Нидерландами — один из серии Вестфальских договоров (см, примечания 310, 384). — 277, 337.
387 Богемия — официальное название Чехии, под которым она с 1526 по 1918 г. входила в состав Габсбургской империи.
Говоря об амнистии, Маркс имеет в виду обещания, данные Богемии, которая в Тридцатилетней войне сражалась на стороне антигабсбургской коалиции, правительствами Англии, Франции, Швеции, Дании и других государств. Чешские земли, бывшие на протяжении Тридцатилетней войны ареной военных операций, по условиям Вестфальского мира 1648 г. (см. примечания 310, 384) оставались под властью Габсбургов. — 278, 337.
388
Рисвикский мирный договор 1697 г.,
завершивший войну 1688—1697 гг.
между Францией и Аугсбургской лигой (Голландия, Англия, Испания,
Германская империя, Савойя, Швеция, ряд немецких и итальянских
князей), подтвердил с некоторыми изменениями довоенные границы.
Франция должна была признать государственный переворот 1688—
1689 гг. (так называемая славная революция), после которого
в Англии упрочилась конституционная монархия. По условиям
договора Франции отходила западная часть острова Гаити (Сан-До-
минго). — 278, 340.
636
ПРИМЕЧАНИЯ
389 Маркс приводит здесь названия IV , V, VI глав первого тома книги « The State Policy», p . 84, 100, 132. — 278.
390 Имеются в виду договора, заключенные в 1713—1715 гг. (в том числе в Утрехте и Раштатте) между Францией и Испанией, с одной стороны, и участниками антифранцузской коалиции (Англией, Голландией, Португалией, Пруссией, Савойей и австрийскими Габсбургами) — с другой, и завершившие длительную войну за Испанское наследство (см. примечание 317). Важнейшими среди условий договоров было сохранение испанского престола за внуком Людовика XIV Филиппом Бурбоном, но французский король должен был отказаться от своих планов соединения французской и испанской монархий. Договора санкционировали переход ряда французских и испанских колоний в Вест-Индии и Северной Америке, а также Гибралтара и порта Маон на острове Менорка к Англии. Кроме того, Англия обеспечила себе так называемое асьенто, то есть монопольное право на ввоз рабов из Африки в испанские колонии в Америке. — 278, 346.
391 Маркс приводит название IX главы первого тома « The State Policy», p . 247. — 278.
392 Маркс, по-видимому, имеет в виду проект международного соглашения, изложенный и книге советника Генриха IV М. Сюлли «Здравые принципы государственной экономии» («Mémoires des sages et royales économies d'Estat, domestiques, politiquos et militaires de Henry le Grand»), вышедшей в свет в 1638 г. Автором был Сюлли, хотя он и приписывал его Генриху IV . Сущность проекта, составленного в разгар Тридцатилетней войны и носившего антигабсбургскую окраску, сводилась к вытеснению турок и татар из Европы и организации конгломерата христианских государств под номинальным главенством папы римского, а по существу — под французским господством. План носил совершенно нереальный характер и не соответствовал истинной внешней политике Генриха IV . — 279, 335.
393 Далее в рукописи идут цифровые подсчеты, не имеющие отношения к основному содержанию. — 279.
394 Заметка Ф. Энгельса «Абенсберг» на русском языке впервые опубликована в примечании 54 к тому 14 Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. — 280.
895 Публикуемые ниже девять небольших заметок из «New American Cyclo paedia» (Акр, Акций, Аландские острова, Алденховен, Алессандрия, Альмейда, Амюзет, Антверпен, Арбелы) принадлежат Энгельсу. Названия этих заметок входят в предварительный список статей цо военным вопросам на «А», который был составлен Энгельсом и послан им 28 мая 1857 г. Марксу, а затем отправлен в Нью-Йорк редакции Новой американской энциклопедии (см. настоящее издание, т. 29, стр. 113-114). - 281.
89« Рыцари св. Иоанна — члены военно-монашеского католического ордена, созданного в Палестине крестоносцами в начале XII в.; после поражения в 1291 г. перенесли свое пребывание на Кипр, затем последовательно на Родос, Мальту и в Рим. — 281.
397 По Брундизийскому соглашению между Октавианом, Антонием и Лепи-дом, которое было заключено в 40 г, go н, э„ Антоний получил все
ПРИМЕЧАНИЯ
637
восточные провинции Римской империи, Октавиан — все западные, а Лепид — Африку. — 282.
398 Этому сражению у Бомарсунда Энгельс посвятил две специальные статьи в « New - York Daily Tribune» и небольшую заметку в « New American Cyclopaedia» (см. настоящее издание, т. 10, стр. 412—421; т. 14, стр. 293). — 283.
399 Речь идет о Гангутском сражении 25—27 июля 1714 г. между русским и шведским флотами, закончившемся победой русских. — 283.
400 Как видно из письма Энгельса Марксу от 28 мая 1857 г., Энгельс собирался в этой заметке написать также и о событиях 1797 г. (см. настоящее издание, т. 29, стр. 114). Намерение Энгельса осталось неосуществленным. — 284.
401 Под этим названием в « New American Cyclopaedia» помещены две заметки; из них Энгельсу принадлежит вторая, которая и воспроизводится в данном томе. — 285.
40ü Под этим названием « New American Cyclopaedia » опубликовала три заметки: «Альмейда» — город в Португалии, «Альмейда» — морской порт в Бразилии и «Альмейда, Франсишку» — первый португальский вице-король Индии. Письмо Энгельса Марксу от 28 мая 1857 г. позволяет утверждать, что Энгельс является автором первой заметки (см. настоящее издание, т. 29, стр. 114). — 286.
403 речь идет об осаде Антверпена бельгийскими и французскими войсками во время бельгийско-голландской войны 1831—1833 гг. Война была начата голландским королем Вильгельмом I , который отказывался признать государственную независимость Бельгии, завоеванную революцией 1830 года. — 28 S .
404 Публикуемый набросок Ф. Энгельса «Беннигсен и Барклай» представляет собой первый вариант двух совместных статей Маркса и Энгельса для « New American Cyclopaedia »: «Барклай-де-Толли» и «Беннигсен». Набросок был послан Энгельсом Марксу с письмом от 10 сентября 1857 г., название дано в соответствии с письмом Энгельса (см. настоящее издание, т. 14, стр. 92—94, 113—116; т. 29, стр. 136). — 291.
405 Этот факт был включен Марксом в биографию Барклая-де-Толли (см. настоящее издание, т. 14, стр. 92). — 291.
406 Осада Данцига (Гданьска) французскими войсками продолжалась с марта до конца мая 1807 г. — 291.
407 Сражепие у Смоленска между армией Наполеона и русскими войсками произошло 4—6 (16—18) августа 1812 г. — 292.
408 в окончательном тексте статьи Маркс показывает, что роль Барклая-де-Толли в кампаниях 1813—1814 гг. по своему характеру не была одинаковой, и сказанное Энгельсом в данном наброске относится лишь к деятельности Барклая-де-Толли в 1814 г. (см. настоящее издание, т. 14, стр. 93—94). — 293.
*09 Заметка «Канонада» была написана Энгельсом и отправлена в Нью-Йорк Марксом 8 января 1858 г, вместе со статьями «Боливар-и-Понте»,
638
ПРИМЕЧАНИЯ
«Кампания», «Капитан» и др. (см. настоящее издание, т. 14, стр. 226— 243 и др.). Об этом свидетельствует запись в Записной книжке Маркса за 1858 год. — 294.
*1° На русском языке заметка «Картуш» впервые была опубликована в примечании 253 к тому 14 Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. — 295.
ш Статья о Фридрихе Вильгельме Бюлове была предложена для Энциклопедии Марксом по инициативе Энгельса, и первопачальпо предполагалось, что Маркс напишет общебиографическую часть, а Энгельс — военную. Однако это намерение полностью осуществлено не было (см. настоящее издание, т. 29, стр. 250—251). Вариант статьи, посланный Марксом в Нью-Йорк (см. примечание 414), по-видимому, был сокращен редакцией Энциклопедии. О первоначальном, более широком замысле свидетельствуют данные предварительные заметки Маркса. — 296.
412 Бель-Альянс — деревня в Бельгии, в провинции Брабант, в 4 км к югу от Ватерлоо, штаб-квартира Наполеона I во время битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 г. В немецкой литоратуре битву при Ватерлоо иногда называют битвой при Бель-Альянсе. — 297.
413 Имеется в виду сражение при Лейпциге 16—19 октября 1813 г. между войсками шестой коалиции европейских держав и наполеоновской Франции. «Битва народов» закончилась победой союзных войск. — 297.
414 Под названием «Бюлов» в «New American Cyclopaedia » опубликованы две заметки: «Бюлов, Фридрих Вильгельм» и «Бюлов, Генрих». Как видно из переписки Маркса и Энгельса за февраль — март 1858 г., Марксу принадлежит лишь первая (см. примечание 411). — 298.
415 в связи с национально-освободительным восстанием народов Индии против британского владычества в 1857—1858 гг. Маркс опубликовал в « New - York Daily Tribune » ряд статей, посвященных анализу причин, характера и движущих сил этого восстания, разоблачению колониальной политики Англии. Статьи Маркса вошли в том 12 настоящего издания. Данная статья («Перевозка войск в Индию») была написана Энгельсом по просьбе Маркса между 16 и 20 июля 1858 г. и отослана в Нью-Йорк 27 июля. Статья Энгельса, затрагивая вопросы организации военного подавления восстания со стороны Англии, содержит резкую критику военного министерства правительства Паль-мерстона, господствовавших в нем консерватизма и рутины. Статья Энгельса подверглась вмешательству редакции « Now - York Daily Tri bune », следы которого заметны особенно в последнем абзаце. Редакция изменила также заголовок, опубликовав статью под названием « How the Indian War has been mismanaged ». В настоящем томе заголовок дан в соответствии с Записной книжкой Маркса: « Transport of Troops
. to India ». Статья была опубликована без подписи, но с пометой: «Корреспонденция « The New - York Tribune »». — 299.
4<в Корреспонденция Маркса «Новый французский революционный мани-
. фест» посвящена разбору памфлета французского мелкобуржуазного
демократа Феликса Пиа «Lettre aux mandarins de la France». Маркс
ПРИМЕЧАНИЯ
639
всегда резко отрицательно относился к провокационным выступлениям Пиа, который и в 50-х, и позднее, в 60-х годах, выступая в Англии с безответственными призывами к убийству Наполеона III и вообще к «цареубийству», давал повод английской полиции для высылки революционных эмигрантов из Англии, а французской — для преследования участников рабочего и демократического движения в самой Франции. Однако данный памфлет привлек внимание Маркса тем, что в нем содержались «один или два интересных факта» (см. настоящее издание, т. 29, стр. 294), а именно: свидетельства роста самосознания рабочего класса и классовых выступлений пролетариата, что был вынужден признать даже Ина, всегда резко выступавший против самостоятельного рабочего движения и ставший в годы деятельности Первого Интернационала его заклятым врагом. Кроме того, Маркс приводит те места из памфлета Пиа, которые свидетельствуют о кризисе бонапартистской империи и о том, что французская буржуазия исчерпала свои революционные возможности. Запись об отправке корреспонденции в Нью-Йорк содержится в Записной книжке Маркса. Текстом самой брошюры Пиа Институт марксизма-ленинизма не располагает, поэтому степень вмешательства Маркса в текст Пиа не поддается определению. — 306.
417 Иксион — персонаж древнегреческой мифологии, царь лапифов; Иксион преследовал богиню Геру, но был обманут Зевсом, кото рый в виде Геры представил ему облако. Пиа намекает на проповедуемый Гизо идеал представительной монархии и, в частности, на его работу «Cours d'histoire moderne. Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe». — 307.
418 Намек на работы В. Кузена 50-х годов XIX в., имеющие общий подзаголовок: «Etudes sur les femmes illustres et la société du XVII-e siècle»: «Madame de Longueville», «Madame de Sablé», «Madame de Chevreuse et madame de Hautefort» и др. — 307.
419 в бытность Тьера'главой французского правительства в 1840 г. прах Наполеона I был перевезен в Париж и захоронен в Доме инвалидов; Пиа имеет также в виду двадцатитомное сочинение Тьера «Histoire du Consulat et de l'Empire». — 307.
420 Cent-gardes — гвардия, специальный привилегированный корпус при императорской особе, созданный во Франции декретом от 24 марта 1854 г. - 307.
421 Намек на недовольство в католических и бонапартистских кругах поведением редактора католической газеты «Univers» Л. Вейо, который на ее страницах вел скандальную полемику со всеми инакомыслящими, апеллируя при этом к пане. — 307.
422 Намек на прекращение издания газеты Ламенне «Le Peuple constituant», последний номер которой вышел И июля 1848 г. Слова: «silence au pauvre» были сказаны Ламенне в этом последнем номере. — 308.
423 Ламенне завещал похоронить его на кладбище бедных без всякого церковного обряда. — 308.
424 Намек на обсуждение и принятие в Бельгии и Пьемонте 18 февраля 1858 г. законов, карающих подстрекательство к покушениям и уча-
640
ПРИМЕЧАНИЯ
стие в них. Законы были приняты в угоду Наполеону 111 после покушения на его жизнь итальянского революционера Орсини 14 января 1858 г. — 308.
425 В 1858 г. в Джидде (порт на Красном море) произошло кровавое столкновение мусульман с христианами. — 308.
ив Намек на слова из речи Луи Бонапарта, произнесенной им 9 октября 1852 г. в Бордо незадолго до плебисцита и провозглашения Второй империи; пытаясь завоевать симпатии населения, он демагогически заявил, что «империя — это мир». — 309.
'"2" Левиты — у древних евреев служители религиозного культа, в пользу которых взималась десятина. — 309.
''28 Пиа приводит отрывок из статьи Армана Карреля, опубликованной 24 января 1832 г. в газете « National ». Каррель выступил в ней против незаконных превентивных арестов, практиковавшихся при Луи-Филиппе. — 309.
''29 Дело Ипподрома — судебный процесс над группой республиканцев, дважды в течение лета 1853 г. (7 июня по дороге па Ипподром, 6 июля в театре Комической опоры) пытавшихся совершить покушение на Наполеона III. — 309.
4.10 Речь идет о многочисленных попытках возникшего в 1850 г. тайного республиканского общества «Марианна» организовать выступления против режима бонапартистской империи.
В Анже в ночь с 26 на 27 августа 1855 г. рабочие сланцевых карьеров, получив ложное известие о победе республики в Париже, направились к городу и были разогнаны войсками.
В 1858 г., после неудачного покушения Орсини 14 января, в ряде городов Франции были предприняты попытки республиканских переворотов, в том числе 6 марта в Шалон-на-Соне произошло выступление армейских частей (о событиях в Шалон-на-Соне см. настоящее издание, т. 12, стр. 420—424). — 309.
431 Статья
«Г-н Джон Брайт», опубликованная в «
New-
York
Daily
Tri
bune
» в качестве передовой, написана Марксом (см.
примечание 437).
В статье ааметно вмешательство редакции «
New
-
York
Daily
Tribune»,
в частности, значительно изменен первый абзац, а последний целиком
написан редакцией (см. примечание 440), редакции принадлежат
и восторженные эпитеты, употребленные при характеристике Брайта.
Заголовок дан редакцией тома в соответствии с началом статьи.
Статья перепечатана в « New - York Semi - Weekly Tribune » № 1406, 16 ноября 1858 г. под заголовком « Radicalism in England ». — 311.
432
H
июня 1858 г. в статье «Политические партии в Англии. —
Поло
жение в Европе» Маркс писал: «Дело в том, что обе правящие олигар
хические партии в Англии уже давно превратились в простые клики
без каких бы то ни было определенных принципов. После безуспеш
ных попыток создать сначала коалицию, а потом диктатуру они пришли
теперь к тому положению, когда каждая из них может надеяться про
длить свою жизнь, лишь вручив свои общие интересы в руки их общего
врага — буржуазной радикальной партии,
которая в палате общин
ПРИМЕЧАНИЯ
641
имеет сильного представителя в лице Джона Брайта» (настоящее издание, т. 12, стр. 519). — 311.
433
О поражении
манчестерской школы на выборах в палату общин в марте
1857 г. см. статью К. Маркса «Поражение Кобдена, Брайта и Гиб-
сона» (настоящее издание, т. 12, стр. 173—177).
Китайская война — см. примечание 341. — 311.
434 В связи с нотой 29 января 1858 г. министра иностранных дел Франции графа Валевского, выражавшей недовольство предоставлением Англией права убежища французским политическим эмигрантам, Пальмерстон внес в палату общин билль о заговорах. Поправка к биллю, предложенная при втором чтении 19 февраля Милнером Гибсо-ном и поддержанная Брайтом, осуждала правительство Пальмерстона за то, что оно не дало должного ответа на депешу Валевского. Поправка, принятая большинством палаты общин, фактически явилась вотумом недоверия правительству и вынудила его к отставке. — 311.
435 Данная фраза вставлена в текст статьи редакцией « Tribune». Текст речей Брайта опубликован в этом же номере газеты. — 312.
436 Маркс имеет в виду речи Джона Брайта, произнесенные им 31 марта 1854 г. и 26 марта 1858 г. — 312.
437 Оценку данной программы Брайта см. также в письме Маркса Энгельсу от 29 ноября 1858 г.: «О движении за реформу в Англии я за последнее время говорил только в связи с митингом Брайта в Бирмингеме, именно, — суть заключалась в том, что его программа является снижением требований Народной хартии до уровня требований буржуазии» (настоящее издание, т. 29, стр. 303). — 312.
438 Маркс имеет в виду 4-й пункт Хартии, являвшейся политической программой чартистов: «Выборы путем тайной баллотировки для устранения подкупа и запугиваний со стороны буржуазии» (настоящее издание, т. 2, стр. 452). — 312.
43» (/.Круглоголовые» — бранное прозвище, данное сторонниками короля защитникам парламента в пориод английской буржуазной революции XVII века. — 313.
440 Далее следует абзац, вставленный в статью редакцией газеты: «Мы со своей стороны, рассматривая эту проблему как с точки зрения политической справедливости и народного прогресса, так и с той точки зрения, что ее разрешение приведет к созданию более демократического правительства Англии, с радостной надеждой приветствуем выступления г-на Брайта и желаем ему успеха в его мужественных и благородных начинаниях». — 314.
44) Незаконченный набросок статьи «Симптомы возрождающейся внутренней жизни Франции» свидетельствует о пристальном внимании Маркса к росту оппозиционных настроений в бонапартистской империи и дополняет статьи о растущем финансовом, экономическом и политическом кризисе во Франции, опубликованные в « New- York Daily Tri bune» в 1858 г. (см. настоящее издание, т. 12). Хотя в рукописи самим Марксом поставлены лишь дата и месяц, факты, содержащиеся в на-
642
ПРИМЕЧАНИЯ
броске, позволяют датировать его 1858 годом. Зачеркнутые места в данной публикации не воспроизводятся. — 315.
4й Публикуемый текст написан Марксом в качестве вступительного замечания к корреспонденции, помещенной в « New - York Daily Tri bune » под заголовком: «Внешняя политика России. Памятная записка о России для осведомления царствующего императора. Составлена русским кабинетом в 1837 году». В корреспонденции, помеченной «Корреспонденция N - Y Tribune . Берлин, 14 июля 1859 г.», Маркс воспроизводил опубликованный уркартистской газетой « Free Press » 13 июля 1859 г. документ под названием « Memoir on Russia , for the Instruction of the present Emperor . Drawn up by the Cabinet in 1837». Документ привлек внимание Маркса в связи с обострением борьбы вокруг проблемы объединения Германии и Италии и борьбы с бонапартизмом (только что был заключен позорный Виллафранкский договор — см. примечание 453). По его собственным словам, он хотел использовать его как повод «вкратце изложить роль России в этой трагикомедии и одновременно разделаться с Бонапартом» (настоящее издание, т. 29, стр. 372). Эту же мысль Маркс излагал во вступительном замечании к другой публикации того же документа, которую он осуществил на немецком языке в газете «Das Volk» в переводе с английского текста «Free Press». При знакомстве с этим документом Маркс и Энгельс высказали сомнение в подлинности его отдельных мест (см. настоящее издание, т. 29, стр. 371, 373). Из дальнейших номеров «Free Press» (27. VII и 31. VII 1859) действительно выяснилось, что в основу публикации был положен не оригинал документа, а помещенный в июне 1855 г. в немецкой консервативной газете «Preußisches Wochenblatt» материал, который представлял якобы обзор данного документа с большими цитатами («Preußisches Wochenblatt zur Besprechung politischer Tagesfragen» №№ 23, 24, 25 от 9,16, 23 июня 1855 г.). Эта публикация также не указывала ни источника, откуда был взят документ, ни названия, ни полного текста. Бисмарк в своих воспоминаниях («Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismark». Stuttgart, 1898, Bd. 1, S. 111—112) прямо говорил о том, что эта публикация была сфальсифицирована. Исследования, проведенные при подготовке данного тома к печати в Архиве внешней политики России, а также в Центральном государственном архиве древних актов, позволяют с полной уверенностью утверждать, что текст этого документа является фальшивкой.
Вступительное замечание к немецкой публикации, осуществленной «Das Volk» 23, 26 июля и 6, 13 августа 1859 г., воспроизводится в данном томе в подстрочном примечании. — 317.
443 Хронологические заметки «Итальянская война. 1859 г.» составлены Энгельсом, вероятно, 19 июля 1859 г. в связи с просьбой Маркса написать статью для газеты «Das Volk» о «военных итогах похода» Наполеона III в Италию (см. настоящее издание, т. 29, стр. 369). Заметки были отчасти использованы Энгельсом при работе над статьей «Итальянская война. Обзор прошлого» (см. там же, т. 13, стр. 446— 459). Запись событий, вероятно, сделана Энгельсом по памяти, так как в датах встречаются мелкие неточности, которые оставлены редакцией при подготовке текста без изменений. — 318.
444 1 января 1859 г. на приеме дипломатического корпуса в Тюильри Наполеон III , обратившись к австрийскому послу Хюбнеру, выразил
ПРИМЁЧАПИЯ
643
сожаление, что «отношения между Францией и Австрией стали менее дружественными, чем были прежде». — 318.
445 В середине февраля 1859 г. английское правительство Дерби предложило официальное посредничество для улаживания франко-австрийского конфликта. С этой целью в конце февраля 1859 г. в Вену с согласия Наполеона III был направлен лорд Каули. Оценку этой миссии Марксом см. настоящее издание, т. 29, стр. 342. — 318.
446 Оценку подлинных намерений европейских держав, выступивших за созыв конгресса и мирное решение конфликта, см. в работах Энгельса «Предстоящий мирный конгресс», «Неизбежность войны»; Маркса «Предстоящий мирный конгресс»; в их совместной статье «Симптомы приближения войны. — Вооружение Германии», а также в письме Маркса Энгельсу 22 апреля 1859 г. (настоящее издание, т. 13, стр. 301-305, 315-326; т. 29, стр. 342-344). - 318.
447 Революция в Великом герцогстве Тосканском (часть итальянской буржуазной революции 1859—1860 гг.) началась 27 апреля 1859 года. Временное правительство Тосканы, созданное после революции, 1 мая 1859 г. было заменено кабинетом министров во главе с графом Карлом Бонкомпаньи, назначенным Виктором-Эммануилом королевским чрезвычайным комиссаром в Тоскане. Это правительство Энгельс и называет «пьемонтской комиссией». — 318.
448 Сражению при Монтебелло Энгельс посвятил специальную статью, опубликованную в « New - York Daily Tribune» (см. настоящее издание, т. 13, стр. 366-368, а также стр. 360-361, 375-376, 377-378). — 319.
449 о сражении при Палестро см. статью Ф. Энгельса «Ход военных действий» (настоящее издание, т. 13, стр. 387—390). — 319.
450 Оценку битвы при Мадженте см. в статьях Ф. Энгельса «Поражение австрийцев», «Сражение при Мадженте» (настоящее издание, т. 13, стр. 395-398, 399-405). - 319.
451 Битве при Сольферино Энгельс посвятил две статьи в газете «Das Volk» («Сражение при Сольферино») и одну в « New- York Daily Tribune » («Правосудие истории») (см. настоящее издание, т. 13, стр. 419-431). — 319.
452 По условиям секретного соглашения Наполеона III с Кавуром в Плом-бьере (1858) за поддержку Сардинского королевства в войне с Австрией к Франции должны были отойти Савойя и Ницца. — 319.
453 Прелиминарный мирный договор в Виллафранке был подписан И июля 1859 г. между Францией и Австрией (без участия Пьемонта) по инициативе Наполеона III . О причинах поспешного заключения договора см. в статьях К. Маркса «Что выиграла Италия?», «Мир», «Вилла-франкскип договор», а также в письме Энгельоа Марксу от 14 июля 1859 г. (настоящее издание, т. 13, стр. 435—437, 438—440, 441—445; т. 29, стр. 368—369). — 319, 320, 331.
454 Авторство статьи «Будущее Италии» определяется на основании сопоставления ее содержания с другими статьями Маркса об итальян-
644
ПРИМЕЧАНИЯ
ских делах, относящимися к 1§59 г. (см. настоящее издание, т. 13), а также на основании переписки, которая позволяет утверждать, что в сентябре 1859 г. Маркс продолжал писать в « New- York Daily Tri bune» об Италии. Статья подверглась некоторому вмешательству редакции «Tribune». — 320.
455Публикуемый текст представляет собой набросок одной из лекций по политической экономии, которые Маркс читал немецким рабочим в Лондоне с осени 1859 г., после выхода в свет его работы «К критике политической экономии». Содержание наброска перекликается с первоначальным текстом второй главы «К критике политической экономии» (см. настоящее издание, т. 46, ч. II , стр. 445—450). Начало рукописи утрачено. — 324.
456 Корреспонденция К. Маркса «Император Наполеон III и Пруссия», в которой он приводит выдержки из брошюры французского бонапартистского публициста Э. Абу «La Prusso on 1860», предваряла ого статью «Интересные вести из Пруссии», написанную через день, 13 июня 1860 г. И корреспонденция и статья были направлены против бонапартистской агентуры в среде европейской буржуазной демократии, разоблачали шовинистический характер брошюры Абу (см. настоящое издание, т. 15, стр. 71—72; т. 30, стр. 50—51), выход которой приурочивался к предстоявшему 16 июня 1860 г. свиданию Наполеона III с прусским принцем-регентом Вильгельмом. Кроме того, Маркс в этой корреспонденции снова с сарказмом обрушивается на прусский деспотизм и клеймит провокационную деятельность агентов прусской полиции в среде европейских демократов. Разоблачению Абу Маркс придавал большое значение; он вернулся к нему в работе «Господин Фогт», показав связь идей и мыслей Абу с деятельностью тайного платного агента Наполеона III Карла Фогта (см. настоящее издание, т. 14, стр. 551, 690—691 и др.). Маркс побудил также немецкого демократа Сигизмунда Боркхейма выступить со специальной брошюрой: « Napoleon III . und Preußen. Antwort eines deutschen Flüchtlings auf «Preußen in 1860» von Edmond About» (Ld., 1860) и помогал ему при работе над книгой , просматривал корректуру .
При составлении корреспонденции Маркс пользовался, вероятно, корректурой брошюры Абу, полученной от Боркхейма, т. к. в названии своей корреспонденции, в статье «Интересные вести из Пруссии», а также в Записной книжке за 1860 г. с выписками из этой брошюры Маркс приводит первоначальное ее название — «Napoleon III et la Prusse». Корреспонденция Маркса впервые на русском языке была опубликована в первом издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XII , ч. II. Корреспонденция Маркса сверена с брошюрой Абу, токст Маркса выделен корпусом. — 326.
457Речь идет о конкордате с Римом, заключенном Австрией в 1855 г. и восстанавливающем в стране ряд привилегий католической церкви. — 327.
458Эти заключительные слова из брошюры Абу Маркс приводит в своей работе «Господин Фогт» (см. настоящее издание, т. 14, стр. 691). — 331.
459
Данная работа
Маркса представляет собой выписки из двухтомного
сочинения И. Сабо,
выпущенного
анонимно в Лондоне в
мае —
ПРИМЕЧАНИЯ
645
июне 1857 г . на английском языке : «The State Policy of Modern Europe, from the Beginning of the sixteenth Century to the Present Time» (см . также примечание 372). Книга^ И. Сабо не носила оригинального характера, являясь компилятивной сводкой истории межгосударственных отношений в Европе со времени итальянских войн первой половины XVI в. до Парижского конгресса 1856 года. Маркс делал выписки из этой книги в первой половине июня 1860 г. в связи с работой над памфлетом «Господин Фогт». Этот исторический экскурс понадобился Марксу для разоблачения контрреволюционной сущности политики Наполеона III , платным агентом которого являлся Фогт. Маркс берет из книги Сабо, написанной под известным влиянием идей Д. Уркарта (см. настоящий том, стр. 184—185), только факты, полностью игнорируя концепцию автора. Однако зачастую в эти выписки он вставляет исторические факты, отсутствующие у автора, и тем самым дает более широкую и всестороннюю картину исторических событий. Некоторые из них написаны по-немецки. Эти вставки Маркса выделены в тексте данной публикации корпусом.
Выписки отчасти использованы Марксом в главе «Да-да Фогт и его исследования» и в некоторых других главах «Господина Фогта» (см. настоящее издание, т. 14, стр. 502—551 и др.). — 332.
*во Калъмарская уния (1397—1523) — объединение Дании, Норвегии (с Исландией) и Швеции (с Финляндией) в личной унии под властью датских королей; в XV в. Швеция фактически вышла из унии; попытка датского короля Кристиана II восстановить свою власть в Швеции кровавой расправой над Стокгольмом привела к окончательному разрыву с Данией и восстановлению шведской государственности (1523). - 332.
m Речь идет о союзе (Коньякская лига), заключенном 22 мая 1526 г. — 333.
462 Traité des dames (дамский договор) — ироническое название Кам-брейского договора, заключенного при активном содействии матери Франциска I Луизы Савойской и тетки Карла V Маргариты в августе 1529 г. — 333.
463 Речь идет об отклонении Карлом V и Аугсбургским рейхстагом в 1530 г. так называемого Аугсбургского исповедания, излагавшего основы лютеранства и устанавливавшего его обрядовую сторону. — 333.
464 В 1534 г. Генрих VIII разорвал с папой и был провозглашен парламутом главой англиканской церкви («Акт о супрематии»). — 333.
465 В 1604—1606 гг. в Венгрии, Словакии и Трансильвании развернулось освободительное антигабсбургское движение под руководством венгерского феодала Иштвана Бочкаи. В движении приняли участие крестьяне, выступившие с антифеодальными требованиями, что заставило его руководителей пойти на компромисс с Габсбургами. По Венскому миру, подписанному в 1606 г. И. Бочкаи и Рудольфом II Габсбургом, восстанавливалась независимость Трансильвании, вводилась свобода вероисповедания для протестантов, ряд советников императора заменялся представителями венгерской аристократии. — 335.
466 Началом Тридцатилетней войны послужило антигабсбургское восстание в Чехии, продолжавшееся с 1618 по 1620 г. Союзником чехов
646
ПРИМЕЧАНИЯ
выступил Габор Бетлен, руководивший антигабсбургским восстанием в Венгрии (см. примечание 467). Восставшие потерпели поражение в решающем сражении на Белой горе 8 ноября 1620 г. — 336.
467 Антигабсбургское движение 1619—1626 гг. в Венгрии под руководством Габора Бетлена, происходившее в рамках Тридцатилетней войны, завершилось подписанием 20 декабря 1626 г. Пожоньского (Бра-тиславского) мира, который подтверждал условия более ранних договоров: за отказ от самостоятельной государственности Венгрия получила ряд земель, в том числе значительную часть Словакии. Несмотря на компромиссный характер, движение Габора Бетлена позволило Венгрии в первой половине XVII в. избежать полного подчинения Габсбургам. — 336.
468 Речь идет об Альтмаркском перемирии между Польшей и Швецией, заключенном 26 сентября 1629 г. на шесть лет при посредничестве Франции. Перемирие позволило Швеции начать активныо военные действия против Габсбургов. — 336.
460 Речь идет здесь о событиях войны за Мантуанское наследство, составившей третий этап Тридцатилетней войны (см. примечание 383). — 336.
470 Пражский мир протестантских князей Германии с императором был заключен 30 мая 1635 г. — 336.
471 Анна Австрийская, жена французского короля Людовика XIII , была дочерью испанского короля Филиппа III и в период своего регентства (1643—1661) при сыне Людовике XIV пыталась вести происпан-скую политику. Фактически Францией в период регентства Анны Австрийской правил Мазарини. — 337.
472 Речь идет о книге: Bougeant. Histoire du traité de Westphalie. Paris, 1751, которая цитируется И, Сабо в его книге « State Policy...». Закавыченные фразы являются цитатами из книги Бужана. — 337.
478 Речь идет о Вестминстерском мирном договоре от 14 апреля 1654 г., завершившем первую англо-голландскую войну (1652—1654). Война между двумя державами велась за господство на море и закончилась поражением Голландии, которая была вынуждена примириться с Навигационным актом 1651 г., направленным против голландской посреднической торговли. — 938.
474 Здесь речь идет об условиях Роскилльского мира, заключенного между Данией и Швецией 26 февраля 1658 г. и завершившего датско-шведскую войну 1657—1658 гг. В источнике, конспектируемом Марксом, эти события ошибочно отнесены к 1660 году. О зундской пошлине см. примечание 85. — 338.
475 Деволюционное право — существовавшее в ряде нидерландских земель положение, согласно которому в случае вторичной женитьбы отца его земли переходили к детям от первого брака. Послужило поводом Людовику XIV , женатому на Марии Терезии, дочери Филиппа IV от первого брака, начать войну (так называемая Деволюционная война 1667—1668 гг.) за Испанские Нидерланды с Карлом II, испанским королем, сыном Филиппа IV от второго брака, — 339,
ПРИМЕЧАНИЯ
647
*76 Речь идет о Ннмвегенском мире (см. примечание 315). — 339.
477 Присоединительные палаты (Chambres de réunion) — институты, учрежденные при городском совете Брейзаха, парламентах Меца и Безансона Людовиком XIV в 1679—1680 гг. с целью юридического обоснования прав Франции на земли в Эльзасе, Западной Лотарингии и некоторых других областях. — 339.
478 Большой альянс — антифранцузская коалиция, заключенная 7 сентября 1701 г. в Гааге между императором Леопольдом I , Англией и Голландией накануне войны за Испанское наследство. Впоследствии к Альянсу присоединились Пруссия, Дания, Португалия и некоторые другие государства. Называя эту коалицию вторым Большим альянсом, И. Сабо под первым имеет в виду антифранцузскую коалицию 1688 г. (см. настоящий том, стр. 339). — 341.
47« Речь идет о начале войны за Испанское наследство (см. примечание 317), которая была открыта посылкой в 1701 г. имперских войск под командованием Евгения Савойского в Италию с целью не допустить захвата Миланского герцогства французскими войсками. Официально война Людовику XIV была объявлена в 1702 г. — 341.
480 Речь идет об освободительном антигабсбургском движении в Венгрии (1703—1711) под руководством Ференца II Ракоци. В движении, особенно в первый его период, принимали активное участие крестьяне, выступления которых носили антифеодальный характер. Движение закончилось заключением предательского Сатмарского мира (1711), который Ракоци отказался признать, и капитуляцией армии повстанцев. Венгрия стала составной частью Габсбургской империи. — 341.
481 Здесь описка, эрцгерцог Карл Габсбург (Карл VI) был не сыном, а братом Иосифа I . — 341.
482 Аландский конгресс (1718—1719) — предварительные переговоры представителей России и Швеции в ходе Северной войны (1700—1721) об условиях заключения мира. По ряду причин стороны не пришли к соглашению. — 342.
483 Северная война (1700—1721) была завершена серией мирных договоров: Стокгольмский договор от 9 ноября 1719 г. между Швецией и Англией (Ганновером), Стокгольмский договор от 21 января 1720 г. между Швецией и Пруссией, договор между Швецией и Данией от 3 июля 1720 г. и Ништадтский договор между Россией и Швецией от 10 сентября (30 августа) 1721 г. — 342.
484 Четверной союз 1718 г. — союз Франции, Англии, к которым затем присоединилась и Австрия, направленный на поддержку условий Утрехтского мира (см. примечание 390) против притязаний Испании. Предполагалось, что в союз вступит и Голландия, поэтому он назывался Четверным. Непризнание Испанией, внешней политикой которой в это время руководил Альберони, требований Четверного союза, привело к войне, которая закончилась поражением Испании. — 343.
485 Речь идет о Ганноверском союзе (см. примечание 320). — 343.
486 у и. Сабо ошибка: сражение было выиграно французской армией под командованием маршала Л. Ш. д'Эстре; маршал Л. Ф. Ришелье стал командующим этой армией в 1758 г, — 346,
648
ПРИМЕЧАНИЯ
487
Речь идет о
сражении при Лейтене (Лютыня) в Силезии 5 декабря
1757 г., в котором Фридрих
II
разбил австрийцев и обеспечил захват
Силезии Пруссией. — 346.
488
Намек на то, что
одной из главных причин Семилетней войны было
соперничество Англии и Франции из-за колоний. — 346.
489
Намек на принцип либерум
вето — право любого члена сейма своим
протестом аннулировать решение сейма;
применялось с 1652 г. и спо
собствовало усилению феодальной анархии в Польше. — 347.
480 Акт о гербовом сборе с коммерческой и судебной документации, с периодических изданий и т. д. в Северной Америке был одобрен английским парламентом 22 марта 1765 г. — 348.
481 Картофельная война — ироническое название войны за баварское наследство (1778—1779) между Пруссией и Саксонией, с одной стороны, и Австрией — с другой. — 348.
482 в связи с проблемой использования Зупда в 1778 г. были выдвинуты пять принципов международного права, которые были положены в основу провозглашенного в 1780 г. «вооруженного нейтралитета», к которому присоединились Дания, Россия, Швеция, Пруссия и который был направлен против Англии. — 349.
493 В июне — июле 1790 г. в силезском городе Реихенбахе (Дзержонюв) состоялась конференция представителей Австрии, Пруссии, Польши, Англии и Голландии. Обеспокоенные успехами русского оружия в русско-турецкой войне (1787—1791), участники конгресса обязали Австрию заключить мирный договор с Турцией (см. примечание 495). — 349.
4»4 Верелъский мирный договор, завершивший русско-шведскую войну 1788—1790 гг., был подписан 14 августа 1790 г. Россия признавала новую шведскую конституцию, за ней же признавалось нраво на территории, приобретенные но Ништадтскому и Абоскому договорам (см. настоящий том, стр. 342, 345). — 349.
4*5 Систовский мирный договор, завершивший австро-турецкую войну 1788—1790 гг., подписан 4 августа 1791 г. в Систове (Болгария) на условии сохранения statut quo ante bellum (положения, существовавшего до войны). Австрия получила лишь Старую Оршовубез права строить там военные укрепления. — 349.
4»в Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787— 1791 гг., был подписан 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.). Подтверждал присоединение Крыма к России, устанавливал границы между Россией и Турцией по Днестру, укреплял положение России в Причерноморье и способствовал освоению южных степей. — 349.
497 Далее следует конспект второго тома книги: « The State Policy of Mo dern Europe ...»; в конспекте Маркс дополнительно помечает главы второго тома буквой «а»; 1а, На и Xi fl, — 349,
ПРИМЕЧАНИЯ
649
49S По сепаратному Базельскому миру между Францией и Испанией (22 июля 1795 г.) Франции отходила испанская (восточная) часть острова Гаити. Его западная часть, называвшаяся в 1697—1803 гг. Сан-Доминго, принадлежала Франции ранее по условиям Рисвикского мирного договора 1697 г. (см. примечание 388). В XIX в. весь остров Гаити иногда называли островом Сан-Доминго. — 350.
499 Речь идет о договоре между Францией и Батавской республикой, возникшей на территории Нидерландского королевства в результате вступления в страну французских республиканских войск и восстания местного населения против реакционного режима штатгальтера Вильгельма V (январь — март 1795 г.). Договор, подписанный в мае 1795 г., предусматривал передачу части территории республики Франции. В 1806 г. Наполеон I преобразовал Батавскую республику в Голландское королевство. — 350.
500 Речь идет о переговорах представителей Франции, Австрии, Пруссии и ряда других немецких государств об урегулировании территориальных вопросов «Священной Римской империи», которые проходили в Раштатте с 9 декабря 1797 г. В марте 1798 г. имперская депутация одобрила переход левого берега Рейна к Франции (по-видимому, эту дату и отмечает Маркс), а 23 апреля 1799 г. в связи с началом войны второй коалиции против Франции работа конгресса была прекращена. — 350.
501 П артенопейская республика была провозглашена на территории Королевства обеих Сицилии 22 января 1799 г. неаполитанскими республиканцами, опиравшимися на войска французской Директории. Существовала до 23 июня 1799 г., когда с помощью англичан была восстановлена власть Бурбонов (Фердинанд IV ). — 351.
502 Речь идет о Союзном собрании (сейме), который состоял из представителей немецких земель, образовавших 8 июня 1815 г. на Венском конгрессе Германский союз в составе 39 государств. Союзный сейм не имел своей армии, денежных средств, а его решения фактически были необязательны для членов Германского союза. — 353.
503 Вартбургскоепразднество было организовано по инициативе студентов Иенского университета 18 октября 1817 г. в связи с 300-летием Реформации и годовщиной Лейпцигской битвы 1813 г. Празднество вылилось в демонстрацию оппозиционных настроений студенчества против меттерниховского режима.
Буршеншафтм — немецкие студенческие организации, возникшие под влиянием освободительной войны против Наполеона; выступали за объединение Германии. Наряду с прогрессивными идеями в бур-шеншафтах были широко распространены идеи крайнего национализма. — 353.
504
Маркс имеет в
виду Кадисскую конституцию, принятую испанскими
кортесами в Кадисе 18 марта 1812 г. во время испанской революции
1808—1814 гг. и предусматривавшую преобразование ряда инсти
тутов абсолютистской Испании в буржуазно-демократическом духе.
Конституция была отменена Фердинандом
VII
4 мая 1814 г. Вторично
конституция была провозглашена Риего в ходе испанской революции
1820—1823 гг. и вновь отменена присягнувшим ей ранее Фердинан-
650
ПРИМЕЧАНИЯ
дом VII 1 октября 1823 г. В третий раз конституция действовала с 12 августа 1836 до 18 июня 1837 г. — 353.
505 Речь идет о центральной следственной комиссии в Майнце, созданной на конференции министров Австрии, Пруссии, Баварии, Саксонии и других государств — члевов Германского союза (см. примечание 502) 31 августа 1819 г. для борьбы с оппозиционными либеральными и революционными настроениями в Германии. — 354.
50в Речь идет о раннем этапе карбоиарского движения в XIX в., когда карбонарии возглавили антифранцузское движение в Неаполитанском королевстве (против Мюрата) и оказали содействие Фердинанду I и его сыну Франциску I в возвращении им престола Королевства обеих Сицилии. В источнике, который конспектирует Маркс, Франциск ошибочно назван императором. — 354.
507 Речь идет о Кадисской конституции (см. примечание 504). — 354.
508 Барбара Крюденер, получившая ко времени Венского конгресса довольно широкую популярность в придворных кругах как прорицательница и проповедница мистических настроении, называла Александра I «белым ангелом Севера», а Наполеона I «черным ангелом Юга». — 354.
50» Улеми (улама) — высшее сословие богословов и закоповодов в мусульманских странах. — 354.
510 «Гетерия» — речь идет о тайной организации «Филипп Этерия», созданной в 1814 г. в Одессе и в 1818 г. перенесшей свой центр в Константинополь. Организация, вскоре приобретшая общенациональный характер, подготовила национально-освободительное восстание в Греции, после начала которого (1821) была распущена. —354.
ей Намек на то обстоятельство, что до перехода на русскую дипломатическую службу в 1809 г. И. Каподистрия занимал ряд должностей в правительстве «Республики семи соединенных островов», созданной на Ионических островах в соответствии с русско-т-урецкой конвен цией 1800 г. - 35/.
512 В феврале 1833 г. русская эскадра вошла в Босфор, а затем в апреле в местечке Ункяр-Искелеси был высажен русский десант с целью защиты Константинополя от наступавшей египетской армии. 8 июля (26 июня) в Константинополе был подписан Ункяр-Искелесийский договор о союзе между Россией и Турцией. По секретной статье договора Турция обязывалась в случае войны закрывать проливы для прохода всех иностранных военных кораблей. Заключение Умкяр-Искелесийского договора вызвало обострение отношений между Россией и западными державами, что привело к его отмене в 1840—1841 годах. — 355.
518 Речь идет о программе умеренно-либеральных буржуазных реформ (создание комиссии по вопросам административного переустройства папской области, частичная политическая амнистия и т. д.), провозглашенной Пием IX в начале его понтификата, — 356.
ПРИМЕЧАНИЯ
651
51* Далее Маркс делает выписки не по тексту книги, а по хронологической таблице, приложенной в конце второго тома (« State Policy...», v . II, p . 389-391). — 356.
515 Заметка «Немецкий отчет о смотре в Ньютоне» была написана Энгельсом в качестве вводного замечания к своей собственной статье «Смотр английских стрелков-волонтеров», впервые опубликованной в «Allgemeine Militär-Zeitung» 8 сентября 1860 г. (см. настоящее издание, т. 15, стр. 140—147). Заметка вместе с текстом статьи из «Militär-Zeitung» была разослана Энгельсом ряду английских газет; в наиболее полном виде «Немецкий отчет о смотре в Ньютоне» был опубликован в « The Volunteer Journal, for Lancashire and Cheshire » № 2, 14 сентября 1860 г. — 357.
516 Далее в журнале приводится текст статьи Энгельса «Смотр английских стрелков-волонтеров». — 357.
•г>17 Статья К. Маркса «К вопросу об амнистии» была составлена им на основании материалов, присланных ему В. Вольфом из Манчестера в письме от 10—12 сентября 1862 г. Она разоблачала демагогический характер прусской амнистии политическим эмигрантам (см. примечание 518) и получила в Германии довольно широкое распространение. Статья была опубликована в «Barmer Zeitung», а затем перепечатана в «Niederrheinische Volks-Zeitung» и в «Märkische Volks-Zeitung». По поводу этой публикации Энгельс писал Марксу 16 октября 1862 г.: «Случай — в высшей степени забавный. Бедные изолгавшиеся пруссаки, которые срамятся при каждом своем литературном выступлении!» (настоящее издание, т. 30, стр. 236). — 358.
518 12 января 1861 г. в связи с восшествием на престол прусского короля Вильгельма I был издан указ об амнистии, гарантирующей всем политическим эмигрантам «беспрепятственное возвращение в земли Прусского государства». — 358, 370.
51В Две статьи Ф. Энгельса «Заметки об артиллерии в Америке» предназначались для публикации в газете «Allgemeine Militär-Zeitung». Они были написаны Энгельсом в конце сентября 1863 г. в связи с возможностью войны Германии против Дании (см. примечание 523), когда вопрос о путях объединения Германии приобрел особую актуальность. Рукопись, оставшаяся неопубликованной при жизни Энгельса, состоит из двух частей. Начало каждой из них помечено инициалами Энгельса (Ф. Э.), опущенными в данной публикации. — 360.
520 Энгельс имеет в виду бой 9 марта 1862 г. между бронированным судном южан «Мэрримаком» и броненосцем северян «Монитором», артиллерия которого располагалась в центральной части судна в бронированной вращающейся башне. После 4-часового боя «Монитор» обратил в бегство своего соперника (см. настоящее издание, т. 15, стр. 526).— 360.
521 По-видимому, Энгельс имеет в виду редакционное замечание к статье «Der Angriff auf Charleston am 7. April 1863» в № 20 «Allgemeine Militär-Zeitung» за 16 мая 1863 г.; сообщение о сражении между «Монитором» и «Мэрримаком» содержалось также в обзоре «Verlauf und Bedeutung des dießjährigen Feldzugs in Nordamerika» («Allgemeine Militär-Zeitung» № 41, ll.X 1862). — 360.
i/42 1 M. и Э., T 44
652
ПРИМЕЧАНИЯ
522 реЧь идет о сражении, имевшем место 17 июня 1863 г. — 360.
523 Энгельс упоминает о возможности войны с Данией в связи с обострением во второй половине 1863 г. отношений между Данией и Германским союзом из-за немецких герцогств Шлезвига и Гольштейна. Во время революции 1848 г. в Шлезвиге и Голыптейне развернулось национально-освободительное движение против Дании, которое закончилось поражением революционных сил. Согласно Лондонскому протоколу 8 мая 1852 г. о целостности Датской монархии герцогство Голыптейн оставалось в Германском союзе и входило в то же время в состав Дании; герцогство Шлезвиг входило в состав Датского королевства, сохраняя некоторые особые права. Вплоть до смерти датского короля Фредерика VII 15 ноября 1863 г. господствующие классы Дании не прекращали попыток полностью подчинить себе оба герцогства, что способствовало усилению антидатских настроений в герцогствах и самой Германии. — 363.
524 По-видимому, речь идет о правах, полученных Германией по договору, который был заключен в Тяньцзине 2 сентября 1861 г. и ратифицирован в Шанхае 14 января 1863 г. Он предоставлял немецким подданным те же привилегии, которыми пользовались англичане и французы по пекинским договорам 1860 г. Эти договора, навязанные Англией и Францией Китаю после его поражения в англо-франко-китайской войне 1856—1860 гг. (см. примечание 341), явились важным этапом в превращении Китая в полуколониальную страну. Немецкие фирмы вели в это время торговлю в Гонконге и других открытых портах Китая. — 363.
525 О фортификационной системе Монталамбера Энгельс подробнее писал в статье «Фортификация» для «New American Cyclopaedia » (см. настоящее издание, т. 14, стр. 343—347). — 364.
528 Бомбардировка форта Пьюласки генералом Джильмором имела место 10—11 апреля 1862 г. По-видимому, Энгельс, как он сам пишет ниже, располагал недостоверной информацией: в сражении за форт Пьюласки Джильмор пользовался не гладкоствольными, а нарезными орудиями. — 365.
527 Первая попытка бомбардировки и обстрела форта Вагнер, расположенного на острове и прикрывавшего подступ к форту Самтер, была предпринята 10 июля 1863 г.; 18 июля началась регулярная бомбардировка и осада форта. В ночь с 6 на 7 сентября войска конфедератов покинули форт. План Чарлстона опубликован в качестве приложения к № 20 «Allgemeine Militär-Zeitung» от 16 мая 1863 г. — 365.
528 Попытка захвата форта Самтер после бомбардировки, описанной Энгельсом, была предпринята федеральными войсками под командованием Далгрена 8 сентября 1863 г. Неудача десанта вынудила командование северян отказаться от попыток взять Чарлстон с моря. — 366.
52» На русском языке текст «Траурного извещения» был впервые опубликован в примечании 704 к тому 30 настоящего издания. — 368.
530 «Биографические заметки о Вильгельме Вольфе» составлены Марксом в конце мая — начале июня 1864 г., после смерти его верного
ПРИМЕЧАНИЯ
653
друга и соратника, последовавшей 9 мая 1864 г. в Манчестере. Маркс намеревался написать подробную биографию Вольфа и с этой целью собирал материал о его жизни. Однако намерение это осталось неосуществленным. Лишь в 1876 г. Энгельсу частично удалось реализовать замысел Маркса (см. настоящее издание, т. 19, стр. 55—97). «Биографические заметки» опубликованы в примечании 458 к тому 30 настоящего издания. — 369.
531 Прусская тюрьма в Силезии, в которую В. Вольф был заключен за участие в студенческой корпорации и за «преступления против Его Величества прусского короля». Прозвище «Казематный» Вольф получил за свою статью «Die Kasematten» о трущобах Бреславля, опубликованную в «Breslauer Zeitung» № 271, 18 ноября 1843 г. — 369.
532 Речь идет о корреспондентском бюро, созданном в Брюсселе немецким демократом-публицистом, впоследствии членом Союза коммунистов, Себастьяном Зейлером. Бюро снабжало немецкие демократические газеты информацией из Франции, Англии, Бельгии. — 369.
533 в связи с введением в Кёльне осадного положения 26 сентября 1848 г. был приостановлен выход «Neue Rheinische Zeitung», а ряду редакторов (Энгельсу, Вольфу, Бюргерсу и др.) было предъявлено обвинение в заговоре. Вольф скрывался от ареста в Дюркгейме (Пфальц), но вскоре вернулся нелегально в Кёльн и продолжал участвовать в редактировании газеты. — 369.
534 26 мая 1849 г. во франкфуртском Национальном собрании, куда В. Вольф был избран от Силезии в 1848 г., он потребовал объявить вне закона имперского регента эрцгерцога Иоганна и его министров как главных предателей народа (см. настоящее издание, т. 19, стр. 92 — 93). — 369.
535 Предложенные Марксом резолюции, касавшиеся конститунрования руководящего органа Международного Товарищества Рабочих, являлись дополнением и конкретизацией общих принципов, кратко сформулированных в пунктах 4, 5 и 6 Временного Устава (см. настоящее издание, т. 16, стр. 13—14). — 371.
536 Данная резолюция печатается ио тексту, опубликованному в лондонской рабочей газете « Bee - Hive Newspaper » 12 ноября 1864 г. В протокольной книге Генерального Совета Первого Интернационала она сохранилась в более краткой записи. Этой резолюцией исключалось весьма распространенное в то время почетное членство, посредством которого представителям господствующих "классов удавалось проникать в руководство рабочих организаций. — 371.
537 Данная резолюция вепосредственно примыкает к принятой 22 ноября 1864 г. резолюции об условиях приема рабочих организаций в Международное Товарищество (см. настоящее издание, т. 16, стр. 16). По пункту 8 Временного Устава на Генеральный Совет помимо руководства всей организацией в целом были возложены особые функции по вовлечению в Интернационал английских рабочих обществ. Проведению в жизнь этого пункта Маркс уделял большое внимание. — 373.
538 Подкомитетом, Постоянным комитетом или просто Комитетом называли более узкий исполнительный орган, состоявший из должностных
V « 21*
654
ПРИМЕЧАНИЯ
лиц Генерального Совета и собиравшийся обычно по субботам для подготовки очередного заседания Совета. Фактическое руководство Подкомитетом осуществлял Маркс, входивший в его состав в качестве секретаря-корреспондента для Германии. — 373, 385, 403.
539 Данные заметки являются подготовительным материалом к выступлению Маркса на заседании Постоянного комитета 4 и 5 марта 1865 г. при обсуждении конфликта, возникшего между основателями парижской секции, рабочими-прудонистами (Толен, Фрибур, Лимузен) и группой буржуазных республиканцев, представленной адвокатом А. Лефором. Принятую Постоянным комитетом по предложению Маркса резолюцию см. настоящее издание, т. 16, стр. 81.
Заметки, сохранившиеся в Записной книжке Маркса, сделаны на основании подробного письма от 25—28 февраля 1865 г., присланного Марксу из Парижа немецким »мигрантом коммунистом В. Шили, который действовал как уполномоченный Генерального Совета. — 374.
54« Здесь у Маркса описка: вместо «23 февраля» стоит «24 февраля». В связи с этим и события 24 февраля, в частности вечернее собрание, ошибочно отнесены к 25 февраля. Судя по восклицательному знаку, эта дата вызвала недоумение и у самого автора заметок. — 374.
541 12 марта 1865 г. Юнг, которому было поручено составить краткий анализ конфликта в парижской секции для информации членов Интернационала во Франции, сообщил об этом Марксу и попросил помочь ему. 13 марта Маркс ответил согласием и 18 марта передал Юнгу свои ааметки. В результате дальнейшего обсуждения появилась заключительная запись (начиная со слов: «Никакой резолюции»), сделанная частично рукой Маркса, частично — рукой Юнга. — 375.
542 Протест против назначения Шили уполномоченным Генерального Совета в Париже исходил от представителей французской буржуазно-демократической эмиграции, членов одной из масонских лож в Лондоне, и был оглашен на заседании Генерального Совета 14 марта 1865 г. — 375.
548 Авторство Маркса для данной аннотации на работу Энгельса «Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия» (настоящее издание, т. 16, стр. 35—78) устанавливается на основании его письма Энгельсу от 18 марта 1865 г. (там же, т. 31, стр. 86—87).
На русском языке эта заметка впервые была опубликована в «Научно-информационном бюллетене сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса», 1973, № 25. — 378.
544 Конституционный конфликт возник в Пруссии в феврале 1860 г. в связи с отказом буржуазного большинства нижней палаты прусского ландтага утвердить проект реорганизации армии, предложенный военным министром Рооном. Вплоть до 1866 г. прусское правительство, не считаясь с ландтагом, проводило военную реформу и расходовало на нее средства без его утверждения. Конфликт разрешился в 1866 г. после победы Пруссии над Австрией, когда прусская буржуазия полностью капитулировала перед Бисмарком, главным инициатором милитаристской политики прусского кабинета. — 378.
5*5 Прогрессистская партия, прогрессисты — буржуазная партия, возникшая в Пруссии в июне 1861 г. Требовала объединения Германии под
ПРИМЕЧАНИЯ
655
главенством Пруссии, созыва общегерманского парламента, создания сильного либерального министерства, ответственного перед палатой депутатов. Из страха перед рабочим классом и ненависти к социалистическому движению Прогрессистская партия мирилась с господством прусского юнкерства в условиях полуабсолютпстской Германии. — 378.
546 Данные заметки, сохранившиеся в Записной книжке Маркса, являются первоначальным наброском резолюций по прочитанному им 20 и 27 июня 1865 г. в Генеральном Совете докладу «Заработная плата, цена и прибыль»; окончательный текст резолюций см. настоящее издание, т. 16, стр. 155. — 379.
547 Данную резолюцию Маркс внес на заседании Генерального Совета 23 января 1866 г., после того как присоединился к предложению Дж. Уэстона приступить к обсуждению повестки дня Женевского конгресса Интернационала. Резолюция была принята единогласно. — 381.
548 Вовлечение в Интернационал представителей зарождавшегося итальянского рабочего движения должно было, по мнению Маркса, ускорить процесс высвобождения итальянских рабочих из-под влияния мадзинистов. На Женевском конгрессе 1866 г. итальянские рабочие общества представлены не были. — 382.
549 Последним, 12-м пунктом программы Женевского конгресса, опубликованной в газетах «Courrier français» 24 июня и «Rive gauche» 8 июля 1866 г., стоял вопрос о создании обществ взаимопомощи и о материальной и моральной помощи сиротам членов Товарищества. В «Инструкции делегатам Временного Центрального совета по отдельным вопросам», составленной Марксом, это предложение вошло в пункт 1 (см. настоящее издание, т. 16, стр. 194). — 383.
550 Данная схема является одним из первых предложенных Марксом вариантов схемы для статистического обследования положения рабочего класса. Она вошла с некоторыми редакционными изменениями в «Инструкцию делегатам Временного Центрального совета по отдельным вопросам» (см. настоящее издание, т. 16, стр. 195—196). — 383.
551 На Женевском конгрессе Первого Интернационала (3—8 сентября 1866 г.) при утверждении Устава французские прудонисты пытались провести ту точку зрения, что не только на руководящие посты в рабочих организациях, но и в число их членов должны допускаться только рабочие. Выдвижение английским членом Совета Мэтью Лоренсом кандидатуры Маркса на пост председателя Совета явилось своего рода демонстрацией против этой позиции. Однако Маркс отвел свою кандидатуру. — 385.
552 Данная резолюция печатается по тексту, опубликованному в газете « Bee - Hive» № 311, 28 сентября 1867 г. Предложение было внесено на заседании 24 сентября членом Совета Дж. Хейлзом по инициативе Маркса (см. настоящее издание, т. 31, стр. 300). Базельский конгресс (сентябрь 1869 г.) в особой резолюции, которая в 1871 г. была включена в Устав, предложил всем секциям упразднить у себя пост постоянного председателя. — 385.
22 M. a Э., т. 44
656
ПРИМЕЧАНИЯ
553 Настоящая резолюция была внесена Марксом в связи с тем, что правление парижской секции Интернационала независимо от Генерального Совета выдвинуло для предстоявшего в Лозанне конгресса Товарищества свою программу, проникнутую прудонистским духом, и опубликовало ее 20 июля 1867 г. в газете «Courrier français». — 386.
554 Данная заметка Маркса, составленная на основании информации И. Б. Швейцера (см. настоящее издание, т. 32, стр. 65, 67), вошла в состав газетного отчета о заседании Генерального Совета 12 мая 1868 г. (« Bee- Hive » № 344, 16 мая 1868 г.); в протокольной книге этот материал не нашел отражения. — 387.
555 Отобранные Марксом для включения в публикацию резолюций Брюссельского конгресса 1868 г. решения Женевского конгресса касались роли Интернационала в экономической борьбе пролетариата, 8-часо-иого рабочего дня, охраны труда детей и женщин, организации кооперативного производства и задач профессиональных союзов (пункты 2, 3, 4, 5 и 6 «Инструкции делегатам Временного Центрального совета по отдельным вопросам» — см. настоящее издание, т. 16, стр. 194— 203). — 388.
55« Основанное М. Бакуниным осенью 1868 г. общество Международный альянс социалистической демократии обратилось в декабре 1868 г. в Генеральный Совет с заявлением о присоединении к Интернационалу. После обсуждения программы Альянса 15 декабря 1868 г. Генеральный Совет, основываясь на мнении Маркса о том, что принятие в Товарищество другого международного общества противоречит Уставу, поручил ему составить ответ (см. настоящее издание, т. 16, стр. 353— 355).
Замечания на программу и устав Международного альянса социалистической демократии внесены Марксом на поля экземпляра французского издания этого документа; рукой Юнга на полях записаны фамилии Дюпона и Жоаннара, ознакомившихся с документом и выступивших на его обсуждении. — 389.
857 Генеральный Совет 15 декабря 1868 г. по предложению Маркса поручил ему помочь Юнгу в составлении краткого отчета о деятельности- Совета, в результате чего появилось данное сообщение, содержащее материалы нескольких последних заседаний. Приведенная в нем резолюция Маркса и Апплгарта об отношении Интернационала к свободе торговли в протокольной книге отсутствует. — 394.
558 Настоящий документ представляет собой доклад Постоянного комитета, утвержденный Генеральным Советом на заседании 8 марта 1870 г. Вопрос обсуждался Постоянным комитетом 19 февраля (см. настоящее издание, т. 32, стр. 368) и 5 марта 1870 г. — 396.
559 Данное письмо является ответом на обращение комитета Интернационального общества рабочих-металлистов в Ганновере к Марксу 12 января 1870 г. с просьбой помочь в установлении связей с английскими тред-юнионами. Переговоры были поручены делегации Генерального Совета во главе с Юнгом, который доложил 12 апреля о состоявшейся 7 апреля встрече с советом лондонского Объединенного общества механиков; совет выразил готовность установить связь с ме-
ПРИМЕЧАНИЯ
657
ханиками Германии и Франции и предложил специальную анкету с перечнем вопросов, интересующих английских рабочих. Воспроизведенная в данном письме Маркса анкета редакционно несколько отличается от английского текста, сохранившегося в письме Юнга Марксу от 13 апреля 1870 г. (см. «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868—1870», стр. 162). — 398.
560 Данный документ представляет собой сделанную Энгельсом запись беседы его и Маркса с английским демократом журналистом Робертом Ридом, которая состоялась 1 июля 1871 года. Рид обратился 30 июня к Марксу с предложением использовать для защиты коммунаров те материалы, которые он смог собрать, находясь в Париже во время Коммуны в качестве корреспондента лондонской либеральной газеты « Daily Telegraph». — 399.
561 12 апреля 1871 г. Федеральный совет парижских секций Интернационала вынес решение об исключении А. Толена как предателя рабочего класса, перешедшего на сторону версальцев. 25 апреля 1871 г. Генеральный Совет подтвердил это решение особой резолюцией, которую опубликовала только рабочая печать (см. настоящий том, стр. 537). —400.
562 Сохранившиеся в рукописном наследстве Маркса выписки из протокольных книг Генерального Совета за 1869—1871 гг., сделанные им и частично Энгельсом на двух листах большого формата в период подготовки Лондонской конференции Интернационала, доведены до 5 сентября 1871 г. К ним примыкают выписки из протоколов за июнь 1870 — апрель 1872 г. на одном листе, сделанные Марксом годом позже, в конце августа 1872 г., накануне Гаагского конгресса Интернационала (см. «Гаагский конгресс Первого Интернационала. 2—7 сентября 1872 г. Протоколы и документы», стр. 580—581). На обеих рукописях имеются пометки и отчеркивания, свидетельствующие об использовании их Марксом и Энгельсом в ходе работы над документами Интернационала. — 401, 462.
563 В протоколе заседания Генерального Совета 17 октября 1871 г. приведена только тема данного выступления (см. «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1870—1871», стр. 232). Авторскую запись Энгельс, как и в ряде других случаев, передал секретарю Совета для опубликования в « Eastern Post » (см. «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871—1872», стр. 80). Рукопись Энгельса не сохранилась. — 415.
564 В протоколе заседания Генерального Совета 7 ноября 1871 г. выступление Энгельса отражено следующей записью: «Гражданин Энгельс докладывает, что он располагает большим количеством информации от секций в Италии, которую он хотел бы передать секретарю для еженедельного отчета в « Eastern Post ». Письмо Гарибальди, в котором он в конце концов порывает с Мадзини, оказало большое влияние в Италии, и как только оно будет получено, то будет включено в отчет» («Генеральный Совет Первого Интернационала, 1871—1872», стр. 11). Рукопись Энгельса не сохранилась. — 418.
565 Имеются в виду статьи Мадзини в газете « Roma del Popolo» № 20, 28, 29 и 30—31 от 13 июля, 7, 14 и 21—22 сентября 1871 г. — 418.
22*
658
ПРИМЕЧАНИЯ
566 Очередной XII съезд итальянских рабочих обществ, по преимуществу организаций взаимопомощи, находившихся в основном под влиянием Мадзини, состоялся в Риме 1—6 ноября 1871 г. — 420, 421.
567 Имеются в виду выступления Бебеля в рейхстаге 30 октября и 8 ноября 1871 г. — 424.
568 Заявление предназначалось для использования при защите членов правления германской Социал-демократической рабочей (Эйзенахской) партии В. Бракке и других на процессе, слушавшемся в Брауншвей-ге 23—25 ноября 1871 г. Обвиняемые, арестованные в сентябре 1870 г. в связи с интернационалистской позицией, занятой партией в ходе франко-прусской войны, обвинялись в «покушении на общественный порядок». Как отмечал Маркс, «основной пункт обвинения — принадлежность к Интернационалу» (настоящее издание, т. 33, стр. 265). Между том, учитывая законодательство о рабочих союзах, действующее в германских государствах, СДРП на своем учредительном съезде в Эйзенахе в 1869 г. высказалась за платформу Интернационала, но формально не вступила в него; что касается индивидуального членства в иностранных (научных и других) обществах, то немецким подданным оно законом не запрещалось. — 425.
569 в соответствии с организационной структурой Эйзенахской партии местопребывание центрального правления назначалось поочередно в одном из крупных городов страны на ежегодном съезде партии; состав правления избирался из числа членов местной организации. Первым местопребыванием правления был назначен город Брауншвейг. Ко времени составления Марксом данного документа новый состав правления находился с августа 1871 г. в Гамбурге. — 425.
570 Данное сообщение Энгельса, по-видимому, сделанное на заседании Генерального Совета 5 декабря 1871 г. и переданное в письменном виде для опубликования, не нашло отражения в протокольной книге. В основу сообщения положен отчет датского Федерального совета Интернационала и материал из статей Л. Пио в газете «Socialis te». — 427.
571 Данная рукопись Маркса представляет собой выписки, сделанные в конце февраля — конце мая 1872 г. из отчетов и писем руководителей секций Интернационала в США и из американской печати относительно раскола в Североамериканской федерации. Выписки были использованы Марксом при составлении резолюций Генерального Совета о расколе в Федерации Соединенных Штатов и Энгельсом для статьи «Интернационал в Америке» (см. настоящее издание, т. 18, стр. 47-49, 91-97). - 429.
572 Проект Общего Устава и Организационного регламента, пересмотренных Генеральным Советом по предложению Маркса в июне — августе 1872 г., предполагалось представить на утверждение Гаагского конгресса Интернационала (2—7 сентября 1872 г.). Недостаток времени и общая обстановка на конгрессе заставили Маркса, Энгельса и их соратников ограничиться проведением лишь нескольких наиболее важных пунктов: в Устав была включена статья 7-а о политическом действии рабочего класса, а в Регламенте изменен ряд формулировок с целью укрепления дисциплины и организационного централизма. Оригинал представляет собой экземпляр официального французского
ПРИМЕЧАНИЯ 659
издания Общего Устава 1871 г., на который принятые Генеральным Советом изменения и исправления нанесены рукой П. Лафарга в соответствии с черновым экземпляром, подготовленным самим Марксом. — 437.
573 При обсуждении проекта Общего Устава на заседании Генерального Совета 9 июля 1872 г. член Генерального Совета английский социалист Мальтман Барри предложил опустить слова «в которых существует современное общество», якобы ограничивавшие круг деятельности Товарищества. Энгельс заявил в связи с этим, что «устранение упомянутых слов, как это предлагается, превратило бы Товарищество в филантропическое общество, вроде тех, которые учреждаются буржуазией. Современное общество — это такое общество, в котором правит капитал, а рабочие используются лишь в качестве орудий. Нелепо воображать, что рабов Кубы или Бразилии, или население Китая и Индии можно было бы сразу превратить в организованных рабочих. Прежде чем они будут освобождены, они должны предварительно стать свободными рабочими. Выбросить слова «современное общество» значило бы лишить эту формулировку самой сути» («Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871—1872», стр. 189). — 437.
574 В прежнем тексте Устава это место было сформулировано следующим образом: «чтобы служить центром сношений и сотрудничества между рабочими обществами, существующими в различных странах» (настоящее издание, т. 17, стр. 446). Это изменение было обосновано Марксом на заседании Генерального Совета 16 июля 1872 г. Запись в протоколе гласит: «По поводу статьи 1 Устава гражданин Маркс предлагает вычеркнуть слова «служить центром сношений» на том основании, что развитие Товарищества изменило условия, и заменить их словами «организовать общие действия рабочих разных стран». Он говорит, что изменение необходимо для предотвращения неправильных толкований» («Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871—1872», стр. 191). - 438.
575 М. Барри предложил вычеркнуть в данной формулировке слово «рабочий» как излишнее повторение. Ему возразил Маркс, сказав, что «это чисто редакционный вопрос, но, по его мнению, лучше было бы не менять текста, так как конгресс может расценить это как попытку со стороны Совета смазать рабочий характер конгресса» («Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871—1872», стр. 192). — 438.
57в Статья 8, представляющая собой более сжатую формулировку резолюции IX Лондонской конференции 1871 г., была утверждена Гаагским конгрессом и включена в Устав как статья 7-а. При обсуждении ее на заседании Генерального Совета 23 июня 1872 г. Энгельс и Маркс выступили в поддержку предложения о включении ее в Устав:
«Гражданин Энгельс поддерживает это предложение. Мотивы, которые заставили нас принять ее на конференции, остаются в силе и по сей день, и потому мы должны будем бороться за ее проведение на конгрессе.
Гражданин Маркс говорит, что имеются и другие соображения. У нас два рода противников: сторонники воздержания от политики, опи ополчились на эту резолюцию более, чем кто-либо, и рабочие Англии и Америки, которые позволяют буржуазии использовать себя в политических, целях. Мы должны положить этому конец, разо-
660
ПРИМЕЧАНИЯ
блачая это положение дел» («Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871—1872», стр. 196). — 441.
577 Это добавление к статье 9 было внесено по предложению Маркса, который исходил из опыта североамериканских секций, успешно применивших этот принцип в борьбе против буржуазно-реформистских элементов. — 442.
578 Имеется в виду опубликованный в « Bulletin de la Fédération jurassienne» № 10-11, 15 июня 1872 г. ответ М. Бакунина на составленный К. Марксом и Ф. Энгельсом негласный циркуляр Генерального Совета «Мнимые расколы в Интернационале» (см. настоящее издание, т. 18, стр. 5—46). — 450.
579 Опубликованный за подписью Г. Юнга «Ответ Генерального Совета на протест Юрской федерации против созыва конгресса в Гааге» был составлен Марксом, который изложил его содержание на заседании Генерального Совета 27 июля 1872 г. В протокольной книге сохранилась следующая запись: «Маркс говорит, что в Швейцарии уже провели три конгресса, Голландия была предложена бельгийцами еще в 1870 году; Голландия является центральным пунктом для Англии, Бельгии, Германии и Северной Франции, и нет надобности пересматривать первоначальное решение Совета. (Принимается.)» («Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871—1872», стр. 239). — 451.
580 Данная заметка, опубликованная в «Volksstaat» 21 августа 1872 г., совпадает по содержанию с составленным Энгельсом в те же дни «Обращением Генерального Совета к итальянским секциям Международного Товарищества Рабочих по поводу конференции в Римини» (см. настоящее издание, т. 18, стр. 120). — 453.
581 Первая часть данной статьи, от 25 августа 1872 г., явилась ответом на клеветнические нападки бакунистов, пытавшихся в № 14 «Bulletin de la Fédération jurassienne» от 1 августа 1872 г. объяснить идейную борьбу в Интернационале «диктаторскими» притязаниями немецких коммунистов. В отличие от статей, присылаемых из Гааги в «Neue Freie Presse» австрийским делегатом журналистом Л. Обервиндером и печатавшихся за подписью «g», статья Маркса помещена без подписи. На русском языке впервые опубликована в книге «Гаагский конгресс Первого Интернационала. 2—7 сентября 1872 г. Отчеты и письма». М., 1972. — 454.
582 Состоявшийся в Ноттингеме 21 июля 1872 г. съезд британских секций Интернационала привял единогласно резолюцию, в которой заявлял о необходимости создать независимую рабочую партию, основанную на принципах Интернационала. — 456, 574.
588 Речь идет об официальном расследовании причин восстания 18 марта и установления Парижской Коммуны, проведенном комиссией версальского Национального собрания («Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars», t. I — III . Versailles, 1872). — 458.
584 Это высказывание принадлежит Энгельсу и сделано им в конце первой главы работы «К жилищному вопросу», впервые опубликованной
ПРИМЕЧАНИЯ 661
в «Volksstaat» № 53, 3 июля 1872 г. (см, настоящее издание, т. 18, стр. 227). Далее цитируется не вполне точно произведение И. Г. Фихте «Politische Fragmente aus den Jahren 1807 und 1813». — 459.
585 Имеется в виду демонстративный отъезд из Гааги делегатов конгресса — бланкистов, после того как было принято предложение Маркса и Энгельса о переводе Генерального Совета из Лондона в Нью-Йорк. — 459.
586 в материалах Гаагского конгресса текст данного заявления парижских делегатов не сохранился. Совпадая по существу с другими известными документами французских секций Интернационала, этот текст редакционно отличается от них. — 460.
587 Приведенный далее текст не совпадает ни с одним из выступлений немецких делегатов Гаагского конгресса, зафиксированных в официальных протоколах и различных дошедших до нас газетных отчетах о заседаниях. Такая форма, видимо, использована Марксом, чтобы дать более разностороннюю критику позиции федералистов. — 460.
588 Предложение о перенесении Генерального Совета в Нью-Йорк было внесено Марксом и Энгельсом на 10-м заседании Гаагского конгресса Первого Интернационала 6 сентября 1872 г. и на том же заседании принято 26 голосами против 23 при 9 воздержавшихся. Подробную мотивировку этого предложения см. настоящий том, стр. 472-— 473. — 466.
589 Данная статья написана Энгельсом по просьбе редакции «Volksstaat» после ареста А. Гепнера, писавшего для газеты отчеты о Гаагском конгрессе. Она очень близка по структуре и содержанию к статье «Конгресс в Гааге», посланной Энгельсом в газету «La Plèbe» 1 октября 1872 г. (см. настоящее издание, т. 18, стр. 159—164). При работе над статьей Энгельс не располагал еще официальным текстом резолюций Гаагского конгресса на французском языке, окончательно утвержденным редакционной комиссией 21 октября 1872 г. Этим объясняются отдельные незначительные разночтения между цитатами в данной статье и текстом резолюций, опубликованных в настоящем издании (см. там же, стр. 143—152). На русском языке впервые опубликована в книге «Гаагский конгресс Первого Интернационала. 2—7 сентября 1872 г. Отчеты и письма». М., 1972. — 467.
580 Здесь и ниже в оригинале употреблено слово «зондербунд», которое часто встречается в произведениях Маркса и Энгельса применительно к отколовшейся от Союза коммунистов в 1850 г. сектантско-авантю-ристской фракции Виллиха — Шаппера. О происхождении этого названия см. примечание 65. — 476.
591 Заметки Ф. Энгельса о рабочем движении в Европе и Америке примыкают к его же «Сообщениям о деятельности Интернационала на континенте», печатавшимся в январе — феврале 1873 г. в той же газете (см. настоящее издание, т. 18, стр. 306—309). В отличие от «Сообщений», которые помещались в газете вместе с отчетами о заседаниях Британского федерального совета Интернационала, «Заметки» печатались самостоятельно под рубрикой «Новости о заграничном рабочем движении» или «Новости о рабочем движении на континенте». Источником
662 ПРИМЕЧАНИЯ
для составления «Заметок» наряду с информацией, которую Энгельс черпал из обширной переписки с друзьями и соратниками, служила рабочая печать различных стран, в первую очередь лейпцигская газета «Volksstaat» и мадридская «Emancipacion». — 478.
5*2 Данное «Сообщение» помещено в отчете об очередном заседании Британского федерального совета, состоявшемся 8 мая 1873 г. — 488.
593 Намек на попытки, предпринятые после перевода Генерального Совета Интернационала из Лондона в Нью-Йорк (см. примечание 588) его бывшим секретарем Джоном Хейлзом, превратить отколовшееся от Британского федерального совета реформистское крыло в некий центр для всех выступивших против решений Гаагского конгресса федера ций. Притязания Хейлза на лидерство в международном рабочем движении но нашли поддержки иа континенте. — 488.
s** Данный документ был выдан Ф. Энгельсу швейцарскими властями в Лозанне в связи с его отъездом в Лондон, куда уже к этому времени приехал высланный из Парижа Маркс. В Швейцарии Энгельс оказался в связи с поражением восстания в Юго-Западной Германии (см. при мечание 74). Настаивая на переезде Энгельса в Лондон, Маркс писал ему 23 августа 1849 г.: «... этого требует твоя безопасность. Пруссаки тебя дважды расстреляли бы: 1) за Баден; 2) за Эльберфельд» (примечание 596) (настоящее издание, т. 27, стр. 135). Энгельс отправлялся в Англию кружным путем, через Италию и Испанию, так как французское правительство запретило ему проезд через свою территорию. — 491.
595 Публикуемая «Расписка» свидетельствует об одном из первых откликов на «Воззвание о помощи немецким политическим эмигрантам», составленное 20 сентября 1849 г. Социал-демократическим комитетом помощи немецким политическим эмигрантам (см. настоящее издание, т. 7, стр. 541—542).
О Социал-демократическом комитете помощи немецким эмигрантам см. примечание 94. — 493.
see Публикуемый материал представляет собой выдержки из «Обвинительного заключения по делу участников восстания в Эльберфельд о в мае 1849 года», одного из выступлений народных масс Германии в защиту имперской конституции (см. примечание 600). Выдержки касаются участия в этом восстании Ф. Энгельса, который прибыл в Эльберфельд с отрядом вооруженных рабочих из Золингена (см-, примечание 601). Эльберфельдский Комитет безопасности поручил Энгельсу руководить возведением оборонительных сооружений и пе редал в его распоряжение артиллерию. Решительные действия Энгельса и его стремление опереться на рабочих испугали мелкобуржуаз ных лидеров движения, и по требованию Комитета безопасности Эль-берфельда (см. примечание 597) Энгельс был вынужден покинуть город. На русском языке эти выдержки (кроме последних двух абзацев) впервые опубликованы в журнале «Вопросы истории», 1970, № 11. — 497.
w В Комитет безопасности Эльберфельда входили: член Союза коммуни стов Вильгельм Хюнербейв (портной по профессии), Иоганн Потман (рабочий-медник) и Юлиус Трост (рантье). — 497,
ПРИМЕЧАНИЯ
663
598 Имеется в виду военная комиссия при Комитете безопасности Эльбер-фельда. — 497.
599 Цвета, символизировавшие единство Германии. — 497.
600 Речь идет об имперской конституции, которая была принята франкфуртским Национальным собранием 27 марта 1849 г. Несмотря на свою ограниченность и уступки феодальной реакции, конституция являлась шагом вперед в деле объединения Германии и ее демократизации. Однако франкфуртское Собрание не располагало реальной властью для проведения ее в жизнь, а правительства наиболее крупных германских государств (Пруссии, Саксонии, Баварии, Ганновера и др.) отказались ее признать. В мае 1849 г. в защиту имперской конституции начались вооруженные выступления народных масс Германии (в Рейнской провинции, Саксонии, Бадене и Пфальце), во главе которых оказались мелкобуржуазные демократы, чья трусливая и рассчитанная на компромисс политика привела это революционное движение к поражению. — 497.
601 Речь идет о восстании в Золингене и его окрестностях в поддержку имперской конституции в начале мая 1849 г. Штурм цейхгауза в расположенном поблизости Грефрате позволил повстанцам, среди которых было много золингенских рабочих, запастись необходимым оружием. Городские власти были смещены, и их место занял Комитет безопасности. Восстание потерпело поражение из-за предательской политики буржуазии. — 498.
602 Отчет о митинге 5 апреля 1850 г. в честь годовщины со дня рождения М. Робеспьера, на котором присутствовал также и Маркс, был опубликован помимо «Die Hornisse» в майском номере « Democratic Review» за 1850 год. В этом отчете о выступлении Энгельса сказано следующее: «Немецкий изгнанник выступил в ответ и закончил блистательную речь здравицей в честь английских пролетариев».
«Братские демократы» — международное демократическое общество, основанное в Лондоне в 1845 г. представителями левого крыла чартизма (Гарни, Джонс) и революционными эмигрантами (члены Союза справедливых и др.). Маркс и Энгельс приняли участие в подготовке собрания демократов различных наций 22 сентября 1845 г., на котором фактически было основано это общество, а затем поддерживали с ним постоянный контакт. После поражения чартистов в 1848 г. общество значительно ослабило свою деятельность и в 1853 г. окончательно распалось. — 500.
воз Левеллеры — радикальная мелкобуржуазно-демократическая группировка в период английской буржуазной революции XVII века, оформилась в общенациональном масштабе в 1647 г. — 500.
604
Об эмигрантском
комитете (Социал-демократическом комитете помощи
немецким эмигрантам) см. примечание 94.
Публикуемый протокол, записанный рукой Энгельса, использован в составленном К. Марксом и Ф. Энгельсом «Заявлении эмигрантского комитета» от 20 апреля 1850 г. (см. настоящее издание, т. 7, стр. 318—320). — 501.
605
В сентябре 1850
г. во время пребывания в Англии палача итальян
ской и венгерской революций Гаинау рабочие пивоваренного завода
664
ПРИМЕЧАНИЯ
Барклей, Перкинс и К0 избили австрийского генерала, который бежал под защитой полицейских и тотчас же покинул Англию. Общество «Братские демократы» (см. примечание 602) для выражения поддержки и одобрения рабочим этого предприятия созвало 10 сентября 1850 г. митинг, на котором и выступил Энгельс. Помимо « Reynolds Weekly Newspaper», опубликовавшей самую полную запись выступления Энгельса, краткие сообщения о его речи были помещены также в « The Northern Star» № 673,14 сентября; в « The Times » № 20591, 11 сентября; « The Morning Chronicle » № 26139, 12 сентября 1850 года. Отчет о митинге был опубликован также в двух немецких газетах — « Die Deutsche Londoner Zeitung» № 285, 13 сентября и «Die Hornisse» № 218, 18 сентября 1850 года. — 504.
608 Приглашение принять участие в новогоднем банкете общества «Братские демократы» (см. примечание 602) Маркс и Энгельс получили от Гарни 29 декабря 1850 г. На банкете с обзором итогов деятельности общества за год и политического положения в Европе выступил Гарни. Энгельс, который к атому времени вместе с Марксом ужо не входил в Просветительное общество немецких рабочих в Лондоне (см. настоящее издание, т. 7, стр. 438), выступил на банкете от его имени, вероятно, по предварительной договоренности с руководством этого Общества, и в частности с К. Шаппером. Несмотря на чрезвычайно скупую запись речи Энгельса, она свидетельствует о том, что Энгельс развил в ней свое и Маркса представление о новом этапе социально-экономического и политического развития Европы, начавшемся бурном развитии производительных сил буржуазного общества, исчезновении в связи с этим перспективы близкой социальной революции и новых задачах пролетарских революционеров в изменившейся обстановке.
О лондонском Просветительном обществе немецких рабочих см. примечание 94. — 507.
607
Публикуемый
документ относится ко времени кёльнского процесса
коммунистов (1852), организовывая который прусские власти рассчи
тывали нанести удар по Союзу коммунистов, рабочим организациям
и вообще демократической оппозиции. История провокаций, фальси
фикации документов и подлогов прусских властей и их агентов бле
стяще раскрыта Марксом в работе «Разоблачения о кёльнском процессе
коммунистов» и других документах (см. настоящее издание, т. 8).
Перечисленные в списке имена коммерсантов и торговых домов исполь
зовались Марксом и Энгельсом для безопасной пересылки документов
защитникам на кёльнском процессе коммунистов Шнейдеру
II
, Эссеру
I
и фон Хонтхейму. Большинство этих адресов обеспечил Энгельс, ис
пользуя для этого свои коммерческие связи. — 508.
608
Под №№3 — 5
Энгельс перечисляет конверты с коммерческими адре
сами, которые он послал Марксу в Лондон 28 октября для вложения
и отправки в них писем Хонтхейму, Эссеру
I
, Шнейдеру
II
(см. насто
ящее издание, т. 28, стр. 147). — 508.
609
Речь идет о
письме Маркса, которое было послано через Дюссельдорф
Шнейдеру II
на
адрес одного немецкого купца, знакомого Фрейлиграта.
Письмо не сохранилось, о его содержании см. настоящее издание,
т. 28, стр. 141. — 508.
МО Имеется в виду письмо Маркса от 26 октября 1852 г. Шнейдеру II . Это письмо, которое Маркс считал чрезвычайно важным, было отправ-
ПРИМЕЧАНИЯ
665
лено в Кёльн Шнеидеру через подставных лиц в четырех экземплярах, в том числе через Веерта из Манчестера (см. настоящее издание, т. 28, стр. 137), два других экземпляра упоминаются Энгельсом в данном списке под № 1 и 8. Письмо не разыскано. — 508.
eu Речь идет о письме Г. Беккера Марксу от 27 января 1851 г. (см. настоящее издание, т. 8, стр. 485) и письмах Данвэльса Марксу по поводу рукописи Даниэльса «Микрокосмос. Набросок физиологической антропологии». — 508.
612 Имеется в виду письмо Штибера Марксу от 26 декабря 1848 г.; письмо приведено Марксом в «Разоблачениях о кёльнском процессе коммунистов» (см. настоящее издание, т. 8, стр. 466—467). — 508.
613 Речь идет о посылке Марксом Шнеидеру II через Г. Юнга, жившего тогда во Франкфурте-на-Майне, документов, удостоверяющих подложность «подлинной книги протоколов», причастность Гирша к ее фабрикации, а также разоблачающих лживый характер показаний Штибера (см. настоящее издание, т. 8. стр. 457—465; т. 28, стр. 142). — 508.
614 Речь идет об истории кражи так называемого архива Дица прусским полицейским агентом в Лондоне Рейтером (см. настоящее издание, т. 8, стр. 432—435). — 509.
615 В конце документа — составленный Энгельсом табель-календарь на июль — октябрь 1852 года. — 509.
616 23 июля 1856 г, в Трире умерла мать Женни Маркс — Каролина фон Вестфален; по существовавшему тогда порядку К. Маркс как муж ее дочери должен был присутствовать при разделе имущества. Не имея возможности поехать в Германию, Маркс составил настоящую доверенность, которая была заверена в Трире. — 510.
617 Нижеследующая запись сделана, по-видимому, рукой нотариуса в Трире; подпись Женни Маркс подлинная. — 510.
618 Эта единственная дошедшая до нас запись речи Маркса на праздновании 25-й годовщины лондонского Коммунистического просветительного общества немецких рабочих была сделана Г. Эккариусом не вполне удовлетворительно. Маркс подверг ее критике в письмах к Энгельсу, В. Либкнехту и Эккариусу (см. настоящее издание, т. 31, стр. 68 и 379), подчеркнув, что в записи содержатся мысли, прямо противоположные высказанным в самой речи; в частности, это касалось последней фразы о якобы невозможности совместных действий пролетариата и буржуазии. — 512.
619 Резолюция об отношении Международного Товарищества Рабочих к австро-прусской войне 1866 г. была принята в итоге дискуссии, развернувшейся в Генеральном Совете 19, 26 июня, 3 и 17 июля 1866 г. при участии Маркса. В основу резолюции был положен первоначальный проект Бобчинского и Картера, в который были внесены изменения после выступления Маркса (о ходе дискуссии см. настоящее издание, т. 31, стр. 192—193). — 516.
620 Текст предложения, внесенного Марксом, см. настоящее издание, т. 16, стр. 323. - 517,
666
ПРИМЕЧАНИЯ
621 об этом своем выступлении Маркс писал Энгельсу 20 июня 1868 г. (см. настоящее издание, т. 32, стр. 81). — 517.
622 в протокольной книге Генерального Совета в записи от 21 июля 1868 г. это выступление Маркса изложено так: «Гражданин Маркс. Германия. Всеобщий рабочий союз собирается сделать окольным путем то, что прусский закон запрещает делать открыто. В южных и восточных государствах Германии существует другой Рабочий союз, имеющий несколько ответвлений в Швейцарии; они также собираются присоединиться. Новая газета «Le Réveil», издаваемая партией Лед-рю-Роллена, благожелательно отзывается о Международном Товариществе» («Генеральный Совет Первого Интернационала. 1866—1868», стр. 161). — 518.
628 На заседании Генерального Совета 23 февраля 1869 г. Маркс выступил с подробным изложением на английском языке «Доклада о цеховых товариществах горняков в угольных копях Саксонии», написанного Энгельсом по-немецки (см. настоящее издание, т. 16, стр. 356—362). Запись выступления Маркса сохранилась в протокольной книге Генерального Совета; газетный отчет, публикуемый в данном томе, отличается от нее несколько большей полнотой и точностью. — M 9.
62* Данный документ сохранился в виде вырезки из американской газеты (по-видимому, « The Democrat »), вклеенной в протокольную книгу Генерального Совета. В протоколе заседания Генерального Совета 19 апреля 1870 г. имеется следующая запись выступления Маркса по поводу письма Юма и приложенной к нему докладной записки, требовавшей учреждения Генеральным Советом специального представительства для рабочих различных национальностей в каждой стране: «Гражданин Маркс не согласен с запиской, так как в Совете уже представлены различные национальности, а все остальное должно быть предоставлено корреспондентам Товарищества. В письме указывается, что тред-юнионистское движение в США склонно принимать форму тайных обществ. Это подтверждается письмом немецкого корреспондента в Нью-Йорке, который призывает Совет вмешаться в дело и попытаться отговорить Юма и Джессепа от участия в этом движении». Совет принял решение запросить дальнейшую информацию по существу вопроса (см. «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868-1870», стр. 163). - 521.
625 Имеется в виду массовый митинг 23 января 1871 г. на Трафальгар-сквер, на котором английскому правительству было от имени рабочих предъявлено требование добиться от Пруссии прекращения войны против Французской республики. — 523.
62« Речь идет о «Декларации о принципах морского международного права», приложенной к Парижскому мирному договору 1856 г., который был заключен европейскими державами по окончании Крымской войны. — 524.
627 в речи, произнесенной на митинге в Лондоне 4 июля 1867 г., Бизли заклеймил лицемерие английской буржуазии, преследовавшей тред-юнионистского лидера Бродхеда в связи с эксцессами, вызванными привлечением штрейкбрехеров во время стачки в Шеффилде осенью 1866 г. — 524.
ПРИМЕЧАНИЯ
667
628 После поражения при Ле-'Мане 10—12 января 1871 г. только что сформированная армия генерала Шанзи отступила со значительными потерями. — 525.
629 Собрание 5 января 1871 г. в зале гостиницы на Кэннон-стрит под председательством адвоката Дж. Мерримена призвало английское правительство добиваться прекращения войны между Пруссией и Францией и признать Французскую республику. — 527.
630 Имеются в виду массовые демонстрации в Лондоне в июне — июле 1855 г. в связи с решением парламента ограничить часы работы питейных заведений по воскресеньям. — 528.
631 Речь Маркса на заседании Генерального Совета Первого Интернационала 25 апреля 1871 г., опубликованная ранее лишь частично (см. настоящее издание, т. 17, стр. 626—627), публикуется здесь в полном объеме с учетом недавно найденной страницы протокольной книги. Под строкой помещены важнейшие разночтения рукописного протокола с текстом, помещенным в отчете о данном заседании в газете « Eastern Post» № 135, 29 апреля 1871 г. — 536.
632 Имеются в виду письма О. Серрайе от 12 и 15 апреля 1871 г., полученные в Лондоне 23 апреля. — 537.
633 На предшествующем заседании, 18 апреля 1871 г., в связи с появившейся в английской печати телеграммой об исключении Толена из Интернационала Генеральный Совет принял решение, в случае если сведения окажутся точными, опубликовать резолюцию, утверждающую решение Парижского федерального совета. Английский текст резолюции Генерального Совета сохранился в виде рукописи Ф. Энгельса с отдельными поправками К. Маркса (см. настоящее издание, т. 17, стр. 308). — 537.
634 Это поручение было выполнено Марксом в письме Л. Франкелю около 26 апреля 1871 г. (см. настоящее издание, т. 33, стр. 181—182). — 538.
635 Поль Лафарг находился в Париже с 6 по 12 апреля 1871 v. — 538.
Ш Энгельс поддержал предложение Юнга направить делегацию Генерального Совета на празднование 100-летия со дня рождения Роберта Оуэна, назначенное на 16 мая 1871 г. в Фримэсонс-холле, в Лондоне. — 540.
687
Моттерсхед,
высказываясь против участия в праздновании, заявил:
«Оуэн вовсе не был так уж оригинален, как, по-видимому, считает
Энгельс: свой социализм он заимствовал у старых французских писа
телей, а свои религиозные идеи — у Локка» («Генеральный Совет
Первого Интернационала. 1870—1871», стр. 136). Кроме того, Мот
терсхед приписал Энгельсу утверждение, будто «все социалисты были
чартистами». — 540, 541.
t.
688
В протоколе
заседания Генерального Совета 20 июня 1871 г. это вы
ступление Маркса отражено следующим образом: «Затем гражданин
Маркс
предлагает
послать письмо
в
«Examiner»
и
«
Spectator»
668
ПРИМЕЧАНИЯ
с разоблачением манифестов, опубликованных якобы Парижской секцией Интернационала. Все эти манифесты — фальшивки, сфабрикованные версальской полицией» («Генеральный Совет Первого Интернационала. 1870—1871», стр. 159). Письмо, составленное Энгельсом от имени Генерального Совета, не появилось в упомянутых газетах и дошло до нас в виде черновой рукописи (см. настоящее издание, т. 17, стр. 379). — 542.
639
Запись беседы К.
Маркса с лондонским корреспондентом газеты
«World»
Р. Ландором была ранее опубликована на
русском языке (см. настоя
щее издание, т. 17, стр. 633—637) по сокращенному варианту, напе
чатанному в органе американских секций Интернационала
«Woodhull
and
Claflin'
s
Weekly» №
13/65, 12 августа 1871 г. На русском языке
впервые полностью опубликовано в журнале «За рубежом», № 45,
1972 г. — 543.
640
Своеобразный
англо-немецкий диалект, на котором написаны юмори
стические «Баллады Ганса Брайтмана» американского писателя Чарлза
Годфри Лилонда (1824—1903). — 543.
641
В записи
корреспондента неточность: весной 1871 г. в Барселоне
происходила стачка текстильщиков, а стачка сигарочников в это же
время была в Антверпене. — 546.
"42 Лига земли и труда -— массовая организация английских рабочих, основанная осенью 1869 г. при ближайшем участии Маркса, который видел в ней один из путей к революционизированию английского пролетариата. — 546.
643 Объявленный весной 1870 г. плебисцит должен был, по мнению правящих кругов Второй империи во Франции, укрепить пошатнувшееся в связи с кризисом всей бонапартистской системы правление Наполеона III. Одновременно с этим демагогическим обращением к народным, преимущественно крестьянским, массам были проведены репрессии против пролетарского и левореспубликанского движения. — 547.
644 Речь Маркса при открытии Лондонской конференции Интернационала (17—23 сентября 1871 г.) опубликована ранее в настоящем издании (т. 17, стр. 643) по протокольной записи на французском языке. Здесь она публикуется по тексту записи на английском языке, сделанной Эккариусом. Записи дополняют одна другую. — 552.
645 Лондонская конференция, созванная в обстановке полицейского террора и преследований, направленных против членов Интернационала, носила негласный характер и работа ее проходила при закрытых дверях. Тем не менее сведения о ней просочились в печать: в газете «Scottsman » 2 октября 1871 г. появилась и была перепечатана рядом газет Европы и Америки статья Эккариуса, освещавшая ход заседаний конференции и ее важнейшие резолюции, а лондонская газета «Qui Vive!» (№ 31 — 32 от 7 и 8 ноября 1871 г.) еще до выхода в свет официальной публикации резолюций конференции напечатала их по тексту, тайно полученному от наборщика. — 553.
в4в Речь идет о выступлении Энгельса на заседании Генерального Совета 19 декабря 1871 г. В протокольной книге запись этого выступления точная (см. «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871 — 1872», стр. 33). — 555.
ПРИМЕЧАНИЯ
669
647 На заседании Генерального Совета 19 декабря 1871 г. Маркс выступил с сообщением о положении в Германии, США, Швейцарии и Англии. Отрывок из его выступления, касавшийся отношения английского правительства к эмигрантам Коммуны, был напечатан на французском языке в газете «Égalité» № 1, 10 января 1872 г. и на немецком — в газете «Tagwacht» № 3, 20 января 1872 г. Отдельные места из этого сообщения были также приведены в заграничной корреспонденции московской газеты «Современные известия», № 7, 21 (8) января 1872 г.— 556.
648 Протоколы заседаний Гаагского конгресса Первого Интернационала (2—7 сентября 1872 г.) сохранились в виде сделанной Ф. Т. Куно заверенной копии обработанного Ф. А. Зорге на основе собственных записей текста на немецком языке и в виде записей французского секретаря Ле Муссю, носящих местами черновой характер. Поскольку секретари были избраны только 3 сентября, два первых заседания конгресса в рукописи Ле Муссю не отражены. Выступление Маркса 2 сентября 1872 г. сохранилось только в двух записях бакуниста Н. Жуковского, мандат которого не был утвержден конгрессом. Четыре речи Маркса и одна речь Энгельса в записи Зорге опубликованы в настоящем издании, т. 18, стр. 639—646. — 560.
649 Испанские делегаты-бакунисты в соответствии с полученными императивными мандатами требовали, чтобы при голосовании на конгрессе учитывался не голос каждого делегата, а число избравших его членов организации. Это требование было отклонено конгрессом. — 560.
650 Далее в записи Зорге следует текст: «Гильом прерывает оратора: Это неверно». — 561.
651 Речь Маркса о полномочиях Генерального Совета была опубликована ранее в настоящем издании (т. 18, стр. 643—644) по записи на немецком языке, сделанной Зорге. Здесь она печатается по записи Ле Муссю на французском языке. — 563.
652 Краткая запись речи, произнесенной Марксом 8 сентября 1872 г. в Амстердаме, была опубликована в отчете о митинге в голландской газете «Algemeen Handelsblad». Более полная авторизованная корреспондентская запись, опубликованная в газетах «Liberté» и «Volksstaat», вошла в т. 18, стр. 153—155 настоящего издания. — 565.
053 Имеется в виду встреча императоров Германии, Австро-Веигрии и России в Берлине в сентябре 1872 г., являвшаяся попыткой восстановить реакционный союз этих государств; на встрече обсуждался, в частности, вопрос о совместной борьбе с революционным движением. — 565.
654 в ходе пропаганды решений Гаагского конгресса в Англии Марксу и Энгельсу пришлось неоднократно давать отгтор клеветническим нападкам бывшего секретаря Генерального Совета Джона Хейлза, который, перейдя на реформистские позиции, вступил в беспринципный блок с анархистско-сектантским меньшинством конгресса, добился раскола в Британской федерации и созыва 26 января в Лондоне сепаратного съезда отколовшихся секций.
Непримиримая борьба Маркса и Энгельса как руководителей международной пролетарской организации против реформистских элементов в английских секциях Интернационала нашла тогда отражение в ряде документов, в первую очередь в «Письме редактору «International Herald»» и в обращениях Манчестерской иностранной секции и
670
ПРИМЕЧАПИЯ
Британского федерального совета (см. настоящее издание, т. 18, стр. 189—202).
Публикуемые в настоящем томе два письма в редакцию лондонских газет, составленные одно — Ф. Лесснером при участии Маркса, а другое — С. Викери при участии Энгельса, рисуют более частные аспекты и подробности этой полемики. — 568, 573.
в55 На Манчестерском съезде Британской федерации 1—2 июня 1873 г. присутствовали 26 делегатов от 23 секций, признавших решения Гаагского конгресса 1872 г. Съезд принял резолюции об укреплении организации и усилении пропаганды, подчеркнул необходимость создания самостоятельной политической партии пролетариата, высказался за обобществление земли и всех средств производства и подтвердил свою верность пролетарскому интернационализму, присвоив Британской федерации красное знамя Международного Товарищества Рабочих. — 579.
В5() Во исполнение резолюции Гаагского конгресса о создании международного объединения профессиональных союзов Британский федеральный совет выделил из своей среды комиссию для подготовки вопроса. После первого сообщения комиссии на заседании Британского федерального совета 24 апреля составление соответствующего обращения к английским профессиональным обществам было поручено М. Барри и Э. Дюпону. В работе над документом, который был заслушан и единогласно одобрен на заседаниях Совета 1 и 8 мая 1873 г., непосредственное участие принимал Ф. Энгельс. В обращении раскрыта роль, которую сыграли профессиональные союзы в процессе становления Международного Товарищества Рабочих и в различные моменты его истории, а также намечены задачи, вставшие перед ними на новом этапе развития международного рабочего движения после Гаагского конгресса. — 580,
[ 671
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А
Аббас I (1571 — 1629) — шах Ирана (1587—1629) из династии Сефе-видов. — 335.
Абдул-Меджид (1823—1861) — турецкий султан (1839—1861). — 200, 206, 304.
Абеле (Abeelo), Анри ван ден (род. в 1847 г.) — бельгийский анархист, по профессии торговец; исключен из Интернационала решением Генерального Совета от 30 мая 1873 года. — 461.
Абердин ( Aberdeen ), Джордж Гордон, граф (1784—1860) — английский государственный деятель, тори, с 1850 г. лидер пилотов, министр иностранных дел (1828— 1830, 1841—1846) и премьер-министр коалиционного министерства (1852—1855). — 272.
Абу ( About ), Эдмон (1828—1885) — французский журналист, бонапартист. — 326.
Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — римский император (27 г. до н. з. — 14 г. н. э.). — 282.
Август Саксонский, герцог (1614— 1680) — правитель епископства Магдебург (с 1628 г.). — 238.
Август Саксонский — см. Август II Сильный.
Август II Сильный (1670—1733) — польский король (1697—1706 и 1709—1733) и курфюрст Саксон-
ский под именем Фридриха-Августа I (1694-1733). -239, 342, 343.
Август III Саксонский (1696—1763) — сын предыдущего; польский король (1734—1763) и курфюрст .Саксонский (с 1733 г.) под именем Фридриха-Августа II . — 278, 343, 344, 347.
Август III (Саксонский) — см. Фридрих-Август I .
Ага-хан H y pu, мирза — глава правительства при персидском шахе Наср-Эд-Дине (с 1852 г.). — 257.
Агриппа (Марк Випсаиий Агриппа) (ок. 63 — 12 г. до н. э.) — выдающийся римский полководец и государственный деятель, с 21 г. до н. э. — соправитель Августа. — 282.
Адер ( Adair ), Роберт (1763-1855) -английский дипломат, сподвижник Ч. Дж. Фокса. — 267.
Адольф Фредрик (1710—1771) — шведский король (1751—1771) из династии Голыптейн-Готтор-пов. — 345.
Адриан, Публий Элий (76—138) — римский императ®р (117—138). — 148.
А жене (Agénais) — французский рабочий, республиканец. — 310.
Александр I (1777—1825) —русский император (1801 — 1825). — 253, 292, 351, 352, 354, 355,
672
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Александр VI (ок. 1431—1503) (в миру — Родриго Борджа) — папа римский (1492—1503). — 275.
Александр Македонский (356—323 г. до н. э.) — знаменитый полководец и государственный деятель Древнего мира. — 290.
Али-паша Янинский (или Тепелен- ский) (1744—1822) — фактически независимый правитель (с 1787 г.) части албанских и греческих земель, принадлежавших Турции. — 354.
Аллеи, (Allen), Джордж — американский буржуазный радикал. — 434.
Алман ( Allcmont), Луи. — 392.
Альба (Alba), Фернандо Альварес, герцог (1507—1582) — испанский полководец и государственный деятель, в 1567—1573 гг. наместник Нидерландов. — 288.
Альбер ( Albert ) (настоящее имя Александр Мартен) (1815— 1895) — французский рабочий, социалист, один из руководителей тайных революционных обществ в период Июльской монархии, в 1848 г. член Временного правительства. — 45, 46, 57.
Алъберони ( Alberoni ), Хулио(1664— 1752) —• испанский государственный деятель и дипломат; по происхождению итальянец; кардинал и первый министр испанского двора (1717—1719), фактический правитель страны; в 1719 г. изгнан из Испании. — 342, 343.
Альбрехт Бранденбургский (1490— 1568) — последний гроссмейстер Тевтонского ордена, первый герцог Пруссии (с 1525 г.). — 232, 234.
Альбрехт Медведь, граф фон Бал- ленштедт (ок. 1100—1170) — первый маркграф Бранденбургский (с 1150 г.). — 228.
Альбрехт 1И Ахиллес (1414—I486) — князь Ансбаха (с 1440 г.), курфюрст Бранденбургский (1470— 1486). - 231.
Альбрехт-Фридрих (1553—1618) — герцог Пруссии (1568—1618). — 233-235,
Алъбукеркский ( Albuquerque ), герцог (ум. в 1811 г.) — испанский генерал, участник войны за независимость Испании, в 1811 г. посол Испании в Лондоне. — 208, 209.
Амалия, принцесса Олъденбургская (1818—1875) — греческая королева, жена Оттона I . — 199.
Амаранте — см. Чавиш.
Ангулемский (Angoulême), Шарль де Валуа, герцог (1573—1650) — внебрачный сын Карла IX , служил в армии Людовика XIII . — 336.
Анна — см. Анна Австрийская.
Анна (1576 — 1625) — дочь прусского герцога Альбрехта-Фридриха, жена (с 1594 г.) Брандсноургского курфюрста Иогапна-Сигизмук-да. — 233-235.
Анна (1665—1714)— английская королева (1702-1714). - 341.
Анна Австрийская (1601—1666) — французская королева, жена Людовика XIII , регентша (1643— 1661) при Людовике XIV ; дочь испанского короля Филиппа III. — 336, 337.
Анна Ивановна (1693—1740) — русская императрица (1730—1740).— 343, 344.
Анна Петровна (1708—1728) — дочь Петра I, с 1725 г. жена Карла I , герцога Голынтейн-Готторпского, мать Петра III . — 342.
Ансон ( Anson ), Джордж, барон (1697—1762) — английский адмирал, первый лорд Адмиралтейства (1751—1756, 1757-1762), участник войны за Австрийское наследство (1740—1748); провел реформу английского флота. — 345.
Антоний (Марк Антоний) (ок. 83— 30 г. до н. э.) — римский политический деятель и полководец. — 282.
Аплгарт ( Applegarth ), Роберт (1833—1925) — один из лидеров английского тред-юнионистского движения, по профессии рабочий-краснодеревщик; генеральный секретарь Объединенного об-
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
673
щества плотников и столяров (1862—1871); член Лондонского совета тред-юнионов, член Генерального Совета Интернационала (1865, 1868—1872); в дальнейшем отошел от рабочего движения. — 395, 409, 410.
Апраксин, Федор Матвеевич, граф (1661—1728) — русский адмирал, сподвижник Петра I . — 283.
Арден (Ardin), Аптуан (ум. после 1898 г.) — швейцарский рабочий, председатель общества каретников и кузнецов, входившего в Интернационал; член женевской секции Интернационала «Альянс социалистической демократии». — 392.
Ариф Хикмет-бей (род. в 1786 г.) — турецкий государственный деятель, с 1846 по март 1854 г. шейх-уль-ислам (великий муфтий). — 199.
Армстронг
(Armstrong),
Уильям
Джордж
(1810—1900) —
анг-
лийский изобретатель и фабрикант, создатель нарезной пушки. — 362, 365.
Арнольд (Arnold). — 203.
Аро — см. Мендес де Аро.
Асси (Assi), Адольф Альфонс (1840— 1886) — деятель французского рабочего движения; гарибальдиец; по профессии механик, участник и организатор забастовки в Крезо (1870); привлекался к суду по третьему процессу парижских секций Интернационала; член ЦК национальной гвардии и Парижской Коммуны. — 410.
Атвуд ( Uttwood ), Чарльз —английский общественный деятель, ур-картист. — 223.
Ахмед-шах Дуррани (1724—1773) — афганский шах (1747—1773), основатель афганского государства и династии Дуррани. — 253.
Б
Баденге — см. Наполеон III . Баденский, герцог — см. Леопольд. Баке (Baquet), Жозеф. — 392. Бакунин, Михаил Александрович (1814 — 1876) — русский рево-
люционер и публицист, участник революции 1848—1849 гг. в Германии; народник, один из идеологов анархизма; в Интернационале выступал как ярый враг марксизма, на Гаагском конгрессе в 1872 г. исключен из Интернационала за раскольническую деятельность. — 392, 406, 450, 456—459, 461, 474, 475, 488, 557.
Бакунина, Антонипа Ксаверьевна (девичья фамилия Квятковская) (ок. 1840—1887) — жена М. А. Бакунина. — 392.
Банер (Bauer), Йохан (1596— 1641) — шведский генерал, участник Тридцатилетней войны (1618-1648). — 237.
Банкс ( Banks ), Теодор — член Центрального комитета североамериканских секций Интернационала (1871), по профессии маляр; стоял на позициях буржуазного радикализма. — 433, 434.
Бара (Вага), Жюль (1835—1900) — бельгийский государственный деятель, либерал, министр юстиции (1865—1870, 1878—1884). — 517.
Бараге д'Илъе ( Baraguay d' Hil - liers), Ашиль (1795—1878) — французский военный и политический деятель, с 1854 г. маршал; бонапартист; посол в Константинополе (1853—1854); в 1854 г. командовал экспедиционным корпусом в Балтийском море. — 205.
Барбес (Barbes), Арман (1809— 1870) — французский революционер, мелкобуржуазный демократ, один из руководителей тайных революционных обществ в период Июльской монархии, активный деятель революции 1848 года. — 19, 21.
Барклай-де-Толли, Михаил Богданович (1761—1818) — видный русский полководец и военный деятель, с 1814 г. генерал-фельдмаршал; участник войн против наполеоновской Франции, военный министр (1810—1812), командующий одной из русских
674
УКаЗАТЕЛЬ ИМЕН
армий в период Отечественной войны 1812 года. — 291—293.
Барни (Barni), Жюль (1818—1878)— французский политический деятель, философ-идеалист, один из организаторов Лиги мира и свободы; с 1872 г. депутат парламента. — 315.
.Барош(Вагоспе),Пьер Жюль (1802— 1870) — французский политический деятель, юрист; в период Второй республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, представитель партии порядка; входил в состав ряда кабинетов до и после государственного переворота 1851 г., бонапартист. — 21.
Барри (Barry), Мальтман (1842— 1909) — английский журналист, социалист, член Интернационала, делегат Гаагского конгресса (1872), член Генерального Совета (1871—1872) и Британского федерального совета (1872—1874), поддерживал Маркса и Энгельса в их борьбе против бакунистов и английских реформистских деятелей тред-юнионов. — 466, 584.
Барро (Barrot), Одилон (1791 — 1873) — французский буржуазный политический деятель; в декабре 1848 — октябре 1849 г. возглавлял министерство, опи равшееся на контрреволюцион ный блок монархических фракций; после отставки министерства в ноябре 1849 г. отошел от политической деятельности. — 315.
Бартелеми-Сент-Илер (Barthélemy- Sainte-Hilere), Жюль (1805— 1895) — французский философ и политический деятель, умеренный буржуазный республиканец, депутат Национального собрания 1871 г.; министр иностранных дел (1880-1881). - 315.
Бартенев, Виктор Иванович (псев донимы — Алексеев, Нетов) (род. в 1838 г.) — русский офицер, сочувствовал польскому восста нию в 1863 г. и вскоре вышел в отставку; в 1867 г. эмигрировал в Швейцарию; член инициатив-
ной группы Альянса социалисти ческой демократии; в 1869 г. порвал с бакунистами; член комитета Русской секции Интернационала в Женеве, активно участвовал в борьбе против раскольнической деятельности бакунистов. — 392.
Бартенева, Екатерина Григорьевна (1843—1914) — русская революционерка и публицист, член инициативной группы Альянса социалистической демократии; в 1869 г. порвала с бакунистами; участвовала в основании Русской секции I Интернационала, активно боролась против раскольнической деятельности бакунистов; участница первого конгресса II Интернационала (1889) в Париже; жена В. И. Бартенева. — 392.
Басен (Bassi), У го (1801—1849) — итальянский революционер, буржуазный демократ, участник революции 1848—1849 гг., расстрелян австрийцами. — 419.
Бастиа (Bastiat), Фредерик (1801 — 1850) — французский вульгарный экономист, проповедник теории гармонии классовых интересов в буржуазном обществе. — 181.
Батлер (Butler), Бенджамин Франклин (1818—1893) — американский политический деятель, принадлежал к левому крылу республиканской партии; во время Граж данской войны в США командовал экспедиционной армией при взя тии Нового Орлеана. — 533.
Бауэр (Bauer), Бруно (1809— 1882) — немецкий философ-идеалист, один из виднейших младогегельянцев, буржуазный радикал; после 1866 г. национал-ли берал; автор ряда работ по истории христианства. — 261—273.
Бауэр (Bauer), Генрих — видный деятель немецкого рабочего дви жения, один из руководителей Союза справедливых, член Центрального комитета Союза коммунистов; по профессии сапожник; в 1851 г. эмигрировал в Австралию. — 66, 493, 494, 505.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
675
Бебель (Bebel), Август (1840— 1913) — выдающийся деятель международного и немецкого рабочего движения; по профессии токарь; с 1867 г. руководил Союзом немецких рабочих обществ; член Интернационала, депутат рейхстага с 1867 г.; один из основателей и вождей немецкой социал-демократии, вел борьбу против лассальянства; во время франко-прусской войны стоял на позициях пролетарского интернационализма, выступал в поддержку Парижской Коммуны; друг и соратник Маркса и Энгельса. — 405, 421, 424.
Бедо (Bedeau, J.). — 392.
Бейерле ( Beyerle ) — немецкий эмигрант в Лондоне. —501.
Бейрн ( Bairn ), Давид — английский офицер. — 302.
Беккер (Becker), Герман Генрих (1820—1885) — немецкий юрист и публицист, с 1850 г. член Союза коммунистов, один из подсудимых на кёльнском процессе коммунистов (1852), приговорен, к пяти годам тюремного заключения; в 60-х годах прогрессист, затем национал-либерал. — 508.
Беккер (Becker), Иоганн Филипп (1809—1886) — видный деятель международного и немецкого рабочего движения; по профессии рабочий-щеточник; участник революции 1848—1849 годов; организатор немецких секций Интернационала в Швейцарии, редактор журнала «Vorbote» (1866— 1871); в октябре 1868 г. вошел в состав временного комитета Альянса социалистической демократии, однако под влиянием Маркса и Энгельса порвал с бакунистами; друг и соратник Маркса и Энгельса. — 392.
Беккер (Becker), Эрнст (ум. после 1898 г.). - 392.
Беллилъ или Белъ-Илъ (Belleisle, Belle - Isle), Шарль Луи Огюст Фуке, герцог (1684—1761) — французский военный деятель и дипломат, маршал Франции (с 1741г.), с 1750 г. с перерывами был воен-
ным министром, участник войны за Австрийское наследство (1740— 1748). — 278, 345.
Бель (Bel), Андре (ум. после 1898 г.) — швейцарский рабочий, столяр, секретарь общества столяров в Женеве. — 392.
Беннет ( Bennett ), Джордж — член Британского федерального совета (1872—1873) от секции в Галифаксе. — 584.
Беннигсен, Левин Август Тоофиль (Леонтий Леонтьевич) (1745— 1826)—генерал на русской службе, выходец из Ганновера; участник убийства Павла I ; принимал участие в войпах против наполеоновской Франции, в Отечественной войне 1812 г. начальник главного штаба русских войск. — 291, 292.
Беранже (Béranger), Пьер Жан (1780—1857)— крупнейший французский поэт-демократ. — 307, 309.
Бервик ( Berwick ), Джеймс Фитц-джеймс, герцог (1670—1734) — маршал Франции; внебрачный сын английского короля Якова II ; участник войн за Испанское 1701—1714) и Польское (1733— 735) наследства. — 343.
Береншпрунг ( Baerensprung ) — глава прусской полиции в Познани в 50-х гг. XIX в.— 330, 331.
Бермбах ( Bermbach ), Адольф (1821—1875) — юрист в Кёльне, член Союза коммунистов; свидетель защиты на кёльнском процессе коммунистов (1852), корреспондент Маркса; впоследствии либерал. — 508.
Бернадот ( Bernadotte ), Жан Батист Жюль (1763—1844)—французский маршал, участник войн Французской республики и наполеоновской Франции; король Швеции и Норвегии под именем Карла XIV Иоанна (1818— 1844). - 297, 353.
Бернар ( Bernard ), Мари — бельгийский рабочий-маляр; член Генерального Совета Интернационала (сентябрь 1868—1869), секретарь-корреспондент для Бельгии
676 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(сентябрь 1868— ноябрь 1869).— 394.
Берни (Bernis), Франсуа Иоахим де Пьер, де (1715—1794) — французский государственный деятель, дипломат и писатель, кардинал (с 1758 г.); министр иностранных дел (1757—1758). — 345.
Бернсторф (Bernstorff), Альбрехт, граф фон (1809—1873) —прусский дипломат, министр иност ранных дел Пруссии (1861—1862), посол в Лондоне (1862—1873). — 530.
Беррийская (Веггу), Мария Каролина Фердинанда Луиза, герцогиня (1798—1870) — мать графа Шамбора; в 1832 г. пыталась поднять восстание в Вандее с целью свержения Луи-Филиппа. — 307.
Беррийскии (Веггу), Шарль Фер-динан, герцог (1686—1714)— внук Людовика XIV ; с 1710 г. женат на дочери Филиппа Орлеанского Марии Луизе. — 341.
Бертен (Bertin), Луи Мари Арман (1801—1854) — французский журналист, орлеанист; в 1841—1854 гг. издатель газеты «Journal des Débats». — 22.
Бертран (Bertrand, Fr. G.) — деятель американского рабочего движения, рабочий-сигарочник; член Федерального совета североамериканских секций Интернационала (1872) и редакции «Arbeiter-Zeltung», член Генерального Совета, избранного Гаагским конгрессом (1872). — 466, 473, 559.
Веры (Berryer), Пьер Антуан (1790—1868) — французский адвокат и политический деятель, легитимист. — 315.
Бётихер (Bötticher), Карл-Вильгельм (1791—1868) — прусский государственный деятель, обер-президент Восточной Пруссии (1842-1848). - 30.
Бетлен (Bethlen), Габор (1580— 1629) — руководитель антигабсбургского движения в Венгерском королевстве, князь Тран-снльвашти (1613—1629) и король Венгрии (1620-1621). - 336.
Биго (Bigot), Леон (1826—1872) — французский адвокат и публицист, левый республиканец, после подавления Коммуны выступал в качестве защитника коммунаров перед версальским военным судом. — 410.
Бизли (Beezly), Эдуард Спенсер (1831—1915) — английский историк и политический деятель, буржуазный радикал, позитивист; председатель Учредительного собрания Интернационала 28 сентября 1864 года; выступал в английской прессе в защиту Парижской Коммупы, находился в дружеских отношениях с Марксом. — 524.
Бисмарк (Bismarck), Отто, князь (1815—1898) — государственный деятель Пруссии и Германии, представитель прусского юпкер-ства, посол в Петербурге (1859— 1862) и в Париже (1862); министр-президент Пруссии (1862—1872 и 1873—1890), канцлер Северогерманского союза (1867—1871) и Германской империи (1871 — Г890); ярый враг рабочего движения. — 469, 488, 512, 525, 529—531.
Блад ( Blood ), Джеймс — американский буржуазный радикал. —
Блан (Blanc), Андре — член лионской секции Интернационала. — 396.
Блан (Blanc), Гаспар — французский бакунист, по профессии дорожный мастер; участник восстания 1870 г. в Лионе; после подавления Парижской Коммуны выступал как бонапартист. — 458.
Блан (Blanc), Луи (1811—1882) — французский мелкобуржуазный социалист, историк; в 1848 г. член Временного правительства и председатель Люксембургской комиссии; стоял на позициях соглашательства с буржуазией; в августе 1848 г. эмигрировал в Англию; депутат Национального собрания в 1871 г., выступал против Парижской Коммуны. — 45, 46, 54, 57, 158, 161, 163-164.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
677
Бланки (Blanqui), Адольф (1798— 1854) — французский буржуазный экономист и историк экономических учений. — 150.
Бланки (Blanqui), Луи Огюст (1805—1881) — французский революционер, коммунист-утопист, организатор ряда тайных обществ и заговоров; активный участник революций 1830 и 1848 гг., виднейший руководитель пролетарского движения во Франции, неоднократно приговаривался к тюремному заключению. — 12, 19, 21, 459, 472.
Бланшар (Blanchard, D. А.) (ум. в 1869 г.) — владелец типографии в Женеве, члоп Интернационала. — 392.
Блинд ( Blind ), Карл (1826—1907) — немецкий журналист, мелкобуржуазный демократ, участник революционного движения в Бадене в 1848—1849 гг., в 50-х годах один из лидеров немецкой мелкобуржуазной эмиграции в Лондоне; позднее национал-либерал. — 41, 493.
Блюхер (Blücher), Гебхард Лебе-рехт (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал. — 297.
Богарне (Beauharnais), Евгений, принц (1781—1824) — французский генерал, пасынок Наполеона I , в 1805—1814 гг. вице-король Италии. — 296.
Богислав XIV (1580—1637) — последний герцог Померании. — 236, 237.
Богислав Эрнст, герцог фон Грой — зять померанского герцога Боги-слава XIV ; с 1633 г. его преемник на посту епископа Камина. — 238.
Бодри (Baudry) — француз, участник Парижской Коммуны, эмигрант в Лондоне. — 409.
Бок (Вок), Пауль. — 559.
Больше (Boite), Фридрих — деятель американского рабочего движения, рабочий-сигарочник; по национальности немец; секретарь Федерального совета североамериканских секций Интернационала (1872); член Генерального
Совета Интернационала (1872— 1874). — 466, 473, 559.
Бон (Beaune), Жан Батист Огюстен де (1796—1849) — французский политический деятель, монархист, депутат Законодательного собрания от департамента Гар. — 8.
Бонапарт — см. Наполеон I .
Бонниве (Bonnivet), Гийом Гуфье де (1488—1525) — французский адмирал; в 1523—1525 гг. командовал французскими войсками в ходе итальянской войны, убит в битве при Павии. — 332.
Боре (Borret), Этьенн. — 392.
Борм (Borme) — французский изобретатель, пиротехник; роялист по политическим убеждениям, авантюрист. — 21.
Борхардт (Borchardt), Луи — немецкий врач, один из знакомых Энгельса в Манчестере. — 368.
Боуэрс ( Bowers ) — английский журналист. — 399.
Боффети (Bofféty), Франсуа (ум. после 1898 г.) — швейцарский рабочий-столяр. — 392.
Браганса — династия королей Португалии (1640—1853) и императоров Бразилии (1822—1889). — 354.
Брайт ( Bright ), Джон (1811 — 1889) — английский фабрикант, буржуазный политический деятель, один из лидеров фритредеров и основателей Лиги против хлебных законов, член палаты общин (с 1843 г.); входил в состав торийских кабинетов Дерби (1852, 1856, 1859, 1866—1868); с начала 60-х годов лидер левого крыла либеральной партии. — 5, 222, 311-314.
Бракке (Bracke), Вильгельм (1842— 1880) — немецкий социал-демократ, издатель социалистической литературы в Брауншвейге; один из основателей и руководителей Социал-демократической рабочей партии, депутат рейхстага (1877—1879). — 425.
Брауншвейгский ( Braunschweig ), Карл-Вильгельм-Фердинанд, герцог (1735-1806) - в 1792 г.
678
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
главнокомандующий австро- прусской армией, действовавшей против революционной Франции. — 349.
Бреае (Brézé), Урбен де Майе, маркиз (1597—1650) — французский военный деятель и дипломат, маршал (с 1632 г.), участник Тридцатилетней войны (1618— 1648). - 336.
Брехтель (Brechtel, С.) (ум. после 1898 г.) — с 1866 г. член женевского Центрального комитета секций немецкого языка в Швейцарии; член женевской секции Интернационала «Альянс социалистической демократии» (январь—март 1870 года).— 392.
Брисме (Brismée), Дезире (1823— 1888) — деятель бельгийского демократического и рабочего движения; по профессии типограф; прудонист, один из основателей бельгийской секции Интернационала (1865); примыкал к бакунистам; позже отошел от анархизма; член правления бельгийской Рабочей партии. — 461.
Бродхед
(Broadhead),
Уильям
(1815—1879) — видный англий
ский тред-юнионист, секретарь
союза ножовщиков
(1848
—
1867). — 524.
Брунетти (Brunetti), Анжело (прозвище Чичеруаккъо) (1800—1849)— итальянский революционер, участник революции 1848—1849 гг. н героической обороны Римской республики 1849 года; расстрелян австрийцами. — 419.
Брус (Bruce), Генри Остин (1815— 1895) — английский государственный деятель, либерал, министр внутренних дел (1868—1873). — 410, 530.
Бужан (Bougeant), Гийом Гиацинт (1690—1743) — французский историк и литератор, иезуит; наиболее известны его работы по истории Тридцатилетней войны (1618—1648) и Вестфальского мира. — 337.
Буксгевден, Федор Федорович, граф (1750—1811) — русский генерал, в -1805 и 1806 гг. участвовал
в воинах против наполеоновской Франции. — 291.
Бун ( Boon ), Мартин Джемс — деятель английского рабочего движения, по профессии механик, последователь социально-реформаторских взглядов чартиста О'Брайе-на, член Генерального Совета Интернационала (1869—1872), член Британского федерального совета (1872). — 571.
Бурбон ( Bourbon ), Шарль, герцог (1490—1527)1— коннетабль (главнокомандующий) французской армии при Франциске I , затем перешел на сторону императора Карла V , в 1525 г. в битве при Павии одержал победу над французскими войсками. — 332, 333.
Бурбоны — королевская династия во Франции (1589—1792, 1814— 1815 и 1815—1830) и в Испании (1700-1868,1874-1931 и с 1975). - 3, 20, 346, 349, 352.
Бустрапа — см. Наполеон III .
Бутурлин, Дмитрий Петрович (1790—1846) — русский военный историк, участник Отечественной войны 1812 г., сенатор, с 1848 г. член Особого комитета для надзора за печатью. — 192.
Бьют ( Bute ), Джон Стюарт, граф (1713—1792) — английский государственный деятель, тори, премьер-министр (1762—1763). — 346, 347.
Бюлов ( Bulow ),Фридрих Вильгельм, граф фон Денневиц (1755— 1816) — прусский генерал, участник войн против наполеоновской Франции. — 296—298.
В
Вайян (Vaillant), Эдуар Мари (1840—1915) — французский социалист, бланкист, член Парижской Коммуны и Генерального Совета Интернационала (1871— 1872); один из основателей Социалистической партии Франции; во время первой мировой войны стоял на позициях социал-шовинизма. — 459,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
679
Валленштейн (Wallenstein), Альбрехт Венцель Евсевий (1583— 1634) — полководец так называемой Священной Римской империи, имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне (1618—1648), по происхождению чех. — 336.
Валуа — династия французских королей (1328—1589). — 335.
Валъдек (Waldeck), Бенедикт Франц Лео (1802 — 1870) — немецкий политический деятель, буржуазный радикал, по профессии юрист; в 1848 г. заместитель председателя прусского Национального собрания; впоследствии прогрессист. — 29.
Варлен (Varlin), Эжен (1839— 1871) — видный деятель французского рабочего движения, по профессии переплетчик; левый прудонист, один из руководителей Интернационала во Франции; делегат ряда конгрессов Интернационала, член ЦК национальной гвардии и Парижской Коммуны, расстрелян версальцами 28 мая 1871 года. — 401.
Вацлав IV (1361—1419) — чешский король (1378—1419), император так называемой Священной Римской империи (1378—1400). — 230.
Вашингтон (Washington), Джордж (1732—1799) — выдающийся американский государственный деятель, главнокомандующий армией в период войны североамериканских колоний sa независимость (1775—1783), первый президент США (1789—1797). — 11.
Веерт (Weerth), Георг (1822— 1856) — немецкий пролетарский поэт и публицист, член Союза коммунистов, в 1848—1849 гг. один из редакторов «Neue Rheinische Zeitung», друг Маркса и Энгельса. — 40.
Везинье (Vésinier), Пьер (1826— 1902) — французский мелкобуржуазный публицист, в 1868 г. 8а клевету на Генеральный Совет исключен из Интернационала; член Парижской Коммуны; секре-
тарь французской секции 1871 г. и член Всемирного федералистского совета, выступал против Маркса и Генерального Совета Интернационала. — 538, 564.
Вейлер (Weiler),AflaM (1841—1894)— немецкий рабочий, по профессии столяр-краснодеревщик; эмигрант в США, затем в Англии; в 1861—1862 гг. участник Гражданской войны в США; с 1862 г. член Лондонского просветительного общества немецких рабочих; член Интернационала (с 1865 г.), член Британского федерального совета Интернационала (ноябрь 1872 —1873) и его последний секретарь; активный деятель английского тред-юнионистского движения; член Социал-демократической федерации (с 1883 г.); поддерживал Маркса и Энгельса в их борьбе против английских реформистов. — 570.
Вейо (Veuillot), Луи Фрапсуа (1813—1883) — французский журналист, ярый сторонник католицизма, главный редактор газеты «Univers» (1848—1860). — 307.
Вейс (Weiss), Луи (Людвиг) (ум. до 1898 г.) — швейцарский рабочий-ювелир, член руководимого И. Ф. Беккером Центрального комитета группы секций немецкого языка. — 392.
Велизарий (ок. 504—565) — византийский полководец, сподвижник императора Юстиниана I . — 307.
Веллингтон (Wellington), Артур Умели, герцог (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель, тори; в 1808—1814 и 1815 гг. командовал войсками в войнах против наполеоновской Франции; премьер-министр (1828—1830). — 209, 272, 286, 298.
Вендри (Vindry) — французский рабочий-красильщик, член лионской секции I Интернационала. — 396. .
Венсар (Vinçard), Пьер Дени (1820— 1882) —французский рабочий, публицист, участник революции
680
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
1848 г., деятель кооперативного движения, автор ряда работ о положении рабочего класса; член I Интернационала. — 375, 377.
Венцель — см. Вацлав IV .
Вергилий (Публий Вергилий Марон) (70—19 г. до н. э.) — выдающийся римский поэт. — 268.
Вермерш (Vermersch), Эжен (1845— 1878) — французский мелкобуржуазный социалист, участник республиканского движения; во время Парижской Коммуны издавал газету «Père Duchêne», после подавления Коммуны эмигрировал в Англию, где издавал газету «Qui Vivel», в которой выступал с клеветой на Интернационал и Генеральный Совет. — 553.
Верон (Véron), Луи Дезире (1798— 1867) — французский журналист и политический деятель, до 1848 г. орлеанист, затем бонапартист, редактор и владелец газеты «Constitutionnel». — 22.
Вестфален (Westphalen), Каролина фон (1780—1856) — мать жены Маркса, Женни. — 510.
Видалъ (Vidal), Франсуа (1814— 1872) — французский экономист, социалист, в 1848 г. секретарь Люксембургской комиссии, депутат Законодательного собрания (1850-1851). - 12, 15.
Видок (Vidocq), Франсуа Эжен (1775—1857) — французский уголовный преступник, тайный полицейский агент, с 1812 по 1827 г. шеф Секретной уголовной полиции (Сюртэ); имя его стало нарицательным для обозначения ловкого сыщика и мошенника. — 330.
Викери (Vickery), Самюэл — секретарь Британского федерального совета (1872—1873), вел активную борьбу против его реформистского крыла; председатель съезда Британской федерации Интернационала (1873). - 570, 573, 576, 584.
Виктор-Амедей I (1587—1637) — герцог'Савойский с 1630 года. — 336.
Виктор-Амедей II (1666—1732) — герцог Савойский (1675—1730) -«
король Сицилии (1713—1718); пер вый король Сардинии (1718, 1720-1730). - 339-341.
Виктор-Эммануил //(1820—1878)— король Пьемонта (1849—1861), итальянский король (1861 — 1878). - 327, 420.
Виктория (1819—1901) — английская королева (1837—1901). — 266, 529.
Виллар (Villars), Клод Луи Эктор, герцог (1653—1734) — французский полководец, маршал-гсно-рал (с 1733 г.); участник войн за Испанское (1701—1714) и Польское (1733—1735) наследства. — 343.
Виллих (Willich), Август (1810— 1878) — прусский офицер, вышедший в отставку по политическим убеждениям; член Союза коммунистов, участник баденско-пфальцекого восстания 1849 года; в 1850 г. один из лидеров сектант-ско-авантюристической фракции во время раскола Союза коммунистов; в 1853 г. эмигрировал в США, участник Гражданской войны на стороне северян. — 65, 66, 505, 508.
Вильгельм 1, принц Прусский (1797—1888) — принц-регент (1858—1861), прусский король (1861—1888) и германский император (1871-1888). - 327, 330, 504, 529.
Вильгельм 1 (1781—1864) — вюртем-бергский король (1816—1864). — 28.
Вильгельм I Оранский («Молчаливый»), принц Оранский, граф Нассауский (1533—1584) — нидерландский политический деятель периода буржуазной революции XVI в., в 1572 г. призван на пост статхаудера (штатгальтера, наместника) Нидерландов. — 334.
Вильгельм III Оранский (1650— 1702) — статхаудер ' (наместник) Нидерландов (1672—1702), английский король (1689—1702). —• 239, 267, 339-341.
Вильгельм IV (1765—1837) — анг лийский король (1830—1837). —. 425.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
681
Вильгельм V (1602—1637) — ландграф земли Гессен-Кассель (1627-1637). — 236.
ВилъгелъмУ (1748—1806) — статхау-дер Нидерландов с 1751 г., в 1784 г. изгнан из страны, в 1787 г. его власть была восстановлена в результате прусской интервенции, в 1795 г. свергнут французскими войсками, муж сестры Фридриха-Вильгельма IF . — 241.
Вильденбрух (Wildenbruch), Луи (1803—1874) — прусский дипломат, в 1848 г. посланник в Копенгагене. — 62.
Винченцо II Гонзага (1594—1627) — последний герцог Мантуанский из рода Гонзага, правил с 1626 года; кардинал с 1615 года. — 336.
Висконти (Visconti), Валентина, герцогиня (1366—1408) — бабка французского короля Людовика XII ; происходила из знатного миланского рода. — 332.
Витгенштейн, Петр Христианович, граф (1768—1842) — русский генерал, участник войн против наполеоновской Франции, в апреле — мае 1813 г. главнокомандующий русско-прусскими войсками. — 296.
Волъмейнер (Wohlmeiner), Иоганн Готфрид (род. ок. 1826 г.) — немецкий архитектор; участник вооруженного восстания в Эль-берфельде в мае 1849 года. — 498, 499.
Вольтер (Voltaire), Франсуа Мари (настоящая фамилия Арг/»)(1694— 1778) — французский философ-деист, писатель-сатирик, видный представитель буржуазного Просвещения XVIII в., боролся против абсолютизма и католицизма.— 307.
Вольф — иезуит, духовник императора Леопольда I . — 239.
Вольф (Wolf), Вильгельм («Лупус») (1809—1864) — немецкий пролетарский революционер, по профессии учитель, сын силезского крепостного крестьянина; с марта
1848
г. член Центрального коми
тета Союза коммунистов, в 1848—
1849 гг. один из редакторов
«Neue Rheinische Zeitung», депутат франкфуртского Национального собрания; друг и соратник Маркса и Энгельса. — 39, 40, 358, 359, 368-370.
Вольф ( Wolff ), Луиджи — итальянский майор, сторонник Мадзини, член Генерального Совета Интернационала (1864—1865), в 1871 г. разоблачен как агент французской полиции. — 410.
Вольф ( Wolf ), Фердинанд («Красный Вольф») (1812—1895) — немецкий публицист, член Союза коммунистов, в 1848—1849 гг. один из редакторов «Neue Rheinische Zeitung»; при расколе Союза коммунистов в 1850 г. — сторонник Маркса; впоследствии отошел от политической деятельности. — 40.
Врублевский (Wroblewski), Валерий Антоний (1836—1908) — деятель польского и международного рабочего движения, революционный демократ, один из руководителей польского освободительного восстания 1863—1864 гг.; генерал Парижской Коммуны, член Генерального Совета Интернационала и секретарь-корреспондент для Польши (1871—1872), принимал активное участие в борьбе против бакунистов. — 466, 472.
Вудхалл (Woodhull), Виктория (1838—1927) — американская буржуазная феминистка, возглавляла секцию № 12, исключенную из Интернационала. — 429, 431 — 436.
Вулф (Wolfe), Джеймс (1727— 1759) — английский генерал, участник военных действий в Канаде во время Семилетней войны (1756-1763). — 346.
В у хер (Wucher), Леопольд (ум. до 1898 г.) — немецкий рабочий-портной, член I Интернационала, председатель секции портных в Женеве. — 392.
Г
Габсбурги — династия императоров так называемой Священной Римской империи с 1273 по 1806 г.
682
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(с перерывами), австрийских императоров (с 1804 г.) и императоров Австро-Венгерской монархии (1867-1918). - 278, 334, 335, 339, 344, 353, 356.
Гайнау (Haynau), Юлиус Якоб (1786—1853) — австрийский генерал, жестоко подавивший революционное движение в Италии и Венгрии в 1848—1849 годах. — 504.
Галер (Galeer), Альберт (1816— 1851) — швейцарский учитель и литератор, демократ; участник войны против Зондербунда в Швейцарии в 1847 г. и баденско-пфальцского восстания 1849 г.; член Большого совета Женевы. — 501.
Гандийон (Gandillon), Ами. — 392.
Гарбани (Garbani), Поль. — 392.
Гарденберг (Hardenberg), Карл Август, князь (1750—1822) — прусский государственный деятель и дипломат; министр иностранных дел (1804—1806 и 1807), государственный [канцлер (1810— 1822); в целях укрепления прусского государства провел ряд буржуазных реформ (1810—1813); сторонник политики Священного союза. — 354.
Гарибальди (Garibaldi), Джузеппе (1807—1882) — вождь национально-освободительного движения Италии; участник революции 1848—1849 гг. в Италии; в 50— 60-х годах возглавлял борьбу итальянского народа за национальное освобождение и объединение страны; в 70-х годах выступил в защиту Парижской Коммуны, приветствовал создание секций Интернационала в Италии. - 415, 418-420, 422, 423.
Гарни ( Harney ), Джордж Джулиан (1817—1897) — видный, деятель английского рабочего движения, один из вождей левого крыла чартизма; редактор ряда чартистских изданий; с 1862 по 1888 г. (с перерывами) жил в США; член I Интернационала; поддерживал дружеские связи с Марксом и Энгельсом, *- 571,
Гарнъе-Пажес (Garnier-Pagès), Луи Антуан (1803—1878) — французский политический деятель, умеренный буржуазный республиканец, в 1848 г. член Временного правительства и мэр Парижа, член правительства национальной обороны (1870—1871). — 45.
Гарсиа де ла Куэста (Garcia de la Cuesta), Грегорио (1741—1811) — испанский генерал, участник ос вободительной войны против наполеоновского господства (1808— 1814). — 208.
Гебриан (Guébriant), Жан Батист Бюд, граф (1602—1643) — маршал Франции; участник Тридцатилетней войны (1618—1648). — 336.
Гей (Gay), Дезиро. — 392.
Гей (Gay), Жюль (1807 — ум. после 1876 г.) — французский публицист, коммунист- утопист, Оуэнист; в 1849 г. издавал в Париже газету «Le Communiste»; член Интернационала. — 392.
Гей (Gay), Франсуа. — 392.
Гейнцен (Heinzen), Карл (1809—> 1880) — немецкий публицист радикального направления, мелкобуржуазный демократ; выступал против Маркса и Энгельса. —180.
Геккер (Нескег) — прусский судебный чиновник, в 1848 г. прокурор в Кёльне. — 369.
Генриетта Мария (1609—1669) — английская королева, жена Карла I, дочь французского короля Генриха IV. — 336.
Генрих II (1519—1559) — французский король (1547—1559). — 276, 333, 334.
Генрих III (1551—1589) — французский король (1574—1589). — 335.
Генрих /7(1553—1610) — французский король (1589—1610). — 279, 335.
Генрих V — см. Шамбор. Анри Шарль.
Генрих VII (1457—1509) —английский король (1485—1509). — 276.
Генрих VIII (1491-1547) - английский король (1509—1547). — 276, 332-334,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
683
Георг I (1660—1727) — английский король (1714—1727), курфюрст Ганноверский. — 267, 268, 342.
Георг-Вильгельм
(1595—1640) —
Бранденбургский
курфюрст
(1619—1640). — 236, 237.
Георг-Фридрих (1539—1603) — регент герцогства Пруссия с 1571 г., правитель Байрёйта и маркграф Ансбаха из франконско-бранден-бургской ветви династии Гоген-цоллернов. — 234.
Гепнер (Нерпег), Адольф (1846— 1923) — немецкий социал-демократ, один из редакторов газеты «Volksstaat», во время франко-прусской войны стоял на позициях пролетарского интернационализма; во время первой мировой войны социал-шовинист. — 460.
Герберт (Herbert), Оберон Эдуард Уильям (1838—1906) — английский философ и публицист, либерал, член палаты общин (1870— 1874). — 530.
Герри (Guerry). — 392.
Гиббоне (Gibbons), Силе Джон — в 1871 г. лорд-мэр Лондона. — 426.
Гизо (Guizot), Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский буржуазный историк и государственный деятель, с 1840 г. до Февральской революции 1848 г. фактически руководил внутренней и внешней политикой Франции, выражал интересы крупной финансовой буржуазии. — 5, 20, 307.
Гийо (Guyot, Ch.). — 392.
Гильмо (Guillmeaux) — член Романской федерации I Интернационала, председатель секции слесарей и механиков. — 392.
Гилъом (Guillaume), Джемс (1844— 1916) — швейцарский учитель, анархист, сторонник Бакунина, один из организаторов Альянса социалистической демократии; член Интернационала, участник его конгрессов; на Гаагском конгрессе был исключен из Интернационала за раскольническую деятельность; в годы первой мировой войны социал-шовинист. —
403, 406, 460, 461, 474, 475, 488, 557, 561.
Гине (Guinet), Женни. — 392.
Гирш (Hirsch), Вильгельм — приказчик из Гамбурга, в начале 50-х годов XIX в. прусский полицейский агент в Лондоне. — 508.
Гискра (Giskra), Карл (1820—1879)— австрийский государственный деятель, министр внутренних дел (1867-1870). - 455.
Гладстон (Gladstone), Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный деятель, тори, затем пилит, во второй половине XIX в. лидер либеральной партии; канцлер казначейства (1852— 1855 и 1859—1866) и премьер-министр (1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892-1894). — 186, 187, 221, 406, 472, 528-530, 556, 571.
Глин (Glyn), Джордж Гренфелл (1824—1887) — английский банкир, либерал, член парламента, секретарь казначейства (1868— 1873). - 571, 575.
Гнам (Gnam) — немецкий демократ, участник революции 1848— 1849 гг. в Германии; в 1852 г. эмигрировал в США. — 501, 502.
Гогенцоллерн-Зигмаринген
(Hohen-
zollern-Sigmaringen), Карл-Антон,
принц (1811—1885) — прусский
генерал,
министр-президент
(1858-1862). - 328.
Гогенцоллерны — династия бран-денбургских курфюрстов (1415— 1701), прусских королей (1701 — 1918) и германских императоров (1871-1918). - 229.
Голицын, Александр Михайлович, князь (1718—1789) — русский дипломат, посол в Англии (1755— 1762), вице-канцлер (1762— 1775). — 346.
Гомер — полулегендарный древне греческий эпический поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи». — 307.
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65—8 г. до н. э.) — выдающийся римский поэт. — 313.
Горчаков, Александр Михайлович, князь (1798—1883) — русский го-
684
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
сударственный деятель и дипломат, посол в Вене (1854—1856), министр иностранных дел (1856— 1882) и канцлер (1867—1882). — 525.
Горчаков, Михаил Дмитриевич, князь (1793—1861) — русский военный деятель, генерал; во время Крымской войны командующий войсками на Дунае (1853— 1854), с 24 февраля до конца 1855 г. командующий войсками в Крыму. — 198.
Готлоб (Gottlob), Вальтер. — 392.
Гранвилл ( Granville ), Джордж Лу-сон-Гоэр, граф (1815—1891) — английский государственный деятель, виг, впоследствии один из лидеров либеральной партии, министр иностранных дел (1851—1852, 1870-1874 и 1880—1885). - 530.
Гранж ( Grange ), Шарль — швейцарский рабочий-штукатур, член женевской секции Интернационала «Альянс социалистической демократии». — 392.
Гранье де Кассанъяк (Granier de Cassagnac ),Адольф (1806—1880)— французский журналист, беспринципный политик, до революции 1848 г. орлеанист, затем бонапартист; в период Второй империи депутат Законодательного корпуса; сотрудничал в газете «Constitutionnel», в 50-х годах — главный редактор газеты «Pays». — 22.
Грей
(Gray
), Джон (1798—1850) —
английский экономист, социа
лист-утопист,
последователь
Р. Оуэна; один из авторов теории
«рабочих денег». — 146.
Грель ( Grail , E.) — французский легитимист. — 8.
Гриббе — русский генерал, участник Крымской войны. — 210, 214.
Гроссе (Grosse), Эдуард — немецкий эмигрант в США, лассальянец, член Интернационала. — 435.
Гумперт ( Gumpert ), Эдуард (ум. в 1893 г.) — немецкий врач в Манчестере, один из друзей Маркса и Энгельса, — 368,
Густав I Ваза (1496—1560)— швед ский король (1523—1560). — 332.
Густав II Адольф (1594—1632) — шведский король (1611—1632) и полководец. — 236, 237, 335, 336-, 338.
Гюго ( Hugo ), Виктор (1802—1885)— великий французский писатель.— 225.
Гюден ( Gudin ), Шарль Габриэль Сезар, граф (1798—1874) — адъютант короля Луи-Филиппа, французский маршал (с 1846 г.); в 1847 г. за шулерство был уволен со службы. — 44.
д
Давид (David), Эдуард — деятель французского и американского рабочего движения, на Гаагском конгрессе Интернационала (1872) был избран в Генеральный Совет, от избрания отказался. — 473.
Далгреп ( Dahlgren ), Джон Адольф (1809—1870) — американский морской офицер и военный изобретатель, с 1863 г. адмирал, автор ряда работ по морской артиллерии. — 361.
Даллас (Dallas), Эней Суитленд (1828—1897) — парижский корреспондент газеты « Times ». — 399.
Даниэлъс ( Daniels ), Роланд (1819— 1855) — немецкий врач, один из руководителей Союза коммунистов; обвиняемый на кёльнском процессе коммунистов (1852) ; друг Маркса и Энгельса. — 508.
Данкомб ( Duncombe ), Томас Слинг-сби (1796—1861) — английский политический деятель, буржуазный радикал, в 40-х годах участвовал в чартистском движении, член парламента. — 188.
Дарий I Гистасп (550—486 г. до ц. э.) — древнеперсидский царь (522—486). — 290.
Даун ( Daun ), Леопольд, граф (1705—1766) — австрийский генерал-фельдмаршал (с 1754 г.), участник Семилетней войны (1756-1763). - 346,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
685
Девис (Davis), Аира — американский мелкобуржуазный радикал.— 434.
Дейс ( Days ), Альфред — член Британского федерального совета (1873), участник съезда Британской федерации в Манчестере. — 584.
Деламар ( Delamarre ), Теодор Казимир (1797—1870) — французский банкир и публицист, с 1844 г. владел газетой «La Patrie», бонапартист. — 22.
Делеклюз (Delescluze), Луи Шарль (1809—1871) — французский мелкобуржуазный революционер, участник революций 1830 и 1848 гг.; в 1854 г. приговорен к 4 годам тюрьмы, по истечении срока сослан на каторгу в Кайенну; член Парижской Коммуны, примыкал к бланкистско-якобин-скому большинству, погиб на баррикаде во время уличных боев в Париже в мае 1871 года. — 308.
Де Пап (De Paepe), Сезар (1841 — 1890) — видный деятель бельгийского рабочего и социалистического движения, типографский рабочий, затем врач; один из основателей бельгийской секции Интернационала, член Бельгийского федерального совета, коллективист, делегат конгрессов и конференций Интернационала; после Гаагского конгресса (1872) некоторое время поддерживал бакунистов; один из основателей бельгийской Рабочей партии (1885).— 404.
Дерби ( Derby ), Эдуард Джордж Джефри Смит Стэнли, граф (1799—1869) — английский государственный деятель, лидер тори, впоследствии один из лидеров консервативной партии, премьер-министр (1852, 1858—1859 и 1866-1868). - 223, 312, 314, 530, 533.
Дерёр ( Dereure ), Симон (1838— 1900) — деятель французского рабочего и международного движения; по профессии сапожник; бланкист, член Парижской Ком-
муны, после подавления Коммуны эмигрировал в США, член Генерального Совета (1872—1874); с 1882 г. — член французской Рабочей партии. — 473.
Детра (Détraz, Ch.). — 392.
Дефлотт или Де Флотт (Deflotte, De Flotte), Поль Луи Франсуа Рене(1817—1860) —французский морской офицер; демократ и социалист; приверженец Бланки, затем Барбеса; участник Июньского восстания 1848 г., депутат Законодательного собрания (март 1850—1851); после государственного переворота 2 декабря 1851 г. эмигрировал, затем нелегально вернулся во Францию; в 1860 г. командовал французскими добровольцами — участниками сицилийского похода Гарибальди. — 12, 16.
Джессеп ( Jessup ), Уильям Дж. — деятель американского рабочего движения,по профессии корабельный плотник; секретарь-корреспондент Национального рабочего союза США от штата Нью-Йорк (1867), один из руководителей Союза рабочих Нью-Йорка; корреспондент Генерального Совета Интернационала в США. — 522.
Джилъмор ( Gillmore ),Куинси Адаме (1825—1888) — американский генерал и военный инженер, участник Гражданской войны в США на стороне северян. — 364—366.
Джонс (Jones), Эрнест Чарлз (1819—1869) — выдающийся деятель английского рабочего движения, пролетарский поэт и публицист, один из вождей левого крыла чартизма и один из редакторов «Northern Star », редактор « Notes to the People » и « People' s Paper»; друг Маркса и Энгельса.— 571.
Джордж ( Geordge , J.) — член Британского федерального совета Интернационала. — 584.
Дибич-Забалканский, Иван Иванович, граф (1785—1831) — русский генерал-фельдмаршал (с 1829 г.); во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. фактически руко«
686
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
водил военными действиями на Балканах, с февраля 1829 г. главнокомандующий. — 202.
Дидьер (Didier), Генрих — участник революции 1848—1849 гг. в Германии, мелкобуржуазный демократ, в начале 50-х годов принимал участие в издании ряда газет немецких демократов-эмигрантов в США. — 503.
Диаразли ( Disraeli ), Бенджамин, граф Виконсфилд (1804—1881) — английский государственный деятель и писатель, один из лидеров тори, впоследствии лидер консервативной партии, премьер-министр (1808, 1874-1880). — 520.
Дилк (Dilko), Чарлз Уантворт (1843—1911) — английский политический деятель и писатель, один из лидеров радикального крыла либеральной партии, член парламента. — 472.
Динтер ( Dintor , J. G.) — немецкий рабочий-рудокоп, руководитель союза горнорабочих в Цвиккау.— 519.
Диц (Dietz), Освальд (ок. 1824— 1864) — немецкий архитектор из Висбадена, участник революции 1848—1849 гг., член Союза коммунистов; после раскола Союза в 1850 г. принадлежал к сек-тантско-авантюристической фракции Виллиха — Шаппера; участ ник Гражданской войны в США на стороне северян. — 509.
Дона (Donat). — 392.
Дон Карлос — см. Карл III .
Дост-Мухаммед (1793—1863) — афганский эмир (1826—1863). — 252, 257-259.
Дроз ( Droz ), Франсуа Ксавье Жозеф (1773—1851) — французский буржуазный историк, философ и экономист. — 150.
Дронке ( Dronke ), Эрнст (1822— 1891) — немецкий публицист, член Союза коммунистов, один из редакторов «Neue Rheinische Zeitung»; во время раскола Союза коммунистов (1850) — сторонник Маркса и Энгельса; впоследствии отошел от политической деятельности. — 368,
Дуглас ( Douglass ), Фредерик (ок. 1817—1895) — выдающийся деятель аболиционистского движения, участник рейда Дж. Брауна в 1855 г., участник Гражданской войны в США; активный борец за женские права. — 434.
Дюваль ( Duval ), Эмиль Виктор (1841 — 1871) — деятель французского рабочего движения, по профессии литейщик, бланкист, секретарь Федерального совета парижских секций Интернационала, член ЦК национальной гвардии и Парижской Коммуны, генерал национальной гвардии Коммуны; 4 апреля 1871 г. взят в плен и расстрелян версальца-ми. — 404, 538.
Дювержъе де Оранп (Duvergior de Hauranne), Проспер (1798— 1881) — французский либеральный политический деятель и публицист. — 315.
Дюжарье (Dujarrier). — 44.
Дюмурье (Dumouriez), Шарль Франсуа (1739—1823) — французский генерал и политический деятель периода буржуазной революции конца XVIII века, жирондист, в 1792—1793 гг. командовал северной революционной армией; в марте 1793 г. изменил Французской республике. — 284.
Дюно (Dunaud), Антуан — швейцарский рабочий-гравер; на съезде Романской федерации Интер национала в Ла-Шо-де-Фоне (ап рель 1870) выступил против баку нистов. — 392.
Дюпен (Dupin), Андре Мари Жан Жак (1783—1865) —французский юрист и политический деятель, орлеанист, председатель Законо дательного собрания (1849—1851 ) ; впоследствии бонапартист. — 11.
Дюпон (Dupont), Эжен (ок. 1831 — 1881) — видный деятель между народного рабочего движения, французский рабочий, мастер му зыкальных инструментов, участ ник Июньского восстания 1848 го да; с 1862 г. жил в Лондоне; член Генерального Совета Интерна-
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
687
ционала (ноябрь 1864—1872), секретарь-корреспондент для Франции (1865—1871), участник конгрессов и конференций Интернационала, проводил линию Маркса, в 1872 г. вошел в Британский федеральный совет Интернационала; в 1874 г. переехал в США.— 394, 402, 403, 405, 407, 466, 472, 515, 522, 538, 570, 584.
Дюпон де л'Эр (Dupont de l'Eure), Жак Шарль (1767 — 1855) — фран цузский политический деятель, либерал; участник буржуазной революции конца XVIII в. и революции 1830 года; в 1848 г. председатель Временного правительства. — 45.
Дюпоти (Dupoty), Мишель Огюст (1797—1864) — французский публицист, участвовал в издании ряда газет республиканско-де-мократического направления.— 309.
Дюпра (Dupras), Луи — делегат строительных рабочих Женевы на переговорах с правительством во время их стачки весной 1869 года. — 392.
Дюпра (Dupraz), Паскаль (1815— 1885) — французский политический деятель, журналист, буржуазный республиканец; в период Второй республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, выступал против Луи Бонапарта. — 11.
Дюфор (Dufaure), Жюль Арман Станисла (1798—1881) — французский буржуазный политический деятель, орлеанист, министр юстиции (1871—1873); автор закона, запретившего секции Интернационала во Франции (1872). — 457.
Е
Евгений Савойский, принц (1663— 1736) — австрийский полководец и дипломат. — 285.
Екатерина II (1729—1796) — русская императрица (1762—1796)."— 267, 278, 347—350, 526.
Екатерина Медичи (1519—1589) — французская королева, жена фран-
цузского короля Генриха II. — 333.
Елизавета — см. Елизавета Валуа.
Елизавета — см. Фарнезе, Елизавета.
Елизавета Валуа (Елизавета Французская) (1545—1568) — дочь французского короля Генриха II , жена (с 1559 г.) испанского короля Филиппа II . — 334.
Елизавета Петровна (1709—1761) — дочь Петра I; русская императрица (1741—1761). — 345, 346.
Елизавета Тюдор (1533—1603) — английская королева (1558— 1603), последняя из династии Тюдоров. — 334, 335.
Ж
Жабокритский, Осип Петрович (1793—1866) — русский генерал, участиик Крымской войны. — 210, 213, 215.
Жаклар (Jaclard), Шарль Виктор (1843—1903) — французский публицист, бланкист, член I Интернационала, вошел в инициативную группу Альянса социалистической демократии, но вскоре порвал с бакунистами; член ЦК национальной гвардии и активный участник Парижской Коммуны; после подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию, затем в Россию; после амнистии 1880 г. вернулся во Францию и продолжал участвовать в социалистическом движении. — 392.
Жерар (Gérard), Этьенн Морис (1773—1852) — французский маршал и государственный деятель, орлеанист. — 288.
Жижка (Zizka), Ян (ок. 1360— 1424) — деятель гуситского революционного движения, полководец, национальный герой чешского народа. — 230.
Жомини (Jomini), Анри (Антон-Генрих Вениаминович) (1779— 1869) — генерал на французской, затем на русской службе, автор ряда работ по стратегии и военной истории; по происхождению швейцарец. — 292,
23 M, a д., т. 44
688
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Жост (Jost), Жан — секретарь секции слесарей, механиков и литейщиков в Женеве. — 392.
Жуан VI (1769-1826) —король Португалии (1816—1826).— 354, 355.
Жуанвилъ (Joinville), Франсуа Фер-динан Филипп Луи Мари, герцог Орлеанский, принц (1818—1900)—■ сын Луи-Филиппа; после Февральской революции 1848 г. эмигрировал в Англию. — 20, 36.
Жуковский, Николай Иванович (1833—1895) — участник петербургских революционных кружков начала 60-х годов; с 1862 г. эмигрант в Швейцарии, анархист, один из руководителей тайного Альянса. — 392, 560, 561.
Журд (Jourdo), Франсуа (1843— 1893) — деятель французского рабочего движения, правый прудонист, но профессии банковский служащий; член I Интернационала, ЦК национальной гвардии и Парижской Коммуны, руководитель финансовой комиссии Коммуны; после подавления Париж ской Коммуны был сослан в Новую Каледонию, откуда бежал в 1874 году. — 400.
Жюръе (Jurieu), Пьер (1637—1713)— французский теолог, протестант, противник абсолютизма. — 162.
3
Загорский (Zagorsky), Ян — польский эмигрант в Швейцарии, входил в комитет Лиги мира и свободы. — 392, 393.
Замперини ( Zamperini , I.) — итальянский рабочий-шляпник, член итальянской женевской секции I Интернационала. — 392.
Заполья (Zapolya или Szapolyai), Янош (Иоанн) (1487—1540) — трансильванский воевода; руководил подавлением крестьянского восстания 1514 г. в Венгрии; в 1526 г. был провозглашен королем Венгрии. — 333, 334.
Зауэр (Sauer), Генрих — свидетель на процессе по делу участников
вооруженного восстания в Эльбер-фельде в мае 1849 года. — 498. Зорге (Sorge), Фридрих Адольф (1828—1906) — видный деятель международного и американского рабочего и социалистического движения, участник революции 1848—1849 гг. в Германии; организатор американских секций I Интернационала, секретарь Федерального совета; делегат Гаагского конгресса (1872), член Генерального Совета в Нью-Йорке (1872—1874), активный пропагандист марксизма; друг и соратник Маркса и Энгельса. — 536, 558, 560, 562, 563, 567.
И
Ибрахим-паша (ок. 1789 —1848) — египетский полководец и государственный деятель; командующий египетской армией (1816— 1841), принимал участие в борьбе против греческого национально- освободительного восстания (1824—1827), в войнах Египта против Турции (1831—1833 и 1839—1841); с 1844 г. соправитель своего отца Мухаммеда-Али, с 1847 г. — фактический правитель Египта; в 1848 г. назначен наследным пашой Египта. — 281, 355.
Иоахим-Фридрих
(1546—1608) —
Бранденбургский
курфюрст
(1598-1608). - 233-235.
Иоахим
I
Нестор
(1484—1535) —
Бранденбургский
курфюрст
(1499-1535). - 232.
Иоахим
II
Гектор
(1505—1571) —
Бранденбургский
курфюрст
(1535-1571). - 232-234.
Иоганн (1782—1859) — австрийский эрцгерцог, с июня 1848 по декабрь 1849 г. имперский регент Германии. — 27, 29, 352.
Иоганн-Георг
I
(1525—1598) —
Бранденбургский
курфюрст
(1571-1598). - 233.
Иоганн-Георг I (1585—1656) — кур-
|
t |
ropcT
Саксонский (1611—1656).—
36.
И оганн-Сигизмунд (1572—1619) —
Бранденбургский
курфюрст
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
689
(1608—1619), прусский герцог (с 1618 г.). - 233-235.
Иоганн II (1513—1571) — маркграф Новой марки, брат Бранденбург-ского курфюрста Иоахима II Гектора. — 232.
Иоганн Цицерон
(1455—1499) —
Бранденбургский
курфюрст
(1486-1499). — 232.
Иосиф
I
(1678—1711)
— император
так называемой Священной Римс
кой империи (1705—1711), король
Венгрии
(1687—1711).—340,
341.
Иосиф II (1741—1790) — соправитель своей матери Марии-Тере-зии (1765—1780), правитель Австрийской монархии (1780—1790), император так называемой Священной Римской империи (1765— 1790). — 347, 348.
Иосиф-Фердинанд, принц (1692— 1699) — наследник престола курфюршества Бавария и предполагавшийся наследник испанского престола. — 340.
Ипсиланти, Александр (1792— 1828) — деятель греческого национально-освободительного движения,генерал-майор русской армии, участник Отечественной войны 1812 г.; в 1821 г. пытался поднять восстапие в Молдавии, после его поражения бежал в Австрию, был арестован и до 1827 г. находился в заключении; освобожден благодаря вмешательству России. — 354.
Й
Йорк (Yorck), Ганс Давид Людвиг, граф Вартенбург (1759—1830) — прусский генерал, участник войн против наполеоновской Франции. — 296.
К
Кабэ (Cabet), Этьенн (1788—1856) — французский публицист, видный представитель мирного утопического коммунизма, автор книги «Путешествие в Икарию». — 158.
Каванах (Kavanagh), Самюэл — участник американского рабочего движения; по национальности ир-
ландец; член Генерального Совета, избранного Гаагским конгрессом (1872). — 466, 473.
Кавенъяк (Cavaignac), Луи Эжен (1802—1857) — французский генерал и политический деятель, умеренный буржуазный республиканец; с исключительной жестокостью подавил Июньское восстание парижских рабочих; глава исполнительной власти (июнь — декабрь 1848). — 18, 177.
Кавур (Cavour), Камилло Бензо, граф (1810—1861) — итальянский государственный деятель, идеолог и лидер либерально-монархической буржуазия и обуржуазившегося дворянства, глава правительства Пьемонта (1852— 1859 и 1860—1861), проводил политику объединения Италии «сверху»; в 1861 г. возглавил первое общеитальянское правительство. — 318.
Кадио (Cadiot или Cadrot) — Француз, участник Парижской Коммуны. — 409.
Камберлендский ( Cumberland ),
Уильям Август, герцог (1721 — 1765) — английский генерал; сын Георга II ; в начальный период Семилетней войны (1756—1763) командовал английскими войсками. — 346.
Каменский, Михаил Федотович, граф (1738—1809) — русский генерал-фельдмаршал, в 1806 г. главнокомандующий в войне против наполеоновской Франции. — 291.
Кампгаузен (Camphausen), Людольф (1803—1890) — немецкий банкир, один из лидеров рейнской либеральной буржуазии; в марте — июне 1848 г. министр-президент Пруссии, проводил предательскую политику соглашения с реакцией. — 33.
Каннинг ( Canning ), Джордж (1770— 1827) — английский государственный деятель и дипломат, один из лидеров тори, министр иностранных дел (1807—1809, 1822— 1827), премьер-министр (1827). — 268, 354, 355.
23*
690
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Каннинг ( Canning ), Чарлз Джон (1812—1862) — английский государственный деятель,тори, затем пилит; генерал-губернатор Индии (1856—1862), организатор подавления национально-освободительного восстания 1857—1859 гг. в Индии. — 257, 304.
Каподистрия, Иоаннис (1776— 1831) — греческий государственный деятель; в 1809—1822 гг. находился на русской дипломатической службе, статс-секретарь по иностранным делам России (1815—1822); президент Греции (1827—1831); убит в результате заговора. — 354, 355.
Капоруссо ( Caporusso ), Стефано — итальянский анархист, по профессии портной, один из основателей неаполитанской секции Интернационала, в 1870 г. исключен из секции за растрату денег. — 406.
Капфиг ( Capefigue ), Жан Батист Оноре Ремон (1802 -1872) — французский публицист и историк, монархист. — 22.
Кардиган ( Cardigan ), Джемс Томас Бруднелл, граф (1797—1868) — английский генерал, в 1854 г. командовал кавалерийской бригадой в Крыму. — 213.
Кардуэлл (Cardwell), Эдуард (1813— 1886) — английский государственный деятель, вначале примыкал к тори, впоследствии либерал, военный министр (1868— 1874). - 530.
Карл (Carl), Конрад (ум. в 1890 г.) — немецкий эмигрант в США (с 1854 г.), по профессии портной; член Нью-Йоркского Коммунистического клуба (1867); член Нью-Йоркского федерального совета Интернационала (1871); избран Гаагским конгрессом (1872) в Генеральный Совет; в 1873 г. редактор газеты «Arbeiter-Zeitung»; после 1875 г. отошел от рабо чего движения. — 466.
Карл — см. Карл Австрийский.
Карл, герцог Неверский — см. Карло I Гонзага.
Карл, эрцгерцог — см. Карл VI .
Карл I (Карл-Фридрих) (1700— 1739) — герцог Гольштейн-Гот-торпский. — 342, 343.
Карл I (1600—1649) — английский король (1625—1649), казнен во время английской буржуазной революции XVII века. — 336.
Карл II (1630—1685) — английский король (1660—1685). — 339.
Карл II (1661—1700) —испанский король (1665—1700). — 338—340.
Карл III (1716—1788) — испанский король (1759—1788); король Неаполя (под именем Карла VII ) и Сицилии (под именем Карла IV ) (1735-1759). - 208, 278, 343.
Карл V (1500—1558) — император так называемой Священной Римской империи (1519—1556) и испанский король (1516—1556) под именем Карла (Карлоса) I ; принц Нидерландов (1516—1555); король Сицилии (1516—1556). — 232, 233, 276, 277, 332—334, 349.
Карл VI (1685—1740) — император так называемой Священной Римской империи (1711—1740), сын Леопольда I . —240, 340, 341—344.
Карл VII Альбрехт (1697—1745) — курфюрст Баварский (1726— 1745); император так называемой Священной Римской империи (1742-1745). - 278, 344, 345.
Карл VIII (1470-1498) - французский король (1483—1498). — 275 276
Карл' IX (1550-1574) - французский король (1560—1574). — 334.
Карл X Густав (1622—1660) — шведский король (1654—-1660). —• 238, 338.
Карл X (1757-1836) - французский король (1824—1830). — 354.
Карл XI (1655—1697) — шведский король (1660—1697). — 338.
Карл XII (1682—1718) — шведский король (1697-1718). - 240,340— 342.
Карл Австрийский, эрцгерцог (1771—1847) — австрийский полководец и военный теоретик; с 1792 по 1809 г. участвовал
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
691
в войнах против наполеоновской Франции. — 352.
Карл Александр (ум. в 1806 г.) — маркграф Ансбаха и Байрёйта. — 241.
Карл Альберт (1798—1849) — король Пьемонта (Сардинского королевства) (1831—1849). — 356.
Карло I Гонзага (1580—1637) — герцог Неворский и Мантуанский (1627—1637). - 336.
Карл Смелый (1433—1477) — бургундский герцог (1467—1477). — 275.
Карл-Эммануил IIJ (1701 —1773) — король Пьемонта (Сардинского королевства) (1730—1773), герцог Савойский. — 343.
Карл-Эммануил IV (1751 — 1819) — король Пьемонта (Сардинского королевства) (1796—1802), герцог Савойский. — 351.
Карлье ( Carlier ),Пьер (1799—1858)— префект парижской полиции (1849—1851), бонапартист. — 154.
Кармартен — см. Осборн.
К ар но ( Carnot ), Лазар Ипполит (1801—1888) — французский публицист и политический деятель, буржуазный республиканец; в 1848 г. министр просвещения Временного правительства, депутат Учредительного и Законодательного собраний. — 12.
Каррель ( Carrel ), Арман (1800— 1836) — французский буржуазный публицист, либерал; один из основателей и редактор газеты « National ». — 309.
Каслри ( Castlereagh ), Роберт Стюарт, лорд Лондондерри (1769— 1822) — английский государственный деятель, тори; министр иностранных дел (1812—1822), на Венском конгрессе 1814— 1815 гг. заключил тайный договор с Австрией и Францией о союзе против России и Пруссии.— 353, 354.
Кастаньос-и-Арагони (Castanos y Aragoni ), Франсиско Хавьер (1758—1852) — испанский генерал, участник войны за независимость (1808-1814). - 209.
Каталин ( Catalan ), Адольф — швейцарский радикальный журналист, редактор газеты «Liberté», член I Интернационала. — 392.
Каткарт ( Cathcart ), Джордж (1794—1854) — английский генерал и военный писатель, в 1854 г. командовал дивизией в Крыму. — 210, 213.
Катрина (1584 —1638) — мать
шведского короля Карла X Густава. — 338.
Каули ( Cowley ), Генри Ричард Чарлз Уэлсли, барон (1804— 1884) — английский дипломат, посол в Париже (1852—1867). — 318.
Кауниц ( Kaunitz ), Венцель Антон, князь (1711—1794) — австрийский государственный деятель и дипломат, государственный канцлер (1753—1792). — 345.
Kay элл (Cowell), Джордж — английский рабочий, чартист, один из руководителей престонской забастовки 1853—1854 годов. — 189.
Кафьеро (Cafiero), Карло (1846— 1892) — участник итальянского рабочего движения, член I Интернационала, в 1871 г. проводил в Италии линию Генерального Совета; с 1872 г. один из руководителей итальянских анархистских организаций, в конце 70-х годов отошел от анархизма; в 1879 г. издал краткое изложение I тома «Капитала» Маркса на итальянском языке. — 410, 469.
Келлерман (Kellermann), Франсуа Кристоф (1735—1820) — французский генерал, участник войн Французской республики против коалиций европейских государств и походов Наполеона I , впоследствии легитимист. — 294.
Кембриджский (Cambridge), Джордж Уильям Фредерик Чарлз, герцог (1819—1904) — английский генерал, в 1854 г. командовал дивизией в Крыму, главнокомандующий английской армией (1856— 1895). — 206, 210.
Кенэ (Quesnay), Франсуа (1694— 1774) — крупнейший французский
692
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕЯ
экономист, основатель школы физиократов; по профессии врач.— 152.
Киселев, Павел Дмитриевич, граф (1788—1872) — русский государственный деятель и дипломат, генерал, участник Отечественной войны 1812 г., в 1829—1834 гг. глава русской администрации в Молдавии и Валахии; с 1835 г. постоянный член всех секретных комитетов по крестьянскому делу, министр государственных имуществ (1837—1856), посол в Париже (1856—1862). — 271.
Клапка (Klapka), Дьёрдь (Георг) (1820—1892) — венгерский генерал, в период революции 1848—-1849 гг. командовал одной из венгерских революционных армий. — 178, 179.
Кларендон (Clarendon), Джордж Уильям Фредерик Вильерс, граф (1800—1870) — английский государственный деятель, виг, впоследствии либерал; министр иностранных дел (1853—1858, 1865— 1866 и 1868-1870). - 526, 533.
Клафлин (Claflin), Теннесси (1845— 1923) —американская буржуазная феминистка, пыталась использовать в своих интересах организацию Интернационала в США. — 429, 431, 435.
Клейн (Klein), Якоб — немецкий эмигрант в Лондоне. — 501.
Клейнер (Kleiner, W.) — немецкий эмигрант в Лондоне — 501.
Клеопатра VII (69—30 г. до н. э.)— последняя египетская царица династии Птолемеов. — 282.
Климент VII (в миру — Джулио Медичи) (ум. в 1534 г.) — папа римский (1523 — 1534). — 333, 334.
Клюзере (Cluseret), Гюстав Поль (1823—1900) — французский офицер, участник походов Гарибальди и Гражданской войны в США; член I Интернационала, примыкал к бакунистам, участник революционных восстаний в Лионе и Марселе (1870), член Парижской Коммуны. — 401, 404, 521, 522. j
Кобден ( Cobden ), Ричард (1804— 1865) — английский фабрикант, буржуазный политический деятель, один из лидеров фритредеров и основателей Лиги против хлебных законов. — 5, 31, 225.
Кобургский (Coburg), Фридрих Саксен-Заалъфелъд, принц (1737— 1815) — австрийский фельдмаршал, участник Семилетпей войны и войн первой коалиции против Французской республики. — 284.
Козиме III Медичи (1642 — 1723) — правитель Флоренции (1670— 1723). — 343.
Кокрен-Бяйли (Cochrano-Baillie), Александр (1816—1890) — английский политический'деятель и литератор, консерватор, член парламента. — 464.
Колинъи (Coligny), Гаспср де Ша-тийоп, граф (1584—1646) — французский маршал, участник Тридцатилетней войны (1618— 1648). - 336.
Комбо (Combault), Амеде Бенжа-мен (род. ок. 1838 — ум. после 1884 г.) — деятель французского рабочего движения, по профессии ювелир; член Генерального Совета Интернационала (1866—1867), в 1870 г. основал одну из парижских секций Интернационала и вошел в Парижский федеральный совет, участник Парижской Коммуны, после ее поражения эмигрировал в Лондон. — 584.
Кон (Colin или Cohen), Джеймс — деятель английского и датского рабочего движения, рабочий-сигарочник; член Генерального Совета Интернационала (1867—1871), секретарь-корреспондент для Дании (1870-1871). - 410, 528, 531.
Консидеран (Considérant), Виктор (1808—1893) — французский публицист, социалист-утопист, ученик и последователь Фурье. — 162.
Könne (Coppet), Луи де. — 392.
Кормъе (Cormier), Аристид — рабочий тюлевой промышленности, член лионской секции I Интернационала. — 396.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
693
Костюшко (Kösciuszko), Тадеуш (1746—1817) — выдающийся деятель польского национально-освободительного движения 90-х годов XVIII века, руководитель польского восстания 1794 года; в 1776—1783 гг. участвовал в борьбе за независимость североамериканских колоний. — 349.
Кошут ( Kossuth ), Лайош (Людвиг) (1802—1894) — вождь венгерского национально-освободительного движения, в революции 1848—1849 гг. возглавлял буржуазно-демократические элементы, глава венгерского революционного правительства; после поражения революции эмигрировал из Венгрии; в 50-х годах искал поддержку в бонапартистских кругах. — 178, 179, 224.
Крануорт ( Cranworth ), Роберт Мон-си Ролф, барон (1790—1868) — английский государственный деятель и юрист, виг, лорд-канцлер (1852—1858 и 1865—1866). — 190.
Креки (Créqui), Шарль де Бланш-фор, принц де Пуа, герцог де Ледигьер (1578—1638) — французский маршал, участник Тридцатилетней войны (1618—1648); посол в Риме (1633) и Венеции (1636). - 336.
Кремъё (Crémieux), Адольф (1796— 1880) — французский адвокат и буржуазный политический деятель, в 40-х годах либерал, в период революции 1848 г. член Временного правительства. — 45.
Кример (Cremer), Уильям Рандал (1838—1908) — деятель английского тред-юнионистского и буржуазно-пацифистского движения, реформист; член Лондонского совета тред-юнионов, входил в исполнительный комитет Лиги реформы; участник Учредительного собрания I Интернационала 28 сентября 1864 г., член Генерального Совета Интернационала и его генеральный секретарь (1864—1866); впоследствии либерал, член парламента (1885— 1895 и 1900—1908). — 382—384, 515.
Кримихен (Criemichen), Герман — член I Интернационала в Бре-славле. — 559.
Кристиан IV (1577—1648) — король Дании и Норвегии (1588— 1648). — 336.
Кристина Августа (1626—1689) — шведская королева (1632—1654).
_ ооо
Крозе (Croset, J .). — 392.
Крозе ( Croset), Сыозет. — 392.
Кромвель ( Cromwell ), Оливер (1599—1658) — вождь буржуазии и обуржуазившегося дворянства в период английской буржуазной революции XVII века; с 1653 г. лорд-иротоктор Англии, Шотландии и Ирландии. — 338.
Кроссе ( Crossot ), Эдуард — швейцарский рабочий-типограф, участник учредительного съезда Романской федерации Интернационала (январь 1869 г.). — 392.
Кроше ( Crochet ), Франсуа (ум. после 1898 г.) — швейцарский рабочий-плотник. — 392.
Кроши ( Crowshay , J.) — английский журналист, сторонник Ур-карта. — 222.
Крюденер (Krüdener), Барбара Юлия, баронесса (1764—1824) — писательница, проповедница пиетизма; в XIX в. ей неверно приписывалась идея создания Священного союза. — 354.
Кузен (Cousin), Виктор (1792— 1867) — французский философ-идеалист, эклектик. — 307.
Кулен (Coulin, L.). — 392.
Курбе (Courbet), Гюстав (1819— 1877) — выдающийся французский художник-реалист; член Парижской Коммуны. — 399, 400.
Курту a (Courtois), Жак — швейцарский рабочий-столяр, член I Интернационала. — 392.
Курье (Courier), Поль Луи (1772— 1825) — французский филолог и публицист, выступал против аристократической и клерикальной реакции во Франции. — 309.
Кутузов, Михаил Илларионович, князь (1745—1813) — великий русский полководец. — 292,
694
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Куэста — см. Гарсиа де ла Куэста, Грегорио.
Кэри ( Carey ), Генри Чарлз (1793— 1879) — американский вульгарный буржуазный экономист, ав тор реакционной теории гармо нии классовых интересов в капи талистическом обществе. — 180— 182.
Нюбек (Kübeck), Карл, князь (1780—1855) — австрийский государственный деятель, финансист. — 30.
Л
Лабушер (Labouchere), Генри (1798—1869) — английский государственный деятель, виг; министр торговли (1839—1841, 1847—1852), министр колоний (1855-1858). - 221.
Ламартин (Lamartine), Альфонс (1790—1869) — французский поэт, историк и политический деятель, в 40-х годах буржуазный республиканец, в 1848 г. министр иностранных дел и фактический глава Временного правительства. - 45, 49, 307.
Ламборд (Lambord) — член I Интернационала. — 401.
Ламенне (Lamennais), Фелисите (1782—1854) — французский аббат, публицист, один из идеоло гов христианского социализма,— 307—309.
Ландек (Landeck), Бернар (род. в 1832 г.) — французский ювелир; делегат Парижской Коммуны в Марселе; член лондонской Фран цузской секции 1871 года, вы ступавшей против Генерального Совета Интернационала. — 412, 564.
Пандор (Landor, R.) — американский журналист, в 1871 г. кор респондент газеты «World» в Лон доне. — 543—550.
Ланн (Lannes), Жан (1769—1809) — французский маршал, участник войн наполеоновской Франции.— 291, 292.
Лаплас ( Laplace ), Жак — член Ро манской федерацци Интернацио нала. — 392,
Лассаль (Lassalle), Фердинанд (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный публицист, адвокат, в 1848—1849 гг. участвовал в демократическом движении в Рейнской провинции; в начале 60-х годов примкнул к рабочему движению, один из основателей Все^ общего германского рабочего союза (1863); поддерживал политику объединения Германии «сверху» под гегемонией Пруссии, положил начало оппортунистическому направлению в германском рабочем движении. — 455.
Ласси, Петр Петрович, граф (1678— 1751) — русский генерал-фельдмаршал; по происхождению ирландец; участник Северной войны (1700—1721), войны за Польское наследство (1733—1735) и русско-турецкой войны 1735— 1739 годов. — 344.
Лафарг (Lafargue), Поль (1842— 1911) — видный деятель фран цузского и международного ра бочего движения, выдающийся пропагандист марксизма, член Генерального Совета Интернационала, секретарь-корреспондент для Испании (1866—1869); принимал участие в создании секций Интернационала во Франции (1869—1870), Испании и Португалии (1871—1872); один из основателей Рабочей партии Франции (1879), делегат между народных социалистических ра бочих конгрессов 1889 и 1891 годов; ученик и соратник Маркса и Энгельса. — 473, 538, 551.
Лаферроне (La Ferronnays ), Огюст Пьер Мари Феррон, граф де (1777—1842) — французский по литический деятель и дипломат, посол в Петербурге (1819—1827), участник конгрессов Священного союаа, министр иностранных дел (1828-1829). - 355.
Левутский, Федор Григорьевич — генерал русской армии, участник Крымской войны. — 210, 214.
Левьель ( Leviele ) — участник аме риканского рабочего движения; по национальности француз; член
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
695
Генерального Совета, избранного на Гаагском конгрессе Интернационала (1872). — 466, 473.
Ледрю-Роллен (Ledru-Rollin), Александр Огюст (1807—1874) — французский публицист и политический деятель, один из вождей мелкобуржуазных демократов; в 1848 г. член Временного правительства; депутат Учредительного и Законодательного собраний, где возглавлял партию Горы; после демонстрации 13 июня 1849 г. эмигрировал в Англию. — 45, 52, 164, 177, 518.
Лейтам ( Latham ), Роберт Масден — английский тред-юнионист, председатель Лиги рабочего представительства, нлен I Интернационала. — 401.
Леклер ( Leclerc ), Александр — парижский коммерсант, сторонник Партии порядка, участник подавления Июньского восстания рабочих в 1848 году. — 16.
Лекрафт ( Lucraft ), Бенджамин (1809—1897) — один из реформистских лидеров английских тред-юнионов, по профессии рабочий-мебельщик, член Генераль ного Совета (1864—1871); в 1871 г. выступил против Парижской Коммуны и воззвания Генерального Совета «Гражданская война во Франции». — 401, 410, 523.
Ле Любе
(Le Lubez),
Виктор П.
(род. ок. 1834 г.) — французский
эмигрант в Лондоне, республи
канец; принимал участие в Учре
дительном собрании Интернацио
нала 28 сентября 1864 г., член
Генерального Совета (1864—1866),
секретарь-корреспондент
для
Франции (1864—1865); исключен из состава Совета Женевским конгрессом (1866) за интриги и клевету. — 374—377.
Леман ( Lehman ), Альберт — немецкий рабочий в Лондоне, активный деятель Союза справедливых, затем член Союза коммунистов, после его раскола в 1850 г. принадлежал к сектантско-аван-тюристической фракции Вилли-ха-Шаппера. — 505.
Леметр (Le Maître), Фредерик — французский мелкобуржуазный демократ, член Французской секции Интернационала в Лондоне, в конце 60-х годов вернулся во Францию. — 405.
Лемли ( Lumley ). — 410.
Ле My сею (Le Moussu), Бенжамен (псевдоним — Констан) — деятель французского рабочего движения; по профессии гравер; коммунар, после подавления Коммуны эмигрировал в Лондон; член Генерального Совета Интернационала и секретарь-корреспондент для французских секций в Америке (1871—1872); поддерживал борьбу Маркса и Энгельса против бакунистов. — 466, 561, 563, 564.
Леони (Leoni), Иосиф — немецкий эмигрант в Лондоне. — 501, 502.
Леопольд (1790—1852) —великий гер цог Баденский (1830—1852).— 327.
Леопольд 1 (1640—1705) — император так называемой Священной Римской империи (1658—1705).— 236, 239, 338-341.
Леопольд II (1797—1870) — великий герцог Тосканский (1824— 1859). - 318.
Лесснер ( Lessner ), Фридрих (1825— 1910) — видный деятель немецкого и международного рабочего движения, по профессии портной; член Союза коммунистов, участник революции 1848—1849 гг., с 1856 г. эмигрант в Лондоне, член Генерального Совета Интернационала (ноябрь 1864—1872), участник Лондонской конференции (1865), Лозаннского (1867), Брюссельского(1868),Базельского (1869) и Гаагского (1872) конгрессов Интернационала, член Британского федерального совета, активно боролся за линию Маркса и Энгельса в Интернационале; друг и соратник Маркса и Энгельса. — 466, 568, 570— 572, 584.
Лесток (L'Estocq), Антон Вильгельм (1738—1815) — прусский генерал, в 1806—1807 гг. у част-
696
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
вовал в войне против наполеоновской Франции. — 291, 296.
Лефор (Lefort), Анри (1835—1917)— французекий адвокат и журналист; буржуазный республиканец, участник Учредительного собрания Интернационала, в марте 1865 г. порвал с ним связь. — 374-377.
Лещинский (Лещиньский), Станислав (1677—1766) — польскийко-роль (1704-1711 и 1733-1734).— 278, 343.
Либкнехт (Liebknecht), Вильгельм (1826—1900) — видный деятель немецкого и международного рабочего движения; участник революции 1848—1849 гг., член Союза коммунистов; член I Интернационала, активный борец против лассальянства за принципы Товарищества в немецком рабочем движении; с 1867 г. — депутат рейхстага; один из основателей и вождей немецкой социал-демократии, редактор газеты «Volksstaat» (1869—1876); друг и соратник Маркса и Энгельса. — 402, 405.
Ливен, Дарья (Доротея) Христофо-ровна, княгиня (1785—1857) — жена X . А. Ливена; играла видную роль в европейской дипломатической жизни в качестве хозяйки политических салонов в Лондоне и Париже. — 222.
Ливен, Христофор Андреевич, князь (1774—1839) — русский дипломат, посланник в Берлине (1810— 1812), посол в Лондоне (1812— 1834). — 272,
Лидере, Александр Николаевич, граф (1790—1874) — русский генерал; в 1853—1854 гг. командовал корпусом на Дунае, в 1855 г.— Южной армией в Крыму, с декабря 1855 г. главнокомандующий в Крыму. — 198, 204.
Лимузен ( Limousin ), Антуан — французский рабочий, деятель кооперативного движения, прудонист; член Интернационала, один из руководителей парижской секции до середины 1865 года. - 375,
Линдегер ( Lindegger ), Антуан (ум. после 1898 г.) — швейцарский рабочий-грузчик; бакунист, член комитета женевской секции Интернационала «Альянс социалистической демократии». — 392.
Линкольн ( Lincoln ), Г. Дж. — редактор газеты « Daily News». — 192.
Ловендалъ ( Loewendahl или Löwen-dahl), Ульрик-Фредерик-Вальде-мар, граф (1700—1755) — генерал, с 1747 г. маршал; находился па русской (1735—1743), затем на французской (1743—1755) службе; участник воины за Австрийское наследство (1740—1748); по происхождению датчанин. — 345.
Логран (Laugrand, Р.) — французский эмигрант в США. — 434.
Лодердель ( Lauderdale ), Джемс, граф (1759—1839) — английский буржуазный политический деятель и экономист; критиковал теорию Адама Смита с позиций вульгарной политической экономии. — 105.
Лодоеико Моро (1452—1508) — гер цог Миланский из династии Сфор-ца. — 275.
Локк (Locke), Джон (1632—1704) — выдающийся английский философ-дуалист, сенсуалист; буржуазный экономист. — 540.
Лонге (Longuet), Шарль (1839— 1903) — деятель французского рабочего движения, по профессии журналист; прудонист, впоследствии поссибилист; член Генерального Совета Интернационала (1866-1867, 1871-1872); участник обороны Парижа (1870— 1871), член Парижской Коммуны; делегат Международного социалистического рабочего конгресса 1889 года. — 412, 414, 466.
Лорелъ (Laurel) — участник американского рабочего движения, по национальности швед; член Генерального Совета, избранного на Гаагском конгрессе Интернационала (1872). — 466, 473.
Лоренцо ( Lorenzo ), Ансельмо (1841— 1915) — деятель испанского ра-
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
697
бочего движения, по профессии рабочий-типограф; один из организаторов секций Интернационала в Испании, член Испанского федерального совета (1870—1872), делегат Лондонской конференции Интернационала (1871). — 569.
Лотарь III (Лотарь Саксонский, Лотарь Суплинбургский) (ок. 1075—1137) — германский король (с 1125 г.), император так называемой Священной Римской империи (1133 — 1137). — 228.
Лоттум ( Lottum ), Фридрих Альбрехт Карл, граф (1720—1797) — прусский генерал. — 296.
Лоу (Lowe), Роберт (1811 — 1892) — английский государственный деятель и публицист, либерал, член парламента; канцлер казначейства (1868—1873), министр внутренних дел (1873—1874). — 530.
Луи Бонапарт — см. Наполеон III .
Луи-Наполеон — см. Наполеон III .
Луи-Филипп (1773—1850) — герцог Орлеанский, французский король (1830-1848). - 4-6, 8, 9, 18, 20, 42, 43, 50, 157, 224, 264, 267, 309, 355, 504.
Луи-Филипп Альбер, герцог Орлеанский, граф Парижский (1838— 1894) — внук французского короля Луи-Филиппа, претендент на французский престол. — 20.
Луиза Бурбонская, Мария-Тереза (1819—1864) — герцогиня Пермская, регентша герцогства Пармы (1854-1859). - 319.
Л у ива-Генриетта (1627—1667) — первая жена (с 1646 г.) Бранден-бургского курфюрста Фридриха-Вильгельма. — 237.
Луиза Савойская (1476—1531) — регентша Франции, мать французского короля Франциска I . — 333.
Лукас (Lukas) — член рабочего союза в Мюльгейме (Рейнская провинция) в 1849 г., затем эмигрант в Лондоне. — 502.
Лукъянович, Николай Андреевич (ок. 1806 — ум. после 1855 г.) — русский офицер и военный историк, участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг., подавления
восстания декабристов (1825) и польского восстания 1830—1831 годов. — 192.
Лурдуэ (Lourdoueix, H.) — французский легитимист. — 8.
Льевр (Lièvre) — французский
юрист. — 310.
Льюис (Lewis), Джордж Корнуол.1 (1806—1863) — английский государственный деятель, виг, министр внутренних дел (1859— 1861) и военный министр (1861—-1863). — 533.
Льюис (Lewis), Леон —• американский журналист, республиканец; член Генерального Совета Интернационала (1865). — 515.
Любомирскии ( Люберминский),
князь — в 1811 г. личный представитель Александра I при дворе принца-регента Великобритании (будущего короля Георга IV ).-353.
Людвиг Фердинанд, принц Прусский (1772—1806). — 296.
Людовик (1661—1711) —дофин Фран ции, сын Людовика XIV .—340.
Людовик IX Святой (1214—1270) — французский король (1226— 1270). - 33.
Людовик XI (1423—1483)—французский король (1461—1483). — 275.
Людовик XII (1462—1515) — французский король (1498—1515). — 275, 276, 332.
Людовик XIII (1601—1643) — французский король (1610— 1643). - 336, 337.
Людовик XIV (1638-1715) — французский король (1643—1715). — 238, 239, 278, 338-342.
Людовик XV (1710-1774) — французский король (1715—1774). — 266, 278, 346.
Людовик XVI (1754—1793) — французский король (1774—1792), казнен во время французской буржуазной революции конца XVIII века. — 349.
Людовик XVIII (1755-1824) — французский король (1814—1815 и 1815—1824). — 4, 8, 354.
Людовик Капет ^см. Людовик XVI.
698
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
M
Магалон (Magalon), Жан Дени (1794 — ок. 1840) — французский литератор и журналист либерального направления. — 309.
Мавдокс (Madox, Maddock, Mad - doss, G. W.) — американский буржуазный радикал. — 434, 436.
Мадаини (Mazzini), Джузеппе (1805—1872) — итальянский революционер, буржуазный демократ, один из вождей национально-освободительного движения в Италии; выступал против Интернационала и Парижской Коммуны; препятствовал развитию самостоятельного рабочего движения в Италии. — 225, 330, 331, 409, 410, 415, 416, 418-423, 548.
Мааарини (Mazarini), Джулио (1602—1661) — французский государственный деятель, кардинал; с 1643 г. министр, фактический правитель Франции при Людовике XIV . - 337, 338.
Майалл (Miall), Эдуард (1809— 1881) — английский публицист, проповедник-диссентер, буржуазный радикал; член парламента (1852-1857, 1869-1874). - 224, 225.
Мак-Грегор (Macgregor), Джон (1797—1857) — английский экономист, статистик и историк, фритредер, заместитель министра торговли (1840—1847), член парламента (с 1847 г.). — 223.
Мак-Доннел (Mac Donnel), Дж. Патрик (ок. 1845—1906) — деятель ирландского рабочего движения, член Генерального Совета Интернационала и секретарь-корреспондент для Ирландии (1871—1872); в 1872 г. эмигрировал в США, принимал участие в американском рабочем движении. — 410, 413, 466, 472.
Мак-Куллох (Mac Culloch), Джон Рамси (1789—1864) — английский буржуазный экономист, вульгаризатор экономического учения Рикардо, апологет капитализма. — 141.
Мак-Нейл ( McNeill ), Джон (1795— 1883) — английский дипломат, посланник в Тегеране (1836— 1842). - 255-258.
Максимилиан Баварский (Максимилиан I) (1573-1651) — Баварский герцог (с 1597 г.) и курфюрст (с 1623 г.), активный деятель католической реакции в Германии. — 336.
Максимилиан 1 (1459—1519) — император так называемой Священной Римской империи (1493— 1519). - 275, 276, 332.
Максимилиан II (1527—1576) — император так называемой Священной Римской империи (1564— 1576). — 335.
Максимилиан II (1811—1864) — баварский король (1848—1864).— 28.
Максимилиан III Йозеф (1727— 1777) — курфюрст Баварский (1745-1777). - 345, 348.
Малит ( Mallet ), Александер (1800— 1886) — английский дипломат, посланник во Франкфурте-на-Майне при Германском союзе (1849-1866). — 220.
Малон ( Malon ), Бенуа (1841 — 1893) — французский рабочий-красильщик, публицист, социалист, член I Интернационала; член ЦК национальной гвардии и Парижской Коммуны; после подавления Коммуны эмигрировал в Италию, затем в Швейцарию, где примыкал к бакунистам; впоследствии один из лидеров и идеологов оппортунистического течения в социалистическом движении Франции — поссибилизма. — 474.
Мальборо ( Marlborough ), Джон Черчилль, герцог (1650—1722) —английский полководец, в 1702— 1711 гг. главнокомандующий английскими войсками в войне за Испанское наследство. — 341.
Мальтус ( Malthus ), Томас Роберт (1766—1834) — английский священник, экономист, идеолог обуржуазившейся землевладельческой аристократии, апологет капитализма, проповедник человеконе-
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
699
навистнической теории народонаселения. — 96, 97, 119, 123, 124, 154.
Мантёйфель (М anteuf fei), Отто Тео дор, барон (1805—1882) — прусский государственный деятель, представитель дворянской бюрократии; министр внутренних дел (1848—1850), министр-президент и министр иностранных дел (1850—1858). — 317.
Марауда (Marauda). — 392.
Маргарита Терезия (ум. в 1673 г.) — дочь испанского короля Филиппа IV , первая жена императора так называемой Священной Римской империи Леопольда I. — 339.
Мари (Marie), Александр (1795— 1870) — французский адвокат и политический деятель, умеренный буржуазный республиканец; в 1848 г. министр общественных работ во Временном правительстве. — 45, 54.
Марилъи (Marilly), Жозеф. — 392.
Мария — см. Мария Бургундская.
Мария — см. Мария II да Глориа.
M ария-Антуанетта (1755—1793)— французская королева (1774— 1793), жена Людовика XVI , казнена во время французской буржуазной революции конца XVIII века. — 266.
Мария Бургундская (1457 —1482) — дочь и наследница бургундского герцога Карла Смелого. — 275.
Мария II да Глориа (1819—1853) — португальская королева (1826— 1828 и 1834—1853). — 355.
Мария-Тереаия (1638 —1683) —
французская королева, жена французского короля Людовика XIV (с 1660 г.), дочь испанского короля Филиппа IV . — 338.
Мария-Терезия (1717—1780) — австрийская эрцгерцогиня (1740— 1780), императрица так называемой Священной Римской империи (1745-1780). - 278, 344-347.
Маркс (Marx), Женни, урожденная фон Вестфален (1814—1881) — жена Карла,Маркса, его верный друг и помощник. — 510.
Маркс (Marx), Карл (1818—1883) (биографические данные). — 39—
43, 49, 187, 189, 225-227, 266, 273, 274, 316, 368, 377, 385, 392, 395, 398, 402, 403, 405-414, 425, 426, 432, 454-459, 462, 463, 466, 472, 493, 494, 505, 508—512, 515, 517—519, 522, 523, 527—533, 536-538, 542—552, 556-558, 560—563, 565, 566, 568, 569.
Марраст ( Marrast ), Армая (1801 — 1852) — французский публицист и политический деятель, один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев; в 1848 г. член Временного правительства и мэр Парижа, председатель Учредительного собрания (1848—1849).— 9, 45, 309.
Марселау ( Marcelau ), Николо Алоп-со — испанский анархист, один из руководителей испанской организации Альянса; исключен из Интернационала решением Генерального Совета от 30 мая 1873 года. — 562.
Массена ( Massena ), Андре (1756— 1817) — французский маршал, участник войн Французской республики и наполеоновской Франции. — 250, 286.
Массимилъяно Сфорца (1493— 1530) — герцог Миланский, сын Лодовико Моро. — 276, 333.
Матис ( Matis , A .). — 392.
Махмуд II (1785—1839) —турецкий султан (1808-1839). - 354, 355.
Макеевский ( Maciejowski ), Вацлав Александр (1793—1883) — польский историк и правовед, славист; профессор римского права. — 239.
Медичи — итальянский род, правивший во Флоренции с 1434 по 1737 г. (с перерывами). — 276.
Медичи, Мария (1573—1642) — французская королева, жена Генриха IV. — 336.
Мейер ( Meyer ), Зигфрид (ок. 1840— 1872) — деятель немецкого и американского рабочего движения, социалист, по профессии инженер; член Всеобщего германского рабочего союза, выступал против влияния лассальянства в рабочем движении; в 1866 г. эмигрировал в США, один из организаторов
700
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
секций Интернационала в США, сторонник К. Маркса и Ф. Энгельса. — 522.
Мейнингхаув (Meininghaus), Генрих — владелец гостиницы в Эльберфельде; свидетель на процессе по делу участников вооруженного восстания в Эльберфельде в мае 1849 года. — 497.
Мелбури, (Melbourne), Уильям Лам, виконт (1779—1848) — английский государственный деятель, виг, премьер-министр (1834 и 1835-1841). - 221.
Мепдес де Аро (Mendes de Наго), Луис, граф (1598—1661) — испанский государственный деятель и дипломат, первый министр Испании (с 1643 г.). — 338.
Меишикоо, Александр Сергеевич, князь (1787—1869) — русский военный и государственный деятель, в 1853 г. чрезвычайный посол в Константинополе, главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму (1853-1855). - 186.
Мермильо (Mermillod), Франсуа — швейцарский рабочий - футляр-щик; вице-председатель Романской федерации I Интернационала. — 392.
Мёррей или Марры (Murrey ), Чарлз — один из руководителей английских тред-юнионов, по профессии сапожник; участник чартистского движения, один из руководителей Национальной лиги реформ, член Генерального Совета Интернационала (1870— 1872) и Британского федерального совета (1872—1873), сторонник Маркса и Энгельса. — 570, 584/
Меттерних ( Metternich ), Клеменс, князь (1773—1859) — австрийский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел (1809—1821) и канцлер (1821—1848); ярый реакционер, один из организаторов Священного союза. — 30, 353—355, 504.
Мигел Врагансский (1802—1866) — португальский принц, в 1828— 1834 гг. король, глава клери-
кально-абсолютистской партии в Португалии. — 354, 355.
Милло ( Millaud ), Моиз (1813— 1871) — французский банкир, основал ряд газет и банков. — 309.
Милло ( Millot , Т.) — французский эмигрант в США, по профессии переплетчик; член Центрального комитета североамериканских секций I Интернационала; стоял на позициях буржуазного радикализма. — 434.
Милль (МШ), Джон Стюарт (1806— 1873) — английский буржуазный экономист и философ-позитивист, эпигон классической школы политической экономии. — 408, 533, 549.
Милнер (Milner), Джордж — деятель английского рабочего движения, по национальности ирландец; портной; последователь социально-реформаторских взглядов чартиста О'Брайена; член Генерального Совета Интернационала (1868—1872), входил в состав Британского федерального совета (1872—1873), боролся против его реформистского крыла. — 528, 569, 570, 584.
Миних, Христофор Антонович (Бурхард Кристоф), граф (1683— 1767) — русский военный и государственный деятель, инженер, генерал-фельдмаршал (с 1730 г.); президент Военной коллегии (с 1730 г.); во время русско-турецкой войны 1735—1739 гг. командовал русскими войсками в Крыму и Бессарабии. — 344.
Мирбах (Mirbach), Отто (род. в 1804 г.) — прусский артиллерийский офицер в отставке; мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848—1849 годов; комендант Эльберфельда во время вооруженного восстания в мае 1849 года; после поражения восстания эмигрировал из Германии. — 497, 499.
Митчелл ( Mitchell ) — член Британского федерального совета Интернационала (1871—1873), выступал против его реформистского крыла. — 570.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
701
Мирес (Mirés), Жюль Исаак (1809— 1871) — французский банкир, владелец ряда газет. — 309.
Михаил Федорович (1596—1645) — русский царь (1613—1645), родоначальник династии Романовых. — 335.
Михайловский-Данилевский, Александр Иванович (1790—1848) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 г., военный историк. — 192.
Моле (Maulet, J.). — 392.
Молътке (Moltke), Хельмут Карл Бернхард (1800—1891) — прус-окий генерал-фельдмаршал и военный теоретик, один из идеологов прусского милитаризма и шовинизма. — 524, 527.
Монашон ( Monachon, L .). — 392.
Монро (Monroe), Джеймс (1758— 1831) — американский государственный деятель, президент США (1817—1825); в 1823 г. выступил с декларацией, провозглашавшей принципы внешней политики США и известной в дальнейшем под названием доктрины Монро. — 354.
Монталамбер (Montalembert), Марк Рене (1714—1800) — французский генерал, военный инженер, разработал новую систему фортификации, широко применявшуюся в XIX веке. — 285, 364.
Монтескье ( Montesqieu ), Шарль (1689—1755) — выдающийся представитель буржуазного Просвещения XVIII в., теоретик конституционной монархии. — 152.
Монтит ( Monteith ), Роберт — английский чиновник. — 222, 223.
Мораго-Гонсалес ( Morago Gonzales), Томас — испанский анархист, по профессии рабочий-гравер; один из основателей и руководителей Альянса в Испании; член Испанского федерального совета Интернационала (1870—1871); исключен из Интернационала решением Генерального Совета от 30 мая 1873 года. — 561.
Мориц Саксонский (1521—1553) — саксонский герцог (с 1541 г.),
курфюрст (с 1547 г.); главнокомандующий имперскими войсками во время Шмалькальденской войны 1546—1548 годов. — 334.
Мориц Саксонский (Maurice de Saxe), граф (1696—1750) — французский маршал, участник войны за Австрийское наследство (1740—1748); автор военно-теоретических работ. — 345.
Морла (Moria), Томас (1752—1820)— испанский генерал, член Центральной хунты, затем военный и морской министр при короле Жо-зефо Бонапарте (1808—1813). — 208.
Морли (Morley), Самюэл (1809— 1886) — английский промышленник и политический деятель, либерал, член парламента (1865, 1868-1885). — 472, 488.
Мортъе (Mortier), Эдуар Адольф Казимир Жозеф (1768—1835) — французский маршал, участник войн наполеоновской Франции.— 292.
Моттерсхед (Mottershead), Томас Дж. (ок. 1825—1884) — английский рабочий-ткач, член Генерального Совета Интернационала (1869—1872), секретарь-корреспондент для Дании (1871—1872); выступал с реформистских позиций против линии Маркса в Гене-альном Совете и Британском едеральном совете, исключен из Интернационала решением Генерального Совета от 30 мая 1873 года. — 402, 409, 412, 413, 538, 540, 569, 571.
Мрочковский ( Mroczkowsky ), Валерьян (1840—1889) — участник польского восстания 1863 г., по профессии фотограф; бакунист, член открытого и тайного Альянса. — 392.
Мустафа III (1717—1774) — турецкий султан (1757—1774). — 348.
Мухаммед-Али (1769—1849) — правитель Египта (1805—1848). — 281, 355.
Мухаммед-шах (1810—1848) — персидский шах (1834—1848). -, 354-256,
702
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
M эр рей ( Murrey ) — английский посланник в Тегеране в 50-х годах XIX века. — 257.
H
Надир-шах (Кули-хан) (1688— 1747) — иранский шах (1736— 1747). — 252, 253.
Наполеон I Бонапарт (1769—1821)— французский император (1804— 1814 и 1815). — 3, 4, 8, И, 195, 207, 208, 242, 244, 253, 262, 280, 281, 285, 288, 291, 292, 298, 306, 307, 350-353.
Наполеон III (Луи-Наполеон Бонапарт) (1808—1873) — французский имиератор (1852—1870). — 6, 7, 10—12, 19-21, 23, 36, 164, 224—226, 304, 308,309, 316—323, 326-329, 331, 404, 407, 457, 525, 526, 529, 530, 547.
Неголевский ( Niogolewscki ), Владислав Маурицы Гжимала (1819— 1885) — польский политический деятель и адвокат; мелкобуржуазный демократ, в 1848 г. депутат франкфуртского Национального собрания, с 1849 г. член прусской палаты депутатов от Познани. — 330.
Ней (Ney), Мишель (1769—1815) — французский маршал, участник войн Французской республики и наполеоновской Франции. — 297.
Нейпир ( Napier ), Уильям Фрэнсис Патрик (1785—1860) — английский генерал и военный историк, в 1808—1814 гг. участвовал в войне против Наполеона I на Пиренейском полуострове. —193.
Нейпир ( Napier )? Чарлз (1786— 1860) — английский адмирал, в 1833—1834 гг. командовал английской эскадрой, принявшей участие в гражданских войнах в Португалии (1823—1834); в 1854 г. командующий флотом в Балтийском море. — 194, 200, 205, 355.
Неккер (Necker), Жак (1732-1804)— французский государственный деятель и экономист, в 70—80-х годах XVIII в, — генеральный
директор финансов, накануне буржуазной революции пытался осуществить некоторые реформы. — 266.
Немурская (Nemours), Мария, герцогиня Орлеан-Лонгвилъская (1625— 1707) — принцесса Невшатель-ская. — 239.
Нессельроде, Карл Васильевич, граф (1780—1862) — русский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел (1816— 1856). - 258-260, 273, 354.
Нечаев, Сергей Геннадиевич (1847— 1882) — русский революционер, заговорщик анархистского толка, создал тайную организацию «Народная расправа» (1869), в 1869— 1871 гг. был тесно связан с Бакуниным; в 1872 г. выдан швейцарскими властями русскому правительству; умер в Петропавловской крепости. — 458.
Нибур (Niebuhr), Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античного мира. — 290.
Нидегер (Niedegger), Луи. — 392.
Николай I (1796—1855) — русский император (1825—1855). — 29, 186-188, 199, 200, 253, 267, 354, 504.
Нотъюнг (Nothjung), Петер (ок. 1821—1866) — немецкий портной; член кёльнского Рабочего союза, член Союза коммунистов; участник вооруженного восстания в Эльберфельде в мае 1849 года; один из подсудимых на кёльнском процессе коммунистов (1852), приговорен к шести годам тюремного заключения. — 497.
Нъелъ (Niel), Адольф (1802-1869)— французский генерал, затем маршал, участник Крымской войны и австро-итало-французской войны 1859 года. — 218.
О
Обресков, Алексей Михайлович (1718—1787) — русский дипломат; поверенный в делах (1751) и резидент (1752—1768) в Константинополе; в 1768 г. в связи с началом русско-турецкой войны был арестован и задержан в Турции до
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
703
1771 года; участвовал в подписании Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. — 348.
Обри ( Aubry ), Эмиль (ок. 1829— 1900) — французский рабочий-литограф, видный деятель Интернационала, прудонист, основатель и руководитель Руанской федерации Интернационала, участник Парижской Коммуны. — 407.
Оджер ( Odger ), Джордж (1820— 1877) — один из реформистских лидеров английских тред-юнионов, по профессии сапожник, секретарь Лондонского совета тред-юнионов (1862—1872); член Генерального Совета Интернационала (1864—1871) него председатель (1864—1867); в 1871 г. отказался подписать воззвание Генерального Совета «Гражданская война во Франции» и вышел из Совета. — 385, 401, 408—410, 515.
Окленд ( Auckland ), Джордж Идеи, граф (1784—1849) — английский государственный деятель, виг, генерал-губернатор Индии (1836— 1842). - 255, 257, 258.
О'Коннор ( O ' Connor), Фергюс (1794—1855) — один из лидеров чартизма, основатель и редактор газеты « Northern Star», после 1848 г. реформист. — 571.
Оливье (Ollivier), Эмиль (1825— 1913) — французский политический деятель, умеренный республиканец, затем бонапартист, глава правительства (январь — август 1870). — 463.
Олуа (Aulois) — французский прокурор. — 405.
Омер-паша (Михаил Латас) (1806—• 1871) — турецкий генерал, по происхождению хорват, главнокомандующий турецкими войсками в Крымской войне. — 187, 202, 204, 273.
Опуль (Hautpoul), Альфонс Анри де (1789—1865) — французский генерал, легитимист, затем бонапартист; военный министр (1849— 1850). — 8, 11, 16.
Орель де Паладин (Aurelle de Pala-dines), Луи Жан Батист (1804—
1877) — французский генерал, клерикал; во время франко-прусской войны командовал Луарской армией. — 525.
Орлеанская, Елена, урожденная Мекленбург, герцогиня (1814— 1858) — жена старшего сына Луи-Филиппа Фердинанда (ум, в 1842 г.). - 20, 307.
Орлеанский, герцог — см. Филипп Орлеанский.
Оро (Hauréau), Жан Бартелеми (1812 — 1896) — французский историк и публицист, умеренный буржуазный республиканец. — 315.
Орсини (Orsini), Феличе (1819 — 1858) — итальянский революционер, буржуазный демократ и рес публиканец, один из видных участников борьбы за национальное освобождение и объединение Италии; казнен за покушение на Наполеона III. — 331.
Осборн ( Osborne ), Томас Кармартен, маркиз (1631—1712) — английский государственный деятель, тори, член парламента, лорд-президент Тайного совета (1689-1699). - 267.
Осонвилъ ( Aussonville ), де — французский политический деятель.— 315.
Остен-Сакен, Дмитрий Ерофеевич (1789—1881) — русский генерал, начальник севастопольского гарнизона (конец 1854—1855). —218.
Отто — см. Отто Богатый.
Отто Богатый, граф фон Баллен-штедт (ум. в 1123 г.) — отец Альбрехта Медведя. — 228.
Оттон I (1815—1867) — баварский принц, с 1832 по 1862 г. король Греции. — 199, 355.
Оуэн (Owen), Роберт (1771—1858) — великий английский социалист-утопист. — 158, 540, 571.
П
Павел I (1754—1801) — русский император (1796—1801). — 351.
Павел V (в миру — Камилло Бор-гезе) (1552—1621) — папа римский (1605—1621). — 335, 336,'
704
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Пакингтон ( Pakington ), Джон Сомерсет (1799—1880) — английский государственный деятель, тори, впоследствии консерватор; член парламента (с 1832 г.), первый лорд адмиралтейства (1858— 1859, 1867), военный министр (1867-1868). — 186, 299.
Палъмерстон ( Palmerston ), Генри Джон Темпл, виконт (1784— 1865) — английский государственный деятель, в начале своей деятельности тори, с 1830 г. один из лидеров вигов, опиравшийся на правые элементы этой партии; министр иностранных дел (1830— 1834, 1835—1841 и 1846—1851), министр внутренних дел (1852— 1855); премьер-министр (1855 — 1858 и 1859—1865). — 184, 221 — 223, 226, 252, 254-260, 266-268, 273, 299, 302, 304, 305, 311, 313, 530, 533, 556.
Парижский, граф — см. Луи-Филипп Альбер.
Пармская, герцогиня — см. Луиза Вурбонская, Мария-Тереза.
Паррот ( Parrott ), Роберт Паркер (1804—1877) — американский морской офицер и военный изобретатель", создатель пушки, широко применявшейся во время Гражданской войны в США. — 365.
Паскевич, Иван Федорович, князь Варшавский (1782—1856) — русский генерал-фельдмаршал; в 1854 г. главнокомандующий войсками на западной и южной границах России, в мае—июне 1854 г. командовал войсками на Дунае. — 202.
Педру I (1798—1834) — бразильский император (1822—1831), сын португальского короля Жуана VI , отец португальской королевы Марии II да Глориа. — 355.
Пеклингтон ( Peklingthon ) — полковник английской армии. — 303.
Пелисье ( Pellissier ), Жан Жак (1794—1864) —французский маршал, в 30—40-х годах' участвовал в завоевании Алжира, отличался крайней жестокостью; главнокомандующий армией в Крыму (май 1855. —июль. 1856), — 319,
Пеллатон ( Pellaton , S.) — секретарь кооперативного общества пекарей в Женеве. — 392.
Пеллегрин - Друа (Pellegrin-Druat, А .). — 392.
Пеллетъе (Pelletier), Клод (1816— 1881) — французский демократ; после государственного переворота 2 декабря 1851 г. выслан иЭ Франции; эмигрировал в США; был корреспондентом Интернационала для секции французского языка в Америке. — 522.
Иепе (Рере), Гильсльмо (1783— 1855) — деятель итальянского освободительного движения, генерал неаполитанской армии; во время Неаполитанской революции 1820—1821 гг. примкнул к карбонариям и возглавил армию повстанцев; участник революции 1848—1849 гг. в Италии. — 354.
Перре (Porret), Анри — деятель швейцарского рабочего движения, рабочий-гравер, один из руководителей Интернационала в Швейцарии; генеральный секретарь Романского федерального комитета (1868—1873); член Альянса социалистической демократии (1868—1869); после Гаагского конгресса занял примиренческую позицию. — 392, 404.
Перрон (Perron), Шарль Эжен (1837—1919) — деятель швейцарского рабочего движения, художник по эмали, картограф; бакунист, член центрального бюро Альянса социалистической демократии, один из руководителей Юрской федерации; впоследствии отошел от рабочего движения. — 392.
Перье (Perier), Казимир (1777— 1832) — французский государственный деятель, банкир, премьер-министр и министр внутренних дел при Луи-Филиппе (1831 — 1832). — 309.
Перье (Perrié). — 392.
Петр I (1672—1725) — русский царь с 1682 г., император всероссийский с 1721 года. — 253,317, 340-343,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
705
Петр III (1728—1762) — русский император (1761—1762). — 346, 347.
Петрони ( Petroni ), Джузеппе (1812—1888) — итальянский буржуазный революционер, журналист и политический деятель, мадзинист, участник революции 1848—1849 гг.; в 1853 г. был приговорен к пожизненному тюремному заключению, освобожден в 1870 году; редактор газеты «Roma del Popolo ». — 418, 419, 422.
Пе/пти ( Pcttie), Джон. — 504.
Пиа
(Pyat
), Феликс (1810—1889) —
французский публицист, драма
тург и политический деятель;
мелкобуржуазный
демократ,
участник революции 1848 г., противник самостоятельного рабочего движения; член Парижской Коммуны; вел клеветническую кампанию против Маркса и Интернационала. — 306, 307, 309, 310, 330, 457, 458, 538, 548.
Пий VII (в миру — Грегорио Луиджи Барнаба Кьярамонти) (1742— 1823) — римский папа (1800— 1823). - 351, 354.
Пий IX (в миру — Джованни Ма-риа Мастаи-Ферретти) (1792— 1878) — римский папа (1846— 1878). - 327, 356, 410, 420.
Пиль (Peel), Роберт (1788—1850) — английский государственный деятель, лидер умеренных тори (пи-литов), премьер-министр (1834— 1835, 1841—1846), при поддержке либералов провел отмену хлебных законов (1846). — 5, 221, 222.
Пиньер (Pinière или Pinier) (ум. после 1898 г.) — швейцарский лавочник, бакунист. — 392.
Пистер (Pisteur, Fr.). — 392.
Питт (Pitt), Уильям, Младший (1759—1806) — английский государственный деятель, один из лидеров тори; премьер-министр (1783-1801 и 1804-1806). — 51, 349, 352.
Питт (Pitt), Уильям, Старший, с 1766 г. граф Чатам (1708— 1778) — английский государственный деятель, один из лидеров
вигов, министр иностранных дел и военный министр (1756—1761), премьер-министр (1766—1768). — 268, 346.
Плясид (Placide), Маргарита. — 392.
Понятовский (Poniatowski), Ста нислав Август (1732—1798) — польский король под именем Станислава II Августа (1764— 1795). - 240, 347.
Попов, Михаил Герасимович (1818— 1883) — русский генерал, участник Крымской войны. — 215.
Портер (Porter), Джордж (1792— 1852) — английский буржуазный экономист и статистик, фритредер; заместитель министра торговли (с 1841 г.). — 221—223. __
Пост ( Post ) — прусский полицейский чиновник. — 330.
Постлеб (Postleb, Gh.). — 392.
Homo ( Potot ), Жан. - 392.
Поццо-ди-Ворго,
Карл Осипович,
граф
(1764
—1842) — русский
дипломат, по происхождению корсиканец; с 1814 по 1821 г. посланник, с 1821 по 1835 г. посол в Париже, затем в Лондоне (1835-1839). - 353, 355.
Прален ( Praslin ), Шарль, герцог де Шуазель (1805—1847) — французский аристократ; его процесс в 1847 г. по делу об убийстве жены имел политический отклик. — 44.
Прато (Protot), Шарль Эжен Луи (1839—1921) — французский адвокат, врач и журналист; бланкист; член Парижской Коммуны, после подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию, затем в Англию; после амнистии 1881 г. возвратился во Францию; выступал против Интернационала и марксистов. — 538.
Прудон (Proudhon), Пьер Жозеф (1809—1865) — французский публицист, экономист и социолог, идеолог мелкой буржуазии, один из родоначальников анархизма.— 142, 146, 150, 153, 154—164, 169, 171—176, 265, 456, 460.
Пульский (Pulszky), Аврелий Ференц (Францишек) (1814—1897) —
706
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
венгерский политический деятель, писатель и археолог; участник революции 1848—1849 гг. в Венгрии; в 50-х годах сотрудничал в « New - York Daily Tribune »; в 1867 г. после амнистии вернулся в Венгрию; депутат сейма (1867—1876, 1884—1897). — 185.
Путкаммер (Puttkammer) — обер-президент провинции Познань в Пруссии (1851—1860). — 330, 331
Пфендер (Pfänder), Карл (ок. 1818— 1876) — деятель немецкого и международного рабочего движения, художник; член Центрального комитета Союза коммунистов и Генерального Совета Интернационала; друг и соратник Маркса и Энгельса. — 66, 493, 494, 505.
Р
Раглан (Raglan), Фицрой Джемс Генри Сомерсет, барон (1788— 1855) — английский генерал, фельдмаршал (с 1854 г.); начальник артиллерийского управления (1852—1854), главнокомандующий армией в Крыму (1854— 1855). — 205.
Радецкий (Radetzky), Йозеф, граф (1766—1858) — австрийский фельдмаршал, в 1848—1849 гг. жестоко подавил революционное национально - освободительное движение в Италии; в 1850— 1856 гг. — генерал-губернатор Ломбардо-Венецианского королевства. — 30, 202.
Радоеиц (Radowitz), Йозеф (1797— 1853) — прусский генерал и государственный деятель, пред ставитель придворной камарильи, в 1848—1849 гг. один из лиде-
|
$ |
ов правого крыла во франк- уртском Национальном собра нии. — 30. Ра или ( Riley ), Уильям Харрисон (род. в 1835 г.) — английский журналист, республиканец, со циалист; редактор и издатель « International Herald », член Бри танского федерального совета Ин тернационала (1872—1873), вы-
ступал против реформистского крыла совета; в дальнейшем отошел от рабочего движения. — 570, 584.
Ракоци (Râkôczy), (Дьёрдь I Рако ци) (1593—1648) — князь Тран-сильвании (1630—1648), боролся против Габсбургов и Османской империи за объединение всех венгерских земель, в ходе Тридцатилетней войны действовал в союзе со Швецией. — 337.
Ракоци (Râkôczy), (Дьёрдь II Ракоци) (1621—1660) — князь Тран-сильвании (1648—1660). — 338.
Ракоци (Râkôczy), Йожеф (1700— 1738) — один из последних представителей древнего венгерского рода князей Трансильвании; с 1736 г. жил в Турции, умер во время военной экспедиции в Молдавию. — 344.
Ранджит Сингх (1780—1839) — правитель Пенджаба (1797— 1839). - 252, 257.
Распайлъ (Raspail), Франсуа(1794— 1878) — видный французский ученый-естествоиспытатель, публицист, социалист, близкий к революционному пролетариату; участник революций 1830 и 1848 гг., депутат Учредительного собрания. — 45, 309.
Рассел ( Russell ), Джон (1792— 1878) — английский государственный деятель, лидер вигов, министр иностранных дел (1852— 1853, 1859—1865), премьер-министр (1846-1852, 1865-1866), в 1855 г. представитель Англии на Венской конференции. — 266, 319.
Ратсон ( Rutson ) — личный секре тарь английского министра внут ренних дел Бруса. — 410.
Pay ( Rau ), Вильгельм — член Цен трального комитета группы сек ций немецкого языка I Интер национала. — 392.
Рауш (Rausch), Фридрих Вильгельм (род. ок. 1820 г.) — печатник из Бармена; участник вооруженного восстания в Эль-берфельде в мае 1849 года. — 498.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
707
Реймон ( Raymond ), Шарль — делегат учредительного съезда Ро-'манской федерации Интернационала (январь 1869 г.), секретарь центральной секции в Женеве (1870). — 392.
Рейтер (Reuter), Макс — в начале 50-х годов XIX в. прусский полицейский агент в Лондоне. — 509.
Рейтер ( Ruyter ), Михиел де (1607 — 1676) — нидерландский флотоводец, главнокомандующий флотом Генеральных Штатов Нидерландов во время 2-й и 3-й англо-голландских войн (1665 — 1667, 1672-1674); с 1673 г. главный лейтенант-адмирал Нидерландов. — 338.
Реми (Rémy), Теодор — швейцарский учитель, секретарь Центрального комитета группы секций немецкого языка I Интернационала; бакунист, член женевской секции Интернационала «Альянс социалистической демократии». — 392.
Репнин, Николай Васильевич, князь (1734—1801) — русский военный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал (с 1796 г.); участник Семилетней войны (1756—1763); посол в Польше (1763—1769); участник русско-турецких войн (1768— 1774 и 1787-1791). — 347, 348.
Рид (Reid), Роберт — английский журналист, в 1871 г. корреспондент английской и американской прессы во Франции, сочувствовал Парижской Коммуне. — 399, 400, 410.
Рикардо (Ricardo), Давид (1772— 1823) — английский экономист, крупнейший представитель классической буржуазной политической экономии. — 69, 74—79, 81, 82, 84-87, 90, 95, 97, 99, 100, 102-105, 107-110, ИЗ, 114, 117, 121, 122, 124, 128, 132—134, 138, 181-182.
Ринкон (Rincon), Антонио (ум. в 1541 г.) — французский дипломат, посланник Франции в Константинополе; убит в Италии по приказу Карла V. — 333.
Риттингхаузен (Rittinghausen), Мориц (1814—1890) — немецкий
публицист, мелкобуржуазный демократ, автор ряда брошюр по социально-экономическим вопросам; в 1848—1849 гг. сотрудничал в «Neue Rheinische Zeitung»; член Интернационала; до 1884 г. член германской социал-демократической партии. — 162, 164.
Рифаат-паша (1798—1855) — турецкий государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел (1853), председатель Высшего совета юридических установлений (май 1853 — март 1854). - 199.
Ричард
I
Львиное сердце
(1157—
1199)
— английский
король
(1189-1199). - 281.
Ришар (Richard), Альбер (1846— 1925) — французский журналист, один из руководителей лионской секции Интернационала, член тайного Альянса, участник лионского восстания 1870 г.; после подавления Парижской Коммуны выступал как бонапартист; в 80-х годах примыкал к оппортунистическому течению во французском социалистическом движении — аллеманистам. — 396, 403, 410, 458.
Ришелье (Richelieu), Арман Жан дю Плесси, герцог (1585—1642) — крупнейший французский государственный деятель периода абсолютизма, кардинал. — 151, 277, 336, 337.
Ришелье (Richelieu), Луи Франсуа Арман дю Плесси, герцог (1696— 1788) — французский военный деятель и дипломат; маршал Франции (с 1748 г.); участник войн за Испанское, Польское и Австрийское наследство и Семилетней войны. — 346.
Робак (Roebuck), Джон Артур (1801—1879) — английский политический деятель и публицист, буржуазный радикал, член парламента. — 259.
Робен (Robin), Поль (род. в 1837 г.) — французский учитель, бакунист, один из руководителей Альянса социалистической демократии, член Генерального
708
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Совета Интернационала (1870— 1871). - 408, 410, 463.
Роберте ( Roberts ), Уильям Прау-тинг (1806—1871) — английский юрист, был связан с чартистским и тред-юнионистским движением. — 66.
Робеспьер ( Robespierre ), Максимилиан (1758—1794) — выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., вождь якобинцев, глава революционного правительства (1793—1794). — 8, 164, 165, 266, 500.
Романа (Romana), Педро Каро-и- Суреда, маркиз де ла (1761 — 1811) — испанский генерал, участник войны за независимость (1808— 1814). - 209.
Poon (Roon), Альбрехт (1803— 1879) — прусский государственный деятель, военный министр (1859—1873) и морской министр (1861-1871). - 329.
Росетти ( Rossety или Rossetti ), Бьяджо (Блез) — итальянский рабочий, председатель итальянской женевской секции Интернационала, с 1870 г. входил в Романский федеральный комитет. — 392.
Росс (Ross, D.). — 222.
Роуз (Rose), Хью Генри (1801 — 1885) — английский офицер, поверенный в делах в Константинополе (1852—1853), участвовал в подавлении национально-освободительного восстания в Индии (1857-1859). — 186.
Роч ( Roach ), Джон — деятель английского рабочего движения, член Генерального Совета Интернационала (1871—1872), делегат Гаагского конгресса (1872), секретарь-корреспондент Британского федерального совета (1872), примыкал к его рефор-# мистскому крылу, выступал про-' тйв решений Гаагского конгресса Интернационала. — 569, 575.
Роша (Rochat, F.).— 392.
Роша (Rochat), Шарль (род. в 1844 г.) — деятель французского рабочего движения, член Парижского федерального совета Интер-
национала , секретарь-корреспондент Генерального Совета для Голландии (1871—1872). — 410.
Руайе-Коллар (Royer-Collard), Пьер Поль (1763—1845) — французский политический деятель, философ, юрист, сторонник конституционной монархии. — 157.
Рудольф II (1552—1612) — император так называемой Священной Римской империи (1576—1612).— 335.
Руссо (Rousseau), Жан Жак (1712— 1778) — выдающийся французский просветитель, демократ, идеолог мелкой буржуазии. — 152, 162, 163.
Рыжов — генерал русской армии, участник Крымской войны. — 210, 214.
Рюше (Ruchet, Ch.). — 392.
С
Сабина (Sabina), Карел (1813— 1877)—чешский писатель, за участие в революционно-демократическом движении накануне и во время революции 1848—1849 гг. приговорен к тюремному заключению, после освобождения в 1857 г. перешел на позиции либерализма. — 458.
Сабо (Szabô), Имре (Эмерик) (1820—1865) — венгерский офицер, участник революции 1848— 1849 гг., член первого венгерского революционного правительства (март—сентябрь 1848) и депутат Государственного собрания в Дебрецене (1849); после поражения революции эмигрировал в Париж, затем в Лондон. — 332.
Саид-паша, Мухаммед (1822—1863)— правитель Египта (1854—1863).— 304.
Саказ (Sacase), Франсуа (1808— 1884) — французский судейский чиновник, монархист, с 1871 г. депутат Национального собрания. — 457.
Сакс (Saxe), Генрих Морис, граф (1696—1750) — французский
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
709
маршал, автор книги, посвященной вопросам военного искусства. — 287.
Саладин, Юсуф (Саллах-ад-Дин) (1138—1193) — египетский султан (1171—1193), основатель династии Айюбидов. — 281.
Сангинед (Sanguinède, J.). — 392.
Сангинед (Sanguinède), Розалия. — 392.
Секстой ( Sexton ), Джордж — английский социалист, по профессии врач; член Генерального Совета Интернационала (май— август 1872), делегат Гаагского конгресса (1872); в Британском федеральном совете (1872—1873) выступал против реформистских элементов. — 466.
Семякин, Константин Романович (1802—1867) — русский генерал, в период Крымской войны командир бригады, начальник штаба армии (ноябрь 1854 — апрель 1855), участник обороны Севастополя. — 210, 214.
Сен-Клер (Saint-Clair) — участник американского рабочего движения, член Генерального Совета, избранного на Гаагском конгрессе Интернационала (1872). — 466, 473.
Сен-Симон (Saint-Simon), Анри (1760—1825) — великий французский социалист-утопист. — 163.
Сент-Арно (Saint-Arnaud), Арман Жак Ашиль Леруа де (1801 — 1854) — французский маршал, бонапартист; один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г., военный министр (1851—1854), в 1854 г. главнокомандующий армией в Крыму. — 205.
Серрайе (Serrailler), Женни—жена О. Серрайе.—409.
Серрайе (Serrailler), Огюст (род. в 1840 г.) — деятель французского и международного рабочего движения, по профессии рабочий по изготовлению обувных колодок, член Генерального Совета Интернационала (1869— 1872), секретарь-корреспондент
для Бельгии (1870) и Франции (1871—1872); член Парижской Коммуны и Британского федерального совета (1873—1874); соратник Маркса и Энгельса. — 403-406, 408, 409, 413, 414, 462, 463, 466, 472, 553, 554, 584.
Сетти (Setti) — член Североамериканского федерального совета Интернационала. — 466.
Сигизмунд I Люксембургский (1361 — 1437) — император так называемой Священной Римской империи (1410—1437). — 228—230.
Сигизмунд I Старый (1467—1548) — польский король и великий киязь литовский (1506—1548). — 234.
Сидмут ( Sidmouth ), Генри Аддинг-тон, виконт (1757—1844) — английский государственный деятель, тори, премьер-министр и канцлер казначейства (1801 — 1804); на посту министра внутренних дел (1812—1821) проводил репрессивные меры против рабочего движения. — 225.
Симон (Simon), Жюль(1814—1896)— французский государственный деятель и философ-идеалист, умеренный буржуазный республиканец, депутат Учредительного собрания (1848—1849), член Законодательного корпуса, входил в правительство национальной обороны и правительство Тьера. — 315.
Симон (Simon), Леви — немецкий торговец; свидетель на процессе по делу участников вооруженного восстания в Эльберфельде в мае 1849 года. — 498.
Симонич, Иван Степанович (1792— 1855) — русский генерал, посланник вТегеране(1832—1839).— 255.
Сисмонди (Sismondi), Жан Шарль Леонар Симонд де (1773—1842)— швейцарский экономист, мелкобуржуазный критик капитализма, видный представитель экономического романтизма. — 138, 141, 181, 182.
Скопини ( Scopini , J. J .) — председатель, затем заместитель секре-
710
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕВ
таря женевской секции слесарей, механиков и прокатчиков, участник съезда Романской федерации Интернационала в Ла-Шо-де-Фоне (апрель 1870 г.). — 392.
Смит ( Smith ), Адам (1723—1790) — английский экономист, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии. — 90, 91, 95, 96, 101, 107, 112, 132, 134, 141, 142, 152.
Смит ( Smith ), Адольф Хединли — английский социалист, журналист, в 1871 г. примыкал к враждебной Генеральному Совету Интернационала Французской секции в Лондоне; с 80-х годов член Социал-демократической федерации. — 400.
Смит ( Smith ), Уильям Сидней (1764—1840) — английский адмирал. — 281.
Смит, Федор Иванович (ок. 1787— 1865) — русский военный историк. — 192, 193.
Сова (Sauva), Арсен — французский социалист, по профессии портной; последователь Кабэ, один из руководителей икарий-ских колоний в США; участник Парижской Коммуны; член Интернационала; в 70-х годах принимал участие в социалистическом движении в США. — 563.
Станхоп ( Stanhope ), Джемс, граф (1673—1721) — английский военный и политический деятель, дипломат, виг, государственный секретарь (1714—1717), канцлер казначейства (1717—1721). — 267.
Сток ( Stock), Джон. — 559.
Стратфорд де Редклифф ( Strat ford de Redcliffe), Стратфорд Каннинг, виконт (1786—1880) — английский дипломат, посланник в Константинополе (1810—1812, 1825-1828, 1841-1858). - 304.
Струве (Struve), Густав (1805— 1870) — немецкий мелкобуржуазный демократ, по профессии журналист, один из руководителей б аденских восстании в апреле и сентябре 1848 г, и баденско-
пфальцского восстания 1849 г., один из лидеров немецкой мелкобуржуазной эмиграции в Англии; участник Гражданской войны в США на стороне северян. — 501, 502.
Стэнли (Stanley), Эдуард Генри, с 1869 г. граф Дерби (1826— 1893) — английский государственный деятель, тори, в 60—70-х годах консерватор, затем либерал; министр по делам Индии (1858—1859), министр иностранных дел (1866—1868 и 1874— 1878). — 299.
Стюарты — королевская династия, правившая в Шотландии (1371-1714) и в Англии (1603— 1649, 1660-1714). - 342, 345.
Су виз (Soubise), Шарль де Роган, принц де (1715—1787) — французский маршал, фаворит Людовика XV , участник Семилетней войны (1756—1763). — 346.
Суворов, Александр Васильевич (1729—1800) — великий русский полководец. — 349.
Сулейман I Канунй (Сулейман Великолепный) (1495—1566) — турецкий султан (1520—1566). — 333, 334.
Сулук (Soulouque), Фаустин (ок. 1782—1867) — президент негритянской республики Гаити (1847— 1849), провозгласивший себя в 1849 г. императором под именем Фаустина I . — 11.
Сулът (Soult), Никола Жан (1769— 1851) — французский маршал и государственный деятель, участник войн наполеоновской Франции, в 1808—1813 гг. командовал французскими войсками в войне на Пиренейском полуострове, военный министр (1830—1834, 1840—1845), министр иностранных дел (1839—1840) и премьер-министр (1832-1834, 1839-1840, 1840-1847). - 207.
Суэнсон (Swainson), Джон — владелец фабрики в Престоне. — 190.
Сфорца—см. Массимильяна Сфор-ца.
Сэй ( Say ), Жан Батист(1767-1832)— французский буржуазный эко-
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
711
номист, представитель вульгарной политической экономии. — 101, 107, 131, 138. Сю (Sue), Эжен (1804—1857) — французский писатель, автор сентиментально-мещанских романов на социальные темы. — 16, 22.
Т
Тауенцин (Tauenzien), Богисяав Фридрих Иммануил (1760— 1854) — прусский генерал, участник коалиционных войн против Французской республики и наполеоновской Франции. — 296.
Таунсенд (Townshend), Уильям — английский рабочий, член Генерального Совета Интернационала (1869—1872), участник социалистического движения в 80-х годах. — 584.
Тацит (Публий Корнелий Тацит) (ок. 56— ок. 117) —крупнейший римский историк.— 307.
Тест (Teste), Жан Батист (1780— 1852) — французский адвокат и государственный деятель, орлеанист, министр торговли, юстиции и общественных работ в период Июльской монархии, привлекался к суду за подкуп и злоупотребления. — 44.
Тибалъди (Tibaldi), Паоло (1825— 1901) — итальянский революционер, гарибальдиец, член Интернационала, участник Парижской Коммуны. — 410.
Тилли ( Tilly ), Иоганн Церклас, граф (1559—1632) — известный полководец, фанатичный католик, с 1630 г. главнокомандующий имперской армией в ходе Тридцатилетней войны. — 236.
Тихен (Tichen, Thiessen, Tiehsen), Эдуард . - 493, 494.
Толен ( Tolain ), Анри Луи (1828— 1897) — французский рабочий-гравер, правый прудонист, один из основателей парижской секции Интернационала; депутат Национального собрания 1871 г., во время Парижской Коммуны перешел на сторону версальцев и
был исключен из Интернационала. — 376, 377, 400, 409, 537.
Толстой, Яков Николаевич (1791 — 1867) — русский литератор; с 1823 г. эмигрант в Париже, с 1837 г. корреспондент министерства народного просвещения и тайный агент III отделения. — 192, 193.
Торе (Thoré), Этьенн Жозеф Теофиль (1807—1869) — французский политический деятель, адвокат и журналист, мелкобуржуазный демократ, активный деятель революции 1848 г., участник событий 15 мая 1848 года. — 309.
Трела (Trélat), Улис (1795—1879) — французский политический деятель, буржуазный республиканец, в 1848 г. депутат Учредительного собрания, министр общественных работ (май — июнь 1848). - 57.
Трестайон
(Trestaillons),
Жак Дю
пон — французский
легити
мист. — 8.
Тромп ( Tromp ), Корнелис (1629— 1691) — нидерландский флотоводец, адмирал; участник 2-й и 3-й англо-голландских войн (1665— 1667, 1672-1674); с 1676 г. -главнокомандующий флотом Нидерландов. — 338.
Трошю ( Trochu ), Луи Жюль (1815— 1896) — французский генерал и политический деятель, орлеанист, глава правительства национальной обороны, главнокомандующий вооруженными силами Парижа (сентябрь 1870 — январь 1871), предательски саботировал оборону города; депутат Национального собрания 1871 года. — 420.
Тру лав ( Truelove ), Эдуард (1809— 1899) — лондонский издатель, чартист, последователь Оуэна; издал два воззвания Генерального Совета о франко-прусской войне и «Гражданскую войну во Франции». — 414.
Тук ( Tooke ), Томас (1774—1858) -» английский буржуазный экономист, примыкал к классической школе политической экономии,
712
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕЯ
критик теории денег Рикардо; автор многотомной работы «История цен». — 141.
Турн-унд- Таксис (Thurn und Taxis), Максимилиан Карл (1802— 1871) — немецкий владетельный князь. — 30.
Тьер ( Thiers ), Адольф (1797-1877)-французский буржуазный историк и государственный деятель, премьер-министр (1836—1840); палач Парижской Коммуны; президент республики (1871 — 1873). — 9, 20, 307, 399, 419, 460, 469, 488, 542, 564, 581.
Тюрго ( Turgot ), Анн Робер Жак (1727—1781) — французский экономист и государственный деятель, крупнейший представитель школы физиократов, генеральный контролер финансов (1774— 1776). - 265.
Тюрепн ( Turonno ), Анри де ла Тур д'Овернь, виконт (1611—1675) — известный полководец, маршал Франции (с 1643 г.), во время Тридцатилетней войны (1618— 1648) главнокомандующий французской армией в Германии; участвовал в войнах Фронды, Дево-люционной войне (1667—1668), автор мемуаров. — 336, 339.
У
Удино ( Oudinot ), Никола Шарль (1767—1847) — французский генерал, с 1809 г. маршал, участник войн наполеоновской Франции.— 297.
Уилер ( Wheeler ), Джордж Уильям — деятель английского рабочего движения, член Генерального Совета Интернационала (1864— 1867), член Британского федерального совета. — 515, 584.
Уилкс ( Wilks ), Вашингтон (ок. 1826—1864) — английский радикальный публицист, один из редакторов газеты « Morning Star».—
• 225.
У ланд (Unland), Людвиг (1787— 1862) = немецкий поэт-романтик,
в 1848—1849 гг. депутат франкфуртского Национального собрания, принадлежал к левому центру. - 327.
Уорд (Ward), Осборн — участник американского рабочего движения; механик; член секции Интернационала в Бруклине; член Генерального Совета, избранного на Гаагском конгрессе; находился под влиянием буржуазных реформаторов. — 404, 406, 473.
Уоррен ( Warren ), Питер (1703—• 1752) — английский адмирал; но происхождению ирландец; участник войны за Австрийское наследство (1740—1748), член парламента. — 345.
Уошберн ( Washburne ), Элихью Бенджамин (1816—1887) — американский политический деятель и дипломат, принадлежал к республиканской партии, посланник в Париже (1869—1877), проводил политику, враждебную Парижской Коммуне. — 410.
Ур карт ( Urquhart ), Давид (1805— 1877) — английский дипломат, реакционный публицист и политический деятель, туркофил; выступал с разоблачениями внешней политики Пальмерстона; основатель и редактор газеты « Free Press» (1855-1865). - 184, 185, 222, 223, 227, 264.
Утин, Николаи Исаакович (1845— 1883) — русский революционер, участник студенческого движения, член общества «Земля и воля»; один из организаторов Русской секции Интернационала в Женеве, член редакции «Народного дела» (1868—1870); активно поддерживал Маркса и Генеральный Совет в борьбе против Бакунина и его приверженцев; в середине 70-х годов, после возвращения в Россию, отошел от революционного движения. — 464.
Ушаков, Александр Клеонакович (1803—1877) — русский генерал, в 1854 г. участвовал в военных действиях на Дунае, в 1855 г. командовал дивизией в Крыму. —. 198,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
713
Уэйд (Wade), Чарлз — участник республиканского движения в Англии. — 409.
Уэйкфилд ( Wakefield ), Эдуард Гиббон (1796—1862) — английский государственный деятель, экономист, выдвинул буржуазную теорию колонизации. — 128.
Уэйленд ( Wayland ), Френсис (1796— 1865) — американский священник, автор популярных учебников по этике, политической экономии, президент университета в американском городе Провиденс. — 180.
Уэлсли ( Wellesley ), Ричард Каули, маркиз (1760—1842) — английский военный и государственный деятель, посол в Испании (1809). — 209.
Уэльский, принц —■ см. Карл I .
Уэст ( West ), Уильям — американский буржуазный радикал, член Нью-Йоркской секции № 12, исключенной из Интернационала Гаагским конгрессом. — 429— 432, 434, 468.
Уэстон ( Weston ), Джон — деятель английского рабочего движения, по профессии плотник, затем предприниматель; оуэнист; член Генерального Совета Интернационала (1864—1872) и Британского федерального совета. — 401, 405, 533, 534.
Ф
Фаван ( Favand ), ЭтьеннЭдуар Шарль Эжен (1793—1854) — французский политический деятель; в 1813—1814 гг. участник наполеоновских войн; республиканец, примыкал к партии Горы, депутат Учредительного (1848) и Законодательного собраний (1850— 1851); противник государственного переворота 2 декабря 1851 года. — 8.
Фавр (Favre), Жюль (1809—1880) — французский адвокат и политический деятель, один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев, депутат Учредительного и Законодательного собраний (1848—1851); министр ино-
странных дел (1870—1871), палач Парижской Коммуны. — 408, 409, 420, 457, 526, 530, 542.
Фаркаш (Farkas), Кароль (1843— 1907) — видный деятель венгерского рабочего и социалистического движения, пропагандист марксизма, по профессии рабочий-металлист; один из организаторов и руководителей секции Интернационала в Венгрии, делегат Гаагского конгресса Интернационала (1872). — 484.
Фарнезе (Farnese), Александр (Алессандро), герцог Пармский (1545— 1592) — испанский полководец и государственный деятель, в 1578—1592 гг. наместник в Нидерландах. — 288.
Фарнезе (Farnese), Елизавета, принцесса Пармская (1692—1766) — испанская королева; жена испанского короля Филиппа V. — 343.
Фердинанд — см. Фердинанд фон Эсте.
Фердинанд Австрийский — См. Фер динанд I.
Фердинанд, князь Гуасталлы — см. Ферранте II .
Фердинанд Католик (1452—1516) — король Арагона (1479—1516), его брак с королевой Кастилии Изабеллой (1469 г.) завершил объединение Испании. — 275, 276.
Фердинанд I (1503—1564) —император так называемой Священной Римской империи (1556—1564), брат Карла V . — 333—335.
Фердинанд I (1751—1825) — король обеих Сицилии (1816—1825); в 1759—1825 гг. (с перерывами) король неаполитанский под именем Фердинанда IV; король сицилийский (1759—1825) под именем Фердинанда III . — 353, 354.
Фердинанд II (1578—1637) — император так называемой Священной Римской империи (1619—1637).— 236, 237, 336, 337.
Фердинанд III (1608—1657) — австрийский эрцгерцог, император так называемой Священной Римской империи (1637—1657). — 277, 337, 338.
714
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕЙ
Фердинанд VII (1784—1833) — испанский король (1808 и 1814— 1833). - 354, 355.
Фердинанд фон Эсте, эрцгерцог (1781—1850) — австрийский фельдмаршал, участник войн против наполеоновской Франции. — 352.
Фердинандо-Альберто-Амедео, герцог Генуэзский (1822—1855) — сын сардинского короля Карла-Альберта, участник войны против Австрии в 1848—1849 гг.; в 1848 г. избран королем Сицилии, но не занял престола. — 356.
Фердинандо Карло (1652—1708) — герцогМантуанский (1665—1707), последний из рода Гонзага. — 340.
Ферранте II (1563—1630) — князь Гуасталлы из рода Гонзага. — 336.
Фийета (Filliétaz, G.) — участник швейцарского рабочего движения, член Интернационала. — 392.
Филипп (1720—1765) — герцог Пармский (1748—1765). — 345.
Филипп I Красивый (1478—1506) — король Нидерландов (1482—1506), муж Хуаны Безумной, отец Карла V. - 275.
Филипп II (1527—1598) — испанский король (1556—1598). — 276, 334, 335.
Филипп III (1578—1621) — испанский король (1598—1621). — 335, 336.
Филипп IV (1605—1665) — испанский король (1621—1665). —336, 338, 339.
Филипп V (1683—1746) — испанский король (1700—1746), герцог Анжуйский. — 340—343, 345.
Филипп Орлеанский (Philippe d'Orléans), герцог Шартрский (1674— 1723) — племянник Людовика XIV , регент Франции (1715— 1723) при малолетнем Людовике XV . - 341, 342.
Финке (Vincke), Георг, барон (1811—1875) — прусский политический деятель, в 1848—1849 гг. один из лидеров правого крыла во франкфуртском Нацио-
нальном собрании; в 50—60-х годах депутат прусского ландтага, умеренный либерал. — 328, 329.
Фихте (Fichte), Иоганн Готлиб (1762—1814) — представитель классической немецкой философии, субъективный идеалист. — 459.
Флёри (Fleury), Эндре Эркюль де (1653—1743) — французский кардинал и государственный деятель, первый министр Людовика XV (с 1726 г.). - 278, 344.
Флокон (Flocon), Фердинан (1800— 1866) — французский политический деятель и публицист, мелкобуржуазный демократ, в 1848 г. член Временного правительства. — 45.
Флоридабланка (Floridabianca), Хо-се Моньино, граф (1728—1808) — испанский государственный деятель и дипломат, сторонник просвещенного абсолютизма, министр (1777—1792), председатель Центральной хунты (1808). — 208.
Флуранс (Flourens), Гюстав (1838— 1871) — французский революционер и естествоиспытатель, бланкист, один из руководителей восстаний в Париже 31 октября
1870
г. и 22 января 1871 г.; член
Парижской Коммуны;
в апреле
1871
г. зверски убит версаль-
цами. — 538.
Фогт (Vogt), Август (ок. 1830 — ок. 1883) — видный деятель немецкого и американского рабочего движения; по профессии сапожник; член Союза коммунистов, участник революции 1848— 1849 гг. в Германии; член Всеобщего германского рабочего союза, выступал вместе с Либкнехтом против лассальянства; член Интернационала, в 1867 г. эмигрировал в США, член нью-йоркского Коммунистического клуба, один из организаторов секций Товарищества в Америке, корреспондент Генерального Совета; сторонник Маркса и Энгельса. — 522.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
715
Фокс (Fox) , Питер (настоящее имя Пи тер Фокс Андре) (ум. в 1869 г.) — деятель английского демократического и рабочего движения, журналист, позитивист; один из руководителей английской Национальной лиги независимости Польши, член Генерального Совета Интернационала (1864— 1869). — 376.
Фокс (Fox), Чарлз Джемс (1749— 1806) — английский государственный деятель, лидер вигов, министр иностранных дел (1782, 1783 и 1806). — 267, 352.
Форначчиери (Fornaccieri) — участник американского рабочего движения, по национальности итальянец; член Генерального Совета Интернационала, избранного на Гаагском конгрессе (1872). — 473.
Форнашон (Fornachon, L. H.) (ум. пссле 1898 г.) — член женевской секции Интернационала «Альянс социалистической демократии».— 392.
Фосетт ( Fawcett ), Генри (1833— 1884) — английский вульгарный буржуазный экономист, последователь Джона Стюарта Милля, член парламента с 1865 г., либерал. — 464.
Франклин ( Franklin ), Бенджамин (1706—1790) — крупный американский физик, экономист, политический деятель, участник войны североамериканских колоний за независимость. — 348.
Франц I (Франц Стефан Лотаринг-ский) (1708—1765) — император так называемой Священной Римской империи (1745—1765); герцог Лотарингский под именем Франциска III (1729—1736); великий герцог Тосканский (1737— 1765). — 278, 344, 345.
Франц I (1768—1835) — австрийский император (1804—1835), под именем Франца II император так называемой Священной Римской империи (1792—1806). — 354.
Франц-Иосиф I (1830—1916) — австрийский император (1848—
1916). — 31, 206, 262, 321— 323.
Франциск I (1494—1547) — французский король (1515—1547). — 276, 277, 332—334.
Франциск I (1777—1830) —король обеих Сицилии (1816—1825). — 354.
Франциск II (1544—1560) — французский король (1559—1560). — 334.
Франциск II (1836—1894) — неаполитанский король (1859—1860).— 327.
Франциск III — см. Франц I (Франц Стефан Лотарингский).
Франческо II (1495—1535) — герцог Миланский из династии Сфор-ца.— 276, 332.
Фрегосо ( Fregoso ), Чезаре (ум. в 1541 г.) — французский дипломат из старинного генуэзского рода; посланник Франции в Венеции; убит по приказу Карла V . — 333
Фредерик VII (1808—1863) — датский король (1848—1863). — 62.
Фрейлиграт ( Freiligrath ), Фердинанд (1810—1876) — немецкий поэт, в начале своей деятельности романтик, затем революционный поэт, в 1848—1849 гг. один из редакторов «Neue Rheinische Zeitung», член Союза коммунистов; в 50-х годах отошел от революционной борьбы. — 40.
Френкель (Fränkel) — немецкий рабочий, деятель Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне, в 1849—1850 гг. член Центрального комитета Союза коммунистов; после его раскола в 1850 г. принадлежал к сектант-ско-авантюристической фракции Виллиха — Шаппера. — 505.
Фрибур (Fribourg, Е. Е.) — деятель французского рабочего движения, по профессии рабочий-гравер, позднее коммерсант, правый прудонист, один из руководителей парижской секции Интернационала; в 1871 г. выпустил книгу «L'Association Internationale des Travailleurs», враждеб-
716
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ную Интернационалу и Парижской Коммуне. — 374, 375.
Фридрих I — см. Фридрих VI.
Фридрих I (1657—1713) — Бран-денбургский курфюрст под именем Фридриха III (с 1688 г.), затем прусский король (1701 — 1713). - 239, 240, 341.
Фридрих I (1754—1816) — герцог (с 1797 г.) и король (1805—1816) Вюртемберга. — 351.
Фридрих II (1712—1786) — прусский король (1740—1786). — 240, 344-347.
Фридрих II «Железный» (1413— 1471) — курфюрст Бранденбургский (1440—1470), в 1470 г. отрекся от престола в пользу своего брата Альбрехта III Ахиллеса. — 230, 231.
Фридрих V (1596—1632) — курфюрст Пфальцский (1610—1623). - 336.
Фридрих
VI
(1371—1440)
— Нюрн
бергский бургграф (с 1398 г.),
Бранденбургский
курфюрст
(1417—1440) под именем Фридриха I; основатель династии Го-генцоллернов. — 228—231.
Фридрих-Август I (1750—1827) — курфюрст Саксонский (1763— 1806) под именем Фридриха-Августа III , король Саксонии (1806-1827). — 352.
Фридрих-Август II (1797—1854) — саксонский король (1836—1854).— 28, 327, 356.
Фридрих-Август Саксонский — см. Август II Сильный.
Фридрих-Вильгельм
(1620—1688) —
курфюрст
Бранденбургский
(1640—1688), в 1657 г, присоединил к Бранденбургу герцогство Пруссию, которым до этого владел в качестве ленника Речи Посполитой. — 237—239, 338.
Фридрих-Вильгельм I (1688—1740)— прусский король (1713—1740). — 240, 344.
Фридрих-Вильгельм II (1744— 1797) — прусский король (1786— 1797).—241, 349.
Фридрих-Вильгельм III (1770— 1840) — прусский король (1797— 1840). - 241, 297.
Фридрих-Вильгельм IV (1795— 1861) — прусский король (1840— 1861). - 28, 30-34, 36, 62, 220, 247, 262, 327—329, 356.
Фримонт (Frimont), Иоганн Мария, князь Антродокко (1759—1831) — австрийский генерал, командующий австрийским экспедиционным корпусом, участвовавшим в подавлении Неаполитанской революции 1820—1821 годов. — 354.
Фрисс (Friess, J. или Fries )— член Интернационала и Центрального комитета группы секций немецкого языка в Швейцарии. — 392.
Фулъд ( Fould), Ашиль (1800—1867)
— французский
банкир и полити
ческий деятель, орлеанист, впо
следствии бонапартист, в 1849—
1867 гг. неоднократно запимал
пост министра финансов. — 6,
52.
Фуръе ( Fourier), Шарль (1772—1837)
— великий
французский соци
алист-утопист. — 158.
Фюлике ( Fulliquet ), Луи — швейцарский рабочий; член Интернационала, секретарь секции столяров-краснодеревщиков в Женеве. — 392.
X
Хайраддин Барбаросса (ок. 1483— 1546) — правитель Алжира (1519 -1546). - 333.
Халек ( Huleck ), Мария — член Генерального Совета Интернационала (1868), эмигрировала в США. — 434.
Харрис ( Harris ), Джордж — деятель английского рабочего движения, последователь чартиста О'Брай-ена; член Генерального Совета Интернационала (1869—1872). — 408.
Харт (Hart), Джекоб — английский консул в Лейпциге. — 222.
Хейлз ( Hales), Джон (род. в 1839 г.)
— деятель
английского тред-юни
онистского движения, по профес
сии ткач, член Генерального Со
вета Интернационала (1866—
1872) и его секретарь; с начала
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕЯ
717
1872 г. возглавил реформистское крыло Британского федерального совета, вел борьбу против Маркса и его сторонников, стремясь захватить руководство организациями Интернационала в Англии; исключен из Интернационала решением Генерального Совета от 30 мая 1873 года. — 401, 402, 404, 405, 409, 411, 414, 462, 463, 488, 568-573, 575.
Хейнеман (Heinemann) — прусский полицейский агент в Англии, с 1869 г. главный редактор изда вавшегося в Лондоне немецкого еженедельника «Hermann ». — 407.
Хендерсоп ( Henderson ), Эдмунд Неймепс Уолкотт (1821—1896) — начальник лондонской полиции в 1869-1886 годах. — 570.
Херштадт ( Herstadt , I. D .) — банкир в Кёльне, присяжный заседатель на кёльнском процессе коммунистов (1852). — 508.
Хилз (Hills), Эдмунд — секретарь Британского федерального совета Интернационала (1872), выступал против его реформистского крыла. - 570.
Хильдбургхаузен
(Hildburghausen),
Йозеф Мария Фридрих Виль
гельм, принц Саксонский (1702—
1787) — немецкий
фельдмар-
шал. — 346,
Хилъман (Hillmann), Гуго — немецкий демократ, участник революции 1848—1849 гг., после поражения революции эмигрант в Лондоне; член Всеобщего германского рабочего союза, в 1869 г. присоединился к Социал-демократической рабочей партии. —501.
Хлодвиг I (465—511) — франкский король из династии Меровингов (481—511). — 151.
Ховелъянос-и-Рамирес (Jovellanos y Ramirez ), Гаспар (1744—1811) — испанский государственный деятель, писатель, юрист и экономист, последователь французских просветителей XVIII века; в 1808—1810 гг. возглавлял левое меньшинство Центральной хунты. — 208.
Холиок ( Holyoake ), Джордж Джекоб (1817—1906) — английский публицист, реформист, в 30— 40-х годах примыкал к оуэнистам и чартистам, видный деятель кооперативного движения. — 410.
Холтон (Holton) — английский капиталист. — 304.
Холторп ( Holtorp ), Эмиль — польский эмигрант в Лондоне, член Генерального Совета Интернационала (1864—1866), секретарь-корреспондент для Польши(1864— 1865). — 515.
Хонтхейм (Honllieim), Рихард (ум. в 1857 г.) — адвокат в Кёльне, защитник на кёльнском процессе коммунистов. — 508, 509.
Хоук (Hawke), Эдуард, барон (1705 —1781) — английский адмирал, участник войны за Австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1757—1763); член парламента, первый лорд адмиралтейства (1765—1771). — 345.
Хоут (Hout), Исаак Соломон, ван дер (род. в 1843 г.) — голландский рабочий, делегат Гаагского конгресса Интернационала (1872) от секций в Амстердаме. — 461.
Хуана Безумная (1479—1555) — королева Кастилии с 1504 г., Арагона — с 1516 г.; супруга Филиппа I Красивого (с 1496 г.); фактически Испанией при Хуане правили регенты, а с 1516 г. ее сын Карл V . — 275.
Хубер (Huber), Иоганн (1830— 1879) — немецкий философ и теолог, профессор философии в Мюнхене (с 1855 г.). — 459.
Хюнербейн (Hühnerbein), Фридрих Вильгельм (род. ок. 1817 г.) — немецкий портной, член Союза коммунистов, член Комитета безопасности во время вооруженного восстания в Эльберфельде в мае 1849 года. — 497.
ц
Целлер (Zöller, Phil.). — 392.
Ч
Чаеиш ( Chaves ), Мануэль де Силь-вейра Пинто де Фонзека, граф
718
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Амаранте, маркиз (1784—1830) — португальский генерал и поли тический деятель, сторонник аб солютной монархии; один из ру ководителей мятежа, положив шего начало Мигелистским войнам (1823-1834). — 354.
Чамберс ( Chambers ) — английский политический деятель, член парламента. — 188.
Чарторыский ( Czartoryski ), Адам Ежи, князь (1770—1861) — польский магнат, во время польского восстания 1830—1831 гг. глава временного правительства, поело подавления восстания эмигрировал в Париж, где возглавлял польскую консервативно-монархическую эмиграцию. — 331.
Чатам — см. Питт Уильям, Старший.
Чеодаев, Михаил Иванович (ум. в 1859 г.) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 г., во время Крымской войны командовал корпусом и резервами пехоты. — 198.
Чичеруаккъо — см. Врунетти, Ан же ло.
Ш
Шамбор ( Chambord ), Анри Шарль, герцог Бордосский (1820—1883)— последний представитель старшей линии Бурбонов, внук Карла X , претендент на французский престол под именем Генриха V . — 20, 33, 36, 307.
Шангарнъе (Changarnier), Никола Анн Теодюль (1793—1877) — французский генерал и буржу азный политический деятель, монархист, в период Второй республики депутат Учредительного и Законодательного собраний; после июня 1848 г. командующий гарнизоном и национальной гвардией Парижа, принимал участие в разгоне демонстрации 13 июня 1849 г. в Париже; в 1851 г. был выслан из Франции. — 11.
Шанзи ( Chanzy ), Антуан Альфред Эжен (1823—1883) — француз ский генерал, во время франко-прусской войны командир 16-го
корпуса, затем 2-й Луарской ар мии; депутат Национального со брания 1871 года. — 525.
Шано ( Chanoz ), Жан Батист (род. в 1828 г.) — французский рабочий- ткач, член лионской секции Интернационала. — 396.
Шаппер ( Schapper ), Карл (1812— 1870) — деятель немецкого рабочего движения, один из руководителей Союза справедливых, член Центрального комитета Союза коммунистов, участник революции 1848—1849 гг.; в 1850 г. один из лидеров сектантско-аван-тюристической фракции во время раскола Союза коммунистов; с 1856 г. вновь сблизился с Марксом; член Генерального Совета Интернационала. — 65, 66, 505, 507.
Шатийон — см. Колииъи.
Шварценберг ( Schwarzenberg ), Адам, граф (1587—1641) — тайный со ветник Брапденбургского кур фюрста Георга-Вильгельма, проводил политику, направленную на сближение Бранденбурга с императорами так называемой Священной Римской империи. — 236.
Шварценберг ( Schwarzenberg ), Карл Филипп, князь (1771—1820) — австрийский фельдмаршал и ди пломат, участник войн против на полеоновской Франции, в 1813— 1814 гг. главнокомандующий объединенными войсками антифранцузской коалиции. — 293.
Швейцер ( Schweitzer ), Иоганн Бап тист (1833—1875) — один из видных представителей лассальянства в Германии, президент Всеобщего германского рабочего союза (1867—1871); поддерживал проводимую Бисмарком политику объединения Германии «сверху» под гегемонией Пруссии; вел борьбу против Социал-демократической рабочей партии; в 1872 г. исключен из Союза в резуль тате разоблачения его связей с прусскими властями. — 402, 435.
Шверин (Schwerin), Максимилиан, граф (1804—1872) — один из
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
719
представителей прусского дворянства и бюрократии, депутат франкфуртского Национального собрания, принадлежал к правому крылу, министр внутренних дел (1859—1862), национал-либерал. — 330.
Швицгебель (Schwitzguebel), Адемар (1844—1895) — деятель швейцарского рабочего движения, по профессии гравер, член Интернационала; бакунист, один из руководителей Альянса социалистической демократии и Юрской федерации. — 451, 474—475, 561.
Шевалье (Chevallier), Франсуа — участник швейцарского рабочего движения, член комитета кооперативного общества булочников в Женеве, являвшегося секцией Интернационала. — 392.
Шёнгальс (Schönhals), Карл Риттер (1788—1857) — австрийский генерал, участник войн с наполеоновской Францией и подавления освободительного движения в Италии в 1848-1849 гг. — 30.
Шеневаль (Cheneval, L. J .). — 392.
Шерваль ( Cherval ), Жюльен (настоящее имя Йозеф Кремер) — прусский полицейский агент-провокатор, проникший в ряды Союза коммунистов; один из обвиняемых по делу о так называемом немецко-французском заговоре в Париже в феврале 1852 г., с помощью полиции бежал из тюрьмы. — 508.
Шеттель ( Schettel ), Адриен — французский рабочий-механик; левый республиканец, участник революции 1848 г.; один из организаторов секции Интернационала в Лионе. — 396.
Шили (Schily), Виктор (1810—1875) — немецкий мелкобуржуазный демократ, по профессии адвокат; участник баденско-пфальцекого восстания 1849 г.; затем эмигрант во Франции, активный деятель Интернационала в Париже. — 374—377.
Шнейдер II (Schneider II ), Карл — немецкий юрист, мелкобуржуазный демократ, участник револю-
ции 1848—1849 гг.; защитник на кёльнском процессе коммунистов. — 508, 509.
Шпейер (Speyer), Карл (род. в 1845 г.) — немецкий рабочий-столяр, член Интернационала, в 1870 г. эмигрировал в США, с октября 1872 г. член Генерального Совета. — 473, 557, 558.
Шрамм (Schramm), Конрад (ок. 1822—1858) — видный участник немецкого рабочего движения, член Центрального комитета Союза коммунистов, ответственный издатель журнала «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue»; друг и соратник Маркса и Энгельса. — 505.
Шрамм (Schramm), Рудольф (1813— 1882) — немецкий публицист, мелкобуржуазный демократ, в 1848 г. депутат прусского Национального собрания, принадлежал к левому крылу; после революции эмигрировал в Англию, выступал против Маркса; в 60-х годах сторонник Бисмарка. — 501.
Штарке (Starke), Карл — вахмистр из Грефрата; свидетель на процессе по делу участников вооруженного восстания в Эльбер-фельде в мае 1849 года. — 498, 499.
Штейн ( Stein , A. F .) — прусский историк начала XIX века. — 228.
Штейнигер (Steiniger), Август — немецкий унтер-офицер; свидетель на процессе по делу участников вооруженного восстания в Эльберфельде в мае 1849 года.— 498, 499.
Штибер (Stieber), Вильгельм (1818 —1882) — начальник прусской политической полиции (1850— 1860); один из организаторов судебного процесса в Кёльне против членов Союза коммунистов и главный свидетель на этом процессе (1852). — 508, 509.
Штирнер (Stirner), Макс (литературный псевдоним Каспара Шмидта) (1806—1856) — немецкий философ, младогегельянец, один из идеологов буржуазного индиви-
24 М. а В. т. 44
720
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
дуализма и анархизма. — 146, 156, 157, 170.
Штолъценберг (Stolzenberg) — прусский полицейский чиновник в Познани. — 330.
Шуааёль (Choiseul), Этьенн Франсуа, граф де Стенвиль, герцог де (1719—1785) — французский государственный и военный деятель; в 1758—1770 гг., будучи первым министром Франции, занимал также посты министра иностранных дел (1758—1761 и 1766—1770), военного и морского министра (1761—1766). — 345, 346.
Шуджа-Улъ-Мульк (ум. в 1842 г.) — афганский шах (1803—1809 и 1839—1841). — 257.
Шулъце-Делич (Sclmlze-Delitzsch), Герман (1808—1883) — немецкий политический деятель и вульгарный буржуазный экономист, сторонник объединения Германии под главенством Пруссии; в 60-х годах один из лидеров прогрессистов; пытался отвлечь рабочих от революционной борьбы путем организации кооперативных обществ. — 394.
Э
Эберлинг (Haeberling), Адольф — член инициативной комиссии кооперативного общества булочников в Женеве, являвшегося секцией I Интернационала. — 392.
Эване ( Evans ), Джордж де Лейси (1787—1870) — английский генерал, участник Крымской войны; либеральный политический деятель, член парламента. — 299.
Эккариус ( Eccarius ), Иоганн Георг (Джон Джордж) (1818—1889) — видный деятель международного и немецкого рабочего движения, публицист, по профессии портной; член Союза коммунистов и Генерального Совета Интернационала (1864—1872), генеральный секретарь Совета (1867— 1871), секретарь-корреспондент для Америки (1870—1872); после Гаагского конгресса примкнул к реформистским лидерам английских тред-юнионов, в дальней-
шем — деятель тред-юнионистского движения. — 386, 407, 409, 412-414, 463, 505, 521, 522, 528, 537, 570, 571.
Элеонора — дочь прусского герцога Альбрехта-Фридриха, жена Бран-денбургского курфюрста Иоахима-Фридриха (с 1603 г.). — 234.
Элеонора Австрийская (1498— 1558) — сестра императора Карла V , жена португальского короля Мануэла I (1519—1521), затем (с 1530 г.) французского короля Франциска I . — 333.
Элеонора Португальская — см. Элеонора Австрийская.
Эллиотт ( Elliott ), Джон — американский мелкобуржуазный демократ, член Интернационала. —
410, 434.
Эллис ( Ellis ), Генри (1777 — 1855) — английский дипломат, посланник (1814—1815), посол (1835—1836) в Тегеране. — 255.
Элпидин, Михаил Константинович (1835—1908) — участник революционного движения начала 60-х годов в России, затем эмигрант в Швейцарии; агент царской охранки. — 392.
Эме (Oehme), Генрих — член Интернационала в Германии. — 559.
Эмфи ( Amphy). — 257.
Энгельс (Engels), Фридрих (1820— 1895) (биографические данные). — 9, 14, 20, 21, 24, 29—31, 35, 39-41, 291, 362, 368, 378, 408,
411,
413, 414, 450, 455, 463, 466,
472,491,492, 497-500,504-507,
523, 524, 527, 533, 534, 540, 541,
551, 555, 559-562, 567-571.
Эридъе (Héridier), Марк. — 392.
Эрман ( Herman ), Альфред — деятель бельгийского рабочего движения, по профессии скульптор, один из организаторов секций Интернационала в Бельгии, член Генерального Совета и секретарь-корреспондент для Бельгии (1871 —1872), на Гаагском конгрессе примкнул к анархистскому меньшинству. — 410, 461.
Эрнст-Август (1771—1851) — ганноверский король (1837—1851).—■ 28, 356.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
721
Эрталъ (Erthal), Фридрих Карл Йозеф, князь (1719—1802) — курфюрст и епископ Майнца. — 351.
Эскирос (Esquiros), Анри Франсуа (1812—1876) — французский писатель; в 1840 г. за книгу «Народное Евангелие» («L'Evangile du peuple») был приговорен к тюремному заключению; после государственного переворота 2 декабря 1851 г. выслан за пределы Франции. — 309.
Эссер I (Esser I), Иоганн Генрих Теодор — прусский адвокат, клерикал; в 1848 г. заместитель председателя прусского Национального собрания, принадлежал к центру; защитник на кёльнском процессе коммунистов (1852). — 508.
Эстеп (Estaing), Жан Батист Шарль Анри Эктор, граф де (1729— • 1794) — французский адмирал; в 1778 г. командовал французской эскадрой, принявшей участие в войне североамериканских колоний за независимость (1775— 1783).—348.
Ю
Юлий II (в миру — Джулиано делла Ровере) (1443—1513) — римский папа (1503—1513). — 275, 276.
Юм (Hume), Роберт Уильям — американский мелкобуржуазный радикал, журналист, один из лидеров Национального рабочего союза, член Интернационала и корреспондент Генерального Совета. - 402, 404, 433, 434, 521, 522
Юнг (Jung), Георг (1814—1886) — немецкий публицист, младогегельянец, один из ответственных издателей «Rheinische Zeitung», мелкобуржуазный демократ; в 1848 г. депутат прусского Национального собрания, принадлежал к левому крылу. — 508.
Юнг (Jung), Герман (1830— 1901) — видный деятель международного и швейцарского рабочего движения; по профессии часовщик; член Генерального Со-
вета Интернационала и секретарь-корреспондент для Швейцарии (ноябрь 1864—1872), казначей Генерального Совета (1871—1872); член Британского федерального совета (1872); до Гаагского конгресса (сентябрь 1872) проводил линию Маркса, затем примкнул к реформистскому крылу в Интернационале. — 375, 394, 395, 401—406, 409, 411 — 414, 451, 452, 463, 515, 564, 570, 571. Юнг (Jung), Рудольф — купец; свидетель на процессе по делу участников вооруженного восстания в Эльберфельде в мае 1849 года. — 498.
Я
Ягеллоны — династия польских королей (1386—1572) и великих князей литовских (1377—1572).—335.
Ядвига (1513—1573) — дочь польского короля Сигизмунда I, жена Бранденбургского курфюрста Иоахима II Гектора (с 1535 г.). — 234.
Якоби (Jacobi), Иоганн (1805— 1877) — немецкий публицист и политический деятель, буржуазный демократ; в 1848 г. один из руководителей левого крыла в прусском Национальном собрании; в 1849 г. депутат второй палаты, принадлежал к крайнему левому крылу, в 70-годах примыкал к социал-демократам. — 29.
Яков I (1566—1625) — английский король из династии Стюартов (1603—1625), шотландский король под именем Якова VI (1567—1625). — 335.
Яков II (1633—1701) — английский король (1685—1688) из династии Стюартов. — 341.
Яков Стюарт, так называемый Яков III (1688—1766) — сын Якова II , претендент на английский престол. — 341.
Янсен (Jansen), Карл (род. ок. 1830 г.) — немецкий учитель; участник вооруженного восста- ешя в Эльберфельде в мае 1849 года. — 498, 499.
24«
722
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
А поллон — в древнегреческой мифо логии бог солнца и света, покровитель искусств. — 282.
Икеион—в древнегреческой мифологии царь лапифов, за свои преступления был наказан мучениями в подземном царстве. — 307.
Лаокоон — в древнегреческом эпосе троянский жрец бога Аполлона. — 315.
Нарцисс — в древнегреческой мифо логии прекрасный юноша, влюб-
ленный в собственное отражение.— 309.
Фауст — главное действующее лицо одноименной трагедии Гёте.— 307.
Эол — в древнегреческой мифологии владыка ветров, правитель острова Эолия, где нашел приют Одиссей во время странствий. — 268.
Янус — древнеримское божество, которое изображалось с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны. — 543.
f 723
УКАЗАТЕЛЬ
ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ К . МАРКСА в Ф . ЭНГЕЛЬСА *
Маркс К.* Военные планы Франции и Англии. — Греческое восстание. — Испания. — Китай (настоящее издание, т. 10, стр. 107—113).
In: «The New-York D aily Tribune» № 4030, 18 марта 1854 г . — 206.
Маркс К . Временный Устав Товарищества (настоящее издание, т. 16, стр. 12—15). .— Provisional Rules of the Association.
In: Address and Provisional Rules of the International Working Men's Association. Established September 28, 1864, at a Public Meeting held at St. Martins's Hall, Long Acre, London. 1864. - 377, 381, 391, 511, 514.
Маркс К. Второе воззвание Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих о франко-прусской войне. Членам Международного Товарищества Рабочих в Европе и Соединенных Штатах (настоящее издание, т. 17, стр. 274— 282). — Second Address of the Gene ral Council of the Internatio-
nal Working Men's Association on the War. To the members of the International Working Men's Association in Europe and the United States [London, 1870]. — 406-408, 524, 525, 528. Маркс К. Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих — центральному бюро Альянса социалистической демократии (настоящее издание, т. 16, стр. 363—364).
—
Le Conseil Général de l'Asso
ciation Internationale des Tra
vailleurs au Bureau Central
de l'Alliance Internationale de
la Démocratie Socialiste.
В брошюре : «Les Prétendues scissions dans l'Internationale. Circulaire privée du Conseil Général de l'Association Internationale des Travailleurs». Genève. 1872. — 457. Маркс К, Генеральный Совет —• Федеральному совету Романской Швейцарии (настоящее издание, т. 16, стр. 402—409).
—
Le Conseil Général
au Conseil
Fédéral de la Suisse Romande.
—
402, 403.
* Издания на языке оригинала указываются только в случаях прижизненных публик аций.
724 указатель цитируемой и упоминаемой литературы
Маркс К. Г-н Уошберн, американский посол в Париже. Нью-йоркскому центральному комитету секций Международного Товарищества Рабочих в Соединенных Штатах Америки (настоящее издание, т. 17, стр . 388—391).
—
Mr. Washburne, the American
Ambassador in Paris. To the
New-York ,Central Committee for
the United States Sections of
the International Working Men's
Association. [
London
, 1871].—
410.
Маркс К. Гражданская война во Франции. Воззвание Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих (настоящее издание, т. 17, стр. 317— 370).
—
The Civil War in France. Add
ress of
the General
Council
of the
International
Working
Men's Association.
[London],
1871. — 409, 410, 414, 458, 539.
[Маркс К.\ * Запись выступления К. Маркса о мандате Барри (настоящее издание, т. 18, стр. 639). — 472.
Маркс К. Заработная плата, цена и прибыль (настоящее издание, т. 16, стр. 101—155). — 379.
Маркс К.* Заявление Генерального Совета в редакции «Times» и других газет (настоящее издание, т. 17, стр. 299—300). In: «The Times», № 27018, 23 марта 1871 г .; «The Eastern Post» № 130, 25 марта 1871 г . и др. — 409.
Маркс Я.* Заявление Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих в связи с выступлением Кокрена в палате общин (настоящее издание, т. 18, стр. 61—66).
—
International Working Men's
Association. At a full meeting
of the General Council ... [
Lon
don
,
April
17, 1872]. [Ли
стовка]. — 464.
Маркс К. Классовая борьба во Франции р 1848 цр 1850 г.
(настоящее издание, т. 7, стр.5— НО).
— 1848-1849. I.
Die Juni Nie
derlage 1848;
II. Der
13.
Juni
1849; III.
Folgen des
13.
Juni
1849.
In: «Neue Rheinische
Zeitung. Politisch-ökonomische
Revue» №№
1, 2, 3, 1850.-39.
Маркс К . Конфиденциальное изве щение всем секциям ( настоящее издание , т . 16, стр . 455).
—
Communication
confidentielle
aux différentes sections.
— 405.
Маркс К . Локаут строительных ра бочих в Женеве . Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих — рабочим и работницам Европы и Соединенных Штатов (настоящее издание, т. 16, стр . 452—454).
—
The Look-out of the Building
Trades at Geneva. The General
Council of the International
Working Men's Association to
the Working Men and Women
of Europe and the United Sta
tes.
Листовка напечатана также на немецком и французском языках и в ряде газет. — 405. Маркс К. Лорд Пальмерстон (настоящее издание, т. 9, стр. 357— 425).
—
Palmerston
.
In: «
The
People'
s
Pa
per
» №№ 77-81, 84-86, 22 и 29
октября, 5, 12 и 19 ноября, 10,
17 и 24 декабря 1853 и 11 января
1854 г. — 273.
Маркс К. Общий Устав и Организационный регламент Международного Товарищества Рабочих (настоящее издание, т. 17, стр. 445—460).
—
Statuts Généraux et
Règlements
administratifs de l'Association
Internationale des Travailleurs.
Edition officielle, revisée par
le Conseil Général. London,
1871. - 413, 454, 456, 459,
467—471, 474-476, 557, 560-
563, 574, 582.
Маркс К .* О преследованиях чле нов французских секций . Заявление Генерального Совета Международного Товарищества
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 725
Рабочих (настоящее издание, т. 16, стр. 445—446).
—
Declaration of the General Coun
cil of the International Working
Men's Association. Напечатано
4 мая 1870 г. в виде листовки.—
404, 582.
Маркс К. Отчет Генерального Совета пятому ежегодному конгрессу Международного Товарищества Рабочих, состоявшемуся в Гааге 2—7 сентября 1872 г. (настоящее издание, т. 18, стр . 123—131).
—
Offizieller Bericht des Lon
doner Generalraths, verlesen in
öffentlicher Sitzung des Inter-
nazionalen Kongresses.
[Braun-
. schweig, 1872]. — 562, 563.
Маркс К. * Парламентские дебаты 22 февраля. — Депеша Поццо-ди-Ворго. — Политика западных держав (настоящее издание, т.10, стр. 91—99).
In: «The New-York Daily Tribune» № 4025, 13 марта 1854 г . — 206.
Маркс К. * Первое воззвание Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих о франко-прусской войне. Членам Международного Товарищества Рабочих в Европе и Соединенных Штатах (настоящее издание, т. 17, стр. 1—6).
—
The General Council of the
International Working Men's
Association on the War. To
the Members of the International
Working Men's Association in
Europe and the United States.
Напечатано в Лондоне в июле
1870 г.
в виде
листовки. —
405, 406, 525.
Маркс К. * Повестка дня конгресса Интернационала в Майнце (настоящее издание, т. 16, стр. 456). ►- The Fifth Annual Congress of the International Working Men's Association [ листовка ]. Опубликовано также в ряде газет. — 405, 462.
Маркс К. * Проект резолюции Генерального Совета о газете « Bee - Hive» (настоящее изда-
ние , т . 16, стр . 442). In: «Der Volksstaat», № 38, 11 мая 1870 г . — 404.
Маркс К. * Проект резолюции Генерального Совета о политике британского правительства по отношению к ирландским заключенным (настоящее издание, т. 16, стр. 400—401). In : « Reynolds' s Newspaper», № 17, 21 ноября 1869 г.; «Der Volksstaat», № 17, 27 ноября 1869 г.; «L'Internationale», № 48, 12 декабря 1869 г.—402.
Маркс К. * Проект резолюции Генерального Совета о «Французской федеральной секции в Лондоне» (настоящее издание, т. 16, стр. 447). In: «The Penny Bee-Hive», № 418, 14 мая 1870 г .; «L'Égalité», № 21, 21 мая 1870 г .; «Der Volksstaat», № 41, 21 мая
1870 г. — 404.
Маркс К.* Редактору газеты «Daily News» (настоящее издание, т. 17, стр. 380—381). In: « The Eastern Post », № 144, 1 июля
1871
г. и (с
произвольными
сокращениями) «
The
Daily
News
», 27 июня 1871
г.—410.
Маркс К. * Редактору « Pall Mall Gazette» Гринвуду (настоящее издание, т. 17, стр. 385). In: « The Eastern Post », № 145, 8 июля 1871 г.—410.
Маркс К. * Резолюция об изменении места созыва конгресса Интернационала в 1868 г. (настоящее издание, т. 16, стр. 323). In: « The Bee- Hive News paper », № 347, 6 июня 1868 г. — 517.
Маркс К. * Резолюции Генерального Совета о конфликте в Парижской секции (настоящее издание, т. 16, стр. 82—83).— 375.
Маркс К. Резолюции о расколе в федерации Соединенных Штатов, принятые на заседании Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих 5 и 12 марта 1872 г. (настоящее издание, т. 18, стр. 47—
726 УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
49). In: «La Emancipation», № 43, 6 апреля 1872 г .; «The World», 15 апреля 1872 г .; «Woodhull and Claflin's Weekly», № 25/103, 4 мая 1872 г .) «Der Volksstaat», № 37, 8 мая 1872 г. - 464.
Маркс К. * Резолюция Генерального Совета о созыве конгресса в Майнце (настоящее издание, т. 16, стр. 448). In: «Der Volksstaat», № 42, 25 мая 1870 г.; «L'Egalité», № 22, 28 мая 1870 Г.-404, 462.
Маркс К. *' Резолюция Генерального Совета о федеральном комитете Романской Швейцарии. Генеральный Совет — Романскому федеральному комитету (настоящее издание, т. 16, стр. 451). In: «Le Mirabeau», № 53, 24 июля 1870 г.— 405.
Маркс К. * Резолюция Генерального Совета по поводу выступления Ф. Пиа (настоящее издание, т. 16, стр. 324). In: «La Liberté», № 55, 12 июля 1868 г .; «La Tribune du Peuple», № 7, 26 июля 1868 г .—457, 548.
Маркс К. Секретная дипломатическая переписка (настоящее издание, т. 10, стр. 149—164).
—
Tbe Secret diplomatie
correspon
dence. In: «The New-York Daily
Tribune» № 4050, 11 апреля
1854 г
.—206.
Марке К. Устав и Регламент Международного Товарищества Рабочих. Устав Международного Товарищества Рабочих, принятый Женевским конгрессом на заседании 5 сентября 1866 г. (настоящее издание, т. 16, стр. 545-549).
— Association Internationale
des
Travailleurs. Statuts et règ
lements. Londres, 1866. — 396,
404, 412, 415, 476, 543, 545,
552.
Маркс К. Учредительный Манифест Международного Товарищества Рабочих, основанного 28 сентября 1864 г. на публичном собрании, состоявшемся
в Сент-Мартинс-холле, Лонг-Эйкр, в Лондоне (настоящее издание, т. 16, стр . 3—11).
—
Address. In: Address
and Pro
visional Rules of the Internatio
nal Working Men's Association,
Established September 28, 1864,
at a Public Meeting held at
St. Martin's Hall, Long Acre,
London. 1864.—381, 511, 514,
582.
Маркс К. Фергюс О'Коннор. —• Поражение министерства. — Бюджет (настоящее издание, т. 9, стр. 58—63).
—
Feargus O'Connor. — Mini
sterial Defeats. — The Budget.
In: «New-York Daily Tribune»,
№ 3758, 3 мая
1853
г
.—186.
Энгельс Ф. Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия (настоящее издание, т. 16, стр. 35—78).
—
Die Preußische
Militärfrage und
die deutsche Arbeiterpartei.
Hamburg, 1865.—378.
Энгельс Ф. * Генеральный Совет — Новой мадридской федерации (настоящее издание, т. 18, стр. 119). In : « La Emancipa tion», №63, 24 августа 1872 г.— 468.
Энгельс Ф. Германская кампания за имперскую конституцию (настоящее издание, т. 7, стр. 111-207).
—
Die
deutsche Reichsverfassungs-
campagne. In: «Neue Rheinische
Zeitung. Politisch-ökonomische
Revue»,
№№ 1—3, 1850.—39.
[Энгельс Ф.\ * Запись речи Ф. Энгельса о созыве Лондонской конференции 1871 г. (настоящее издание, т. 17, стр. 640).—410.
Энгельс Ф. Заявление Генерального Совета по поводу письма Холиока (настоящее издание, т. 17, стр. 377—378). In: «The Daily News», 23 июня 1871 г .; «The Eastern Post», № 143, 24 июня 1871 года . — 410.
Энгельс Ф. * Заявление Генерального Совета по поводу писем Холиока и Лекрафта (настоящее издание, т. 17, стр. 382—
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 727
383). In: «The Daily News», 29 июня 1871 г . и «The Eastern Post», № 144, 1 июля 1871 г .— 410.
Энгельс Ф. * Изложение речи Ф. Энгельса об отношении Мадзини к Интернационалу (настоящее издание, т. 17, стр. 638—639). In: « The Eastern Post », № 148, 29 июля 1871 г.—410.
Энгельс Ф. Интернационал в Америке (настоящее издание, т. 18, стр. 91—97).
—
Die
Internationale
in
America
.
In
:
«Der Volksstaat», №
57,
17 июля 1872 г. — 468.
Энгельс Ф. К жилищному вопросу (настоящее издание, т. 18, стр. 227).
—
Zur Wohnungsfrage. In: «Der
Volksstaat»,
№ 53, 3 июля
1872 Г
.-459.
Энгельс Ф. * Письмо Генерального Совета в редакцию газет « Spe ctator» и « Examiner » (настоящее издание, т. 17, стр. 379).— 410.
Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии (настоящее издание, т. 2, стр. 231—517).
—
Die
Lage der arbeitenden Klasse
in England. Leipzig, 1845.—
571.
Энгельс Ф. * Проект резолюции Генерального Совета о позиции английского рабочего класса на данном этапе франко-прусской войны (настоящее издание, т. 17, стр. 289). In : « The Eastern Post», № 123, 4 февраля 1871 г.—408.
Энгельс Ф. * Резолюция Генерального Совета о созыве и порядке дня конгресса в Гааге (настоящее издание, т. 18, стр. 87-88).
In: «The International Herald», № 13, 29 июня 1872 г .; «Der Volksstaat», № 53, 3 июля 1872 г . и др. — 454.
Энгельс Ф. Смотр английских стрелков-волонтеров (настоящее издание, т. 15, стр. 140—147).
—
The Review of English volun
teer riflemen. In:
«Allgemeine
Militär-Zeitung», № 36, 8 сен тября 1860 г .—357. Маркс К. и Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и Международно Товарищество Рабочих. Доклад и документы, опубликованные по постановлению Гаагского конгресса Интернационала (настоящее издание, т. 18, стр . 323—452).
—
L'Alliance de la démocratie
socialiste et l'Association In
ternationale des Travailleurs.
Rapport et documents publiés
par ordre du Congrès Interna
tional de la Haye. Londres —
Hamburg.
1873.—476.
Маркс К. и Энгельс Ф. * Заявление Генерального Совета по поводу циркуляра Жюля Фавра. Редактору газеты «Times» (настоящее издание, т. 17, стр. 372—373). In: « The Ti mes », № 27088, 13 июня 1871 г.; « The Eastern Post», № 142, 17 июня 1871 г.; «Der Volksstaat», № 50, 21 июня 1871 г. и др.—409.
Маркс К. и Энгельс Ф. * Заявление Генерального Совета о полицейском произволе швейцарских властей (настоящее издание, т. 17, стр. 493—494). In: «The Eastern Post», № 178, 24 февраля 1872 г .; «The Internationa] Herald», №1,2 мар та 1872 г .—464.
Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии (настоящее издание, т. 4, стр. 419—459).
—
Manifest
der Kommunistischen
Partei. Veröffentlicht im Feb
ruar 1848.
London.—
455.
Маркс К. и Энгельс Ф. * Письмо Комитету Социал-демократической рабочей партии (настоящее издание, т. 17, стр. 271—273). In: «Manifest des Ausschusses des social-demokratischen Arbeiterpartei. An alle deutschen Arbeiter! 5. September 1870». Braunschweig, 1870.—406.
Маркс К . и Энгельс Ф . Редактору газеты «International Herald»
728 УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(настоящее издание, т. 18, стр. 189—191). In: «The International Herald», № 38, 21 де кабря 1872 г .—568.
Маркс К . и Энгельс Ф . * Резолю ции конференции делегатов Международного Товарищества Рабочих , состоявшейся в Лон доне с 17 по 23 сентября 1871 г . ( настоящее издание , т . 17, стр . 423—431). — Resolutions of the Conference of Delegates of the International Working Men's Association. Assembled at London from 17th to 23rd September 1871. (Circular issued by the General Council of the Association). Lon don . 1871. — 454 — 456, 459, 471, 553, 555, 580, 582, 583.
Маркс К. и Энгельс Ф. * Резолюции Общего конгресса, состоявшегося в Гааго 2—7 сентября
1872 г. (настоящее издание, т. 18, стр. 143—152).
— Resolutions of the General Con
gress held at the. Hague from
the 2nd to the 7th of Septem
ber. 1872.
In: «The International Herald», № 37, 14 декабря 1872 г .— 461, 582.
Маркс К. и Энгельс Ф. Резолюция Генерального Совета об исключении Толена (настоящее издание, т. 17, стр. 308). In: « The Eastern Post », № 135, 29 апреля 1871 г.—537.
Маркс К. и Энгельс Ф. Третий международный обзор (настоящее издание, т. 7, стр. 446— 490).
—
Revue, Mai bis Oktober. In:
«Neue Rheinische Zeitung. Po
litisch -
ökonomische Revue»,
№
5—6, 1850.—64.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ
Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году. Части первая — вторая. Санкт-Петербург, 1823—1824.—192.
Лукъянович [Н. А.] Описание Ту рецкой войны 1828 и 1829 годов. Части первая — четвертая. Санкт-Петербург, 1844— 1847.—192.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году. Первое издание в четырех частях вышло в Санкт-Петербурге в 1839 году. - 192.
Фридрих-Вилъгелъм IV . Послание Соединенному ландтагу. В газете: «Neue Preußische Zeitung», №9,11 января 1850 г.—32.
About, Е . La Prusse en 1860. Paris, 1860.-326—331.
Arnold. The Coming War. In: «The Leader», volume V, № 200, 21 января 1854 г ., стр . 59— 60.—203.
Bakounine, M. Réponse du citoyen Bakounine. Aux compagnons rédac-
teurs du «Bulletin de la Fédération Jurassienne». In: «Bulletin de la Fédération Jurassienne de l'Association internationale des travailleurs», № 10—11, 15 июня 1872 г .—450.
Basttat, Fr. Harmonies économiques. Первое издание вышло в Париже в 1850 году.—181.
Bauer, В . De la Dictature occidentale. Charlottenbourg, 1854. — 271.
Bauer, B. Die jetzige Stellung Rußlands. Charlottenburg, 1854.— 261-273.
Bauer, B. La Russie et l'Angleterre. Charlottenbourg, 1854. Перевод с немецкого издания : Bauer В . Rußland und England. Charlottenburg, 1854.—261—273.
Bebel, А. Выступления в рейхстаге 30 октября и 8 ноября 1871 года. In: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages I. Legislatur-Periode. II . Session 1871. Erster Band. Berlin, 1871, S. 80, 183.-424.
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 729
Blanc, L. Un homme et une doctrine. В журнале : «Le Nouveau Monde», № 6, 15 декабря 1849 г .—161.
Borme fils. Le Rideau est levé. Grande lanterne magique des pâtissiers politiques des 24 février, 15 mai et 24 juin 1848, dédiée aux paysans, aux ouvriers laborieux et aux honnêtes gens, par M. Borme fils, ex-accusé du 15 mai. [Paris], 1850.—21.
Bougeant, G. Histoire du traité de Westphalie, ou des négociations qui se firent à Munster et à Ôsnahrug, pour établir la paix entre toutes les puissances de l'Europe.Tomes I—VI. Paris, 1751,—337.
Bright , J. Выступление в палате общин 31 марта 1854 года. В газете: « The Times», № 21704, 1 апреля 1854 года.—312.
Bright , J. Выступление в палате общин 26 марта 1858 года. В газете: «The Times», № 22952, 27 марта 1858 года.—312.
Bright , J. Выступление перед избирателями 27 и 29 октября 1858 года. В газете : «The Times», № 23136 и 23138, 28 и 30 октября 1858 года .—312.
Canning, G. Address on the» king's message respecting Portugal. In: The Parliamentary debates. Pub-lisched under the superintendence of Т . С Hansard. New series. Volume XVI. London, 1827.-268.
Carey, H. C. Essay on the Rate of Wages: with an Examination of the Causes of the Differences in the Condition of the Labouring Population throughout the World. New-York, [1835].-181.
Carey, H. C. The Slave Trade, Domestic and Foreign; why it exists, and how it may be extinguisched. Первое издание вышло в Филадельфии в 1853 году . —181.
Droz, J. Histoire du règne de Louis XVI, pendant les années où l'on pouvait prévenir ou diriger la révolution française.
Tomes 1—3. Paris, 1839— 1842.—150.
Duncombe, T. Выступление в палате общин 30 марта 1854 года. В газете: «The Times», № 21703, 31 марта 1854 года.— 188.
Duprat , Р. Запрос в национальном Законодательном собрании по поводу новой системы военного управления 16 февраля 1850 г. В газете: «Le Moniteur Universel», № 48, 17 февраля 1850 года.—И.
Fichte, J. G. Politische Fragmente aus den Jahren 1807 und 1813. In: J.G.Fichte. Fichte's Sämmt-liche Werke. Bd. VII. Berlin, 1846.—459.
Fox, Ch. J. Выступление в палате общин 24 мая 1803 года. In: The Speeches of the Right Honorable Charles James Fox in the House of Commons. Volume VI. London, 1815, стр . 484—529.-267.
[Guillaume, D.]. Редакционная статья в газете «Solidarité», № 16, 23 июля 1870 г .— 406.
Haies, J., Pape, F., Joung, H. The Federal Council. To the Editor of the «Eastern Post». В газете: «The Eastern Post », 15 февраля 1873 г.—573—575.
Hautpoul , А. Выступление в национальном Законодательном собрании. В газете «Le Moniteur universel», № 48, 17 февраля 1850 г ., стр . 377.—И , 16.
Hennigsen, Ch. F. Revelations of Russia. Volumes I—II. London, 1844.-192.
Jomini, A. Vie politique et militaire de Napoléon. Bruxelles, 1829.—292.
Jones, E. The Cottonlaw of Preston. — Who are the real Conspirators? В газете : «The People's Paper», № 99, 25 марта 1854 го да .—189.
Lamennais, F. Статья , помеченная «Paris, 10 juillet». В газете: «Le Peuple constituant», № 134, И июля 1848 года.—308.
730 УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Liebknecht, W., Bebel, А. Заявление о воздержании от голосования в Северогерманском рейхстаге 21 июля 1870 года. В газете : «Der Volksstaat», № 59, 23 июля 1870 года .—405.
Martens, G. F. Grundriß einer diplomatischen Geschichte der Europäischen Staatshändel und Friedensschlüsse seit dem Ende der 15-ten Jahrhunderts bis zum Frieden zu Amiens. Berlin, 1807.—275-279.
Napier, W. History of the War in tho Peninsula and in the South of France, from the year 1807 to tho year 1814. Volumes 1-6. London, 1828-1840.— 193, 209.
Palmerston , II. Выступление в палате общий 1 марта 1843 года. В газете: «The Times», № 18233, 2 марта 1843 г., стр. 4—5.— 258—259.
Pakington , J. Выступление в палате общин 30 марта 1854 года. В газете: «The Times», № 21703, 31 марта 1854 г., стр. 7.—186.
Poesche, Т ., Goepp, Ch. The New Rome. The United States of the World. Philadelphia, 1853.— 180—181.
Porter, G. R. The Progress of the nation, in its various social and economical relations, from the beginning of the nineteenth century. A new edition. London, 1851.-221.
Proudhon, P.-J. Banque du peuple suivie du rapport de la commission des délégués du Luxembourg. Paris, 1849.—161.
Proudhon, P.-J. Idée générale de la Révolution au XIX - е siècle (Choix d'études sur la pratique révolutionnaire et industrielle). Paris, 1851.-150-177.
Proudhon, P.-J. Organisation du Crédit et de la Circulation, et solution du problème sociale. Paris, 1848.—161.
Proudhon, P.-J. Qu'est-ce que la proporiété? ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement. Первое издание
вышло в Париже в 1840 году.— 142, 158.
Pyat, F. Lettre aux mandarins de la France. Londres, 1858.—306— 310.
Pyat, F. Liberté, Egalité, Fraternité. Commune révolutionnaire. Paris, 24 juin 1868. В газете «L'Espiègle», № 27, 5 июля 1868 года .—457.
Ricardo, D. On the principles of political economy, and taxation. Third edition. London, 1821.— 69—140.
Richard, A. et Blanc, G. L'Empire et la France nouvelle. Appel du peuple et de la jeunesse à la conscience française. Bruxelles, 1872.—458.
Royer-Collard, P. Выступление в па лате депутатов 22 января 1822 г . В газете : «Le Moniteur Universel», № 24, 24 января 1822 го да .—157.
Smith, A. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Tome II. Paris, 1802.—141.
Smitt, F. Geschichte des polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren 1830 und 1831. Theile I—III. Berlin, 1839-1848.-192, 193.
Stein, A. F. Preußisch-Brandenbur-ische Geschichte. Ein Hand-uch zur Erinnerung und Belehrung. Theile 1—2. Первое издание вышло в Берлине в 1811 году .-228—242.
Stirner, M. Der Einzige und sein Eigenthum. Leipzig, 1845. — 146.
Sully, M. Mémoires des sages et royales économies d'Estat, domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand. Первое издание вышло в Амстер даме в 1638 г. в двух томах. — 279.
[Szahô, ' /.]. The State Policy of Modern Europe, from the Beginning of the sixteenth Century to the Present Time. In two volumes. London , 1857.—275— 279, 332-356.
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 731
Tolstoy , ./. Relation dos opérations de l'armée russe en Hongrie. Paris, 1850. —192, 193.
Tooke, Th. An Inquiry into the currency principle. Second edition. London, 1844.—141.
Urquhart, D. Progress of Russia in the West, North, and South. London, 1853.-184-185.
[ Wakefield, E . G. f Комментарии в книге:
Smith, A. An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. With a commentary, by the author of «England and America» [Б . G. Wakefield]. Volumes I —IV. London, 1835— 1839. — 128.
Wayland, F. The Elements of political economy. Boston, 1843. Первое издание вышло в Бостоне в 1837 году. — 180.
West, W. The Final adjournement of the U. S. Central Committee of I. W. А . В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 5, 16 декабря 1871 г ., стр . 3.— 432.
West, W. Officious interference with the local government of the several sections properly re-buked-section 12 vindicated. В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 27, 18 ноября 1871 г ., стр . 3. — 429—430.
West, W. Section 12 sustained. — The Decision of the General Council. В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 3, 2 декабря 1871 г ., стр . 3. — 431-432.
West, W. The United States federal council versus the delegate of the twelfth section. В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 16, 2 марта 1872 г ., стр . 3. - 432—433.
Wolf, W. Das Elend und der Aufruhr in Schlesien. In: Deutsches Bürgerbuch für 1845. Darmstadt, 1845. - 369.
Wolf, W. Nachträgliches «aus dem Reich». In: «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue». Viertes Heft. April 1850, S. 73-79. — 39.
ДОКУМЕНТЫ
Воззвание Генерального Совета о конгрессе в Лозанне (настоя щее издание , т. 16, стр . 551 — 553). — Adresse du Conseil Général de l'Association Internationale. Aux membres et aux sociétés affiliées et à tous les travailleurs. [Londres, 1867]. — 386.
Заявление меньшинства Гаагского конгресса (Гаагский конгресс I Интернационала 1872 г. Протоколы и документы. М., 1970, стр. 166—167). В газете: «Bulletin de la Fédération Jurassienne», № 17—18, 15 сентября — 1 октября 1872 г. — 476.
Комитет Русской секции Интернационала — Марксу. 12 марта 1870. (К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967, стр. 168—170). — 403.
Комитет Юрской федерации — Генеральному Совету в Лондон.
Сонвилье, 15 июля 1872 (Гаагский конгресс Первого Интернационала. Отчеты и письма. М., 1972, стр. 311—312). Подпись: Швицгебель. В газете: «Bulletin de la Fédération Jurassienne», № 13, 15 июля 1872 г., Supplément, стр. 1. — 451.
Обращение Центрального совета к рабочим обществам (настоящее издание, т. 16, стр. 529— 530). — International Working Men' s Association. Central Council. 18 Greek street, London, W. «Trade, Friendly, or any Working Men's Societies are invited to join...». [ London , 1865]. - 373.
Резолюция Генерального Совета о Центральном комитете секций Международного Товарищества Рабочих в Соединенных Штатах Америки. Лондон, 5 ноября 1871 (настоящее издание, т. 17,
732 УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
стр. 664). В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 3, 2 декабря 1871 г ., стр . 3. —432.
Associazione Internationale dei La-voratori. Federazione Italiana. Primo Conferenza. Risoluzioni. 1872. Подписи : Кафьеро , Koc- та . — 469.
A Monsieur Вага , ministre de la justice. Подписи членов правления и федерального совета брюссельских секций Интернационала. В газете : «La Tribune du Peuple», №5,24 мая 1868г . — 517.
Circulaire à toutes les fédérations do l'Association Internationales des Travailleurs. Genève, 1871. Подписи делегатов Юрской федерации на съезде в Сон-вилье. — 474.
Correspondence relating to Persia and Aifghanistan. London, 1839. — 259.
Correspondence respecting the Rights and Privileges of the Latin and Greek Churches in Turkey. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. London, 1854. — 186.
Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars. Tomes I—III. Versailles, 1872. —458.
The French Governement of Natio nal Defence. Подписи : Апплгарт , Оджер , Эккариус и др . В газете : «The Times», № 26947, 30 декабря 1870.-524.
The International. Appeal of section № 12. Подпись : Уильям Уэст . В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», JVs 19, 23 сен тября 1871 г ., стр . 3. — 429.
International Association of Working Men. Congress of Geneva. В газете : «The International Courier», 20 февраля , 13 и 27 марта , 3, 10 и 17 апреля 1867 г . — 447, 580.
Association Internationale des Travailleurs. Compte rendu du congrès de Genève. В газете: «Le Courrier international», 9, 16, 23 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля 1867 г. — 447, 580.
The International Working Men's Association. Resolutions of the Congress of Geneva, 1866, and the Congress of Brussels, 1868. London, [1869]. — 388.
Manifest des Ausschusses der social-demokratischen Arbeiterpartei. An alle deutschen Arbeiter. Braunschweig-Wolf enbüttel. 5. September 1870 [ листовка ]. — 528.
The Party of the People to secure and maintain human rights, to be inaugurated in the U. S. A. in May 1872. Подписи : Вудхалл и др . В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 21, 6 ап реля 1872 г . — 433.
The Party of the People to secure and maintain human rights, to bo inaugurated in the U. S. A. in May 1872. Подписи : Вудхалл и др . В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 22, 13) апреля 1872 г . — 433—434.
People's Convention. Подписи : Стен -тон и др . В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 21, 6 апреля 1872 г . — 433.
People's Convention. Подписи : Стен -тон и др . В газете : «Wood-hull and Claflin's Weekly», № 22, 13 апреля 1872 г . — 433-434.
The Portfolio. Diplomatic Review (New Series). Volume I, № 1. London, 1843. Copy ofadespatch from prince Lieven, and count Matuszevich, addressed to count Nesselrode, dated London, 1st (13th) June, 1829. - 272—273.
Procès-verbaux du congrès de l'Association Internationale des travailleurs réuni à Lausanne du 2 au 8 septembre 1867. Chaux-de-Fonds, 1867. - 394, 582.
Programme et Règlement de l'Alliance internationale de la Démocratie socialiste. Genève, [1868]. — 389-393, 474.
Programm und Statuten der so-cial-demokratischen Partei Deutschlands. In: Protokoll über die Verhandlungen des Allgemeinen Deutschen social-de-mokratischen Arbeiterkongress
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 733
zu Eisenach am 7., 8. und 9. August 1869. Leipzig, 1869. — 455.
Report from the select committee appointed to inquire into the cause of the high price of gold bullion. Ordered, by the House of Commons, to be printed, 8 June 1810. London, 1810. — 141.
Report of the Fourth Annual Congress of the International Working Men's Association, held at Basle, in Switzerland. From the 6th to the 11th September, 1869. London, 1869. — 396.
To the United States Central Committee of the I. W. А . Подпись :
Уильям Уэст, секретарь секции N° 12. В газете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 27, 18 ноября 1871 г . — 430.
То the Workingmen of America. Address of the Central Committee of the United States. New-York, October 15, 1871. В га зете : «Woodhull and Claflin's Weekly», № 25, 4 ноября 1871 г . — 430.
Troisième Congrès de l'Association Internationale des Travailleurs. Compte-rendu officiel. Bruxelles, septembre 1868. Supplément au journal «Le Peuple belge», 1868. - 394, 580.
СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, АВТОРЫ КОТОРЫХ НЕ ИЗВЕСТНЫ
«Allgemeine Zeitung», Аугсбург. Приложение к № 170, 18 июня 1848 г. В подстрочном примечании к статье «Blicke auf die Zeitlage» опубликовано изложение ноты Вильденбруха. — 62.
«Allgemeine Militär-Zeitung», Дарм-штадт, № 20, 16 мая 1863 года. Der Angriff auf Charleston am 7. April 1863. — 360.
—
Там
же.
План
Чарлстона
.
(При
ложение). — 365.
«L'Egalité», Женева,
— № 43, 13 ноября 1869 г ., стр . 1. Organisation de l'Internationale. — 402, 403.
— № 47, И декабря 1869 г. Réflexions. — 402.
— № 1, 1 января 1870 г . Les Socialistes de Zurich. — 402.
« The Free Press », Лондон, том VII , № 7, 13 июля 1859 г., стр. 65— 68. Memoir on Russia, for the Instruction of the present Emperor. Drawn up by the Cabinet in 1837. - 317.
«Le Moniteur Universel», Париж ,
— № 252, 9
сентября
1859 г
.
Partie non
officielle. Paris, le
8
Septembre.
— 320—323.
«The Morning Post», Лондон , № 25033, 27 марта 1854 г . The Week. — 188—189.
«The People's Paper», Лондон , № 100, 1 апреля 1854 г . Prosecution of the Lancashire Leaders. — 191.
«Le Pouvoir», Париж , 15июля 1850 г ., Affaiblissement graduel de l'Assemblée nationale. — 23.
«Le Progrès», Локль , № 28, 25 де кабря 1869 г . Les socialistes de Zurich. — 402.
«The Times», Лондон,
— № 21694, 21 марта 1854 г ., The Wages' Movement. — 190.
— № 21732, 4 мая 1854 г ., Defeat of the Russians. — 204.
— Там же. Перепечатка статьи из «National-Zeitung». — 205.
— № 21897, 13 ноября 1854 г ., Russian news from the Crimea. — 210.
— № 22172, 29 сентября 1855 г ., The Fall of Sebastopol. — 220.
— № 22210, 13 ноября 1855 г . The Rights of Refugees. — 224.
— № 22563, 29 декабря 1856 г. Передовая. — 256.
734 УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
|
№ 2, 25 ноября 1871 г ., Meetings of the Sections. — 430— 431. — № 16, 2 марта 1872 г ., The Coming combination convention. — 433. — № 21, 6 апреля 1872 г . The May convention. — 433. — № 25, 4 мая 1872 г. Remarks. — 432. |
— № 22567, 2 января 1857 г. — Передовая. — 256.
— № 23137, 29 октября 1858 г. Корреспонденция, помеченная: — London, Friday, October 29, 1858. — 313.
nWoodhull and ClafUn s Weekly», — Нью -Йорк ,
—
№ 23, 21 октября
1871
г
., The
Rival Internationals. — 430.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Библия. — 271. Вергилий. Энеида.
268.
Гораций. 313.
Наука
поэзии. —
[ 735
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
«.Колокол» — русская революционно-демократическая газета, издавалась в 1857—1867 гг. А. И. Герценом и Н. П. Огаревым на русском языке и в 1868— 1869 гг. на французском языке с русскими приложениями; выходила до 1865 г. в Лондоне, затем в Женеве. — 456.
«Allgemeine Militär-Zeitung» («Всеобщая военная газета») — немецкая газета, орган Общества немецких офицеров и военнослужащих; издавалась с 1826 по 1902 г. в Дармштадте и Лейпциге. В 1860—1864 гг. в газете сотрудничал Энгельс. — 357, 360, 365.
«A rbetter-Zeitung» («Рабочая газета») — еженедельная рабочая газета, орган американской секции Интернационала № 1, издавалась в Нью-Йорке на немецком языке; выходила с февраля 1873 по март 1875 года. — 481.
«L'Assemblée Nationale» («Национальное собрание») — ежедневная французская газета монархи-ческо-легитимистского направления, выходила в Париже с 1848 по 1857 год. — 22.
«La Asociaciôn» («Ассоциация») — испанская республиканская газета, выходившая в Леоне в начале 70-х годов XIX века. — 416.
« The Bee - Hive Newspaper » («Газета Улей») — английский еженедельный тред-юнионистский орган; издавался в Лондоне с 1861 по 1876 г. под различными названиями; с ноября 1864 по апрель 1870 г. в газете печатались документы Интернационала. — 394, 404.
« Bulletin de la Fédération Jurassienne de l'Association internationale des travailleurs» («Бюллетень Юрской федерации Международного Товарищества Рабочих») — орган швейцарских анархистов; выходил под редакцией Дж. Гильома в 1872—1878 годах. — 459, 568.
«La Capitale» («Столица») — итальянская радикальная газета, выходила в Риме в 1871—1872 годах. — 423.
«Le Charivari» («Кавардак») — французская сатирическая газета буржуазно-республиканского направления; издавалась в Париже с 1832 года. — 11.
«Ciceruacchio il Tribuno» («Трибун Чичеруаккьо») — итальянская ежедневная лево-республиканская газета, близкая к Интернационалу; выходила в Риме с 15 июля 1871 года. — 423.
«La Commune» («Коммуна») — ежемесячник, орган секции Интернационала в Новом Орлеане, вы-
736 УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
ходил с июня 1871 по декабрь 1873 года. — 410.
«El Сотипего» («Комунеро») — испанская республиканская газета, выходила в Мадриде в начале 70-х годов XIX века. — 416.
«Le Constitutionnel» («Конституционная газета») — французская ежедневная газета; выходила в Париже с 1815 по 1870 год; в период революции 1848 г. выражала взгляды контрреволюционной буржуазии, группировавшейся вокруг Тьора; после государственного переворота 1851 г. — бонапартистская газета. — 22, 309.
«Courrier du Dimanche» («Вос кресный курьер») — французский еженедельный буржуазный журнал антибонапартистского направления; выходил в Париже с 1858 по 1866 год. — 315.
«Le Courrier Français» («Французский курьер») — еженедельная, а с июня 1867 г. — ежедневная политическая газета левых республиканцев; выходила в Париже в 1861—1868 гг.; с мая 1866 г. — фактически орган Интернационала. — 386.
« The Daily News » («Ежедневные новости») — английская либеральная газета, орган промышленной буржуазии; выходила под данным названием в Лондоне с 1846 по 1930 год. - 192, 400, 410.
« Daily Telegraph» («Ежедневный телеграф») — английская либеральная, а с 80-х годов XIX в. — консервативная газета; под этим названием издавалась в Лондоне с 1855 по 1937 год. — 399, 400.
« Deutsche Schnellpost für Europäi sche Zustände, öffentliches, und sociales Leben Deutschlands» («Немецкие экстренные сообщения о положении в Европе, об общественной и социальной жизни Германии») — орган немецких мелкобуржуазных демократов-эмигрантов; издавался в 1843—1851 гг. в Нью-Йорке; в 1851 г. в состав редакции входили Гейнцен и Руге. — 503.
« The Eastern Post » («Почта Ист- Энда») — английская рабочая еженедельная газета; выходила в Лондоне с 1868 по 1873 год; с февраля 1871 по июнь 1872 г. — орган Генерального Совета Интернационала. — 530, 555, 573.
«L'Egalité» («Равенство») — еженедельная швейцарская газета, орган Романской федерации Интернационала; выходила в Женеве с декабря 1868 по декабрь 1872 года. — 402, 403, 457.
«La Emancipaciôn» («Освобождение») — испанская еженедельная рабочая газета, орган мадридских секций Интернационала, выходила в Мадриде с 1871 но 1873 год; в сентябре 1871 — апреле 1872 г. орган Испанского федерального совета. — 555.
«La Federacion» («Федерация») — испанская еженедельная рабочая газета, орган Барселонской федерации Интернационала, выходила в Барселоне с 1869 по 1873г., находилась под влиянием бакунистов. — 568.
«Felleisen» («Котомка») — швейцарский журнал, орган просветительных обществ немецких рабочих в Швейцарии, выходил в Цюрихе и Женеве с 1862 по 1874 год, с августа 1868 г. близок к Интернационалу, публиковал некоторые данные о его деятельности.— 408.
« The Free Press » («Свободная пресса») — английская буржуазная газета, оппозиционная по отношению к правительству Пальмер-стона; издавалась Уркартом и его сторонниками в Лондоне с 1855 по 1865 год; в газете было опубликовано несколько работ Маркса. — 227.
« Harper' s Weekly » («Еженедельник Харпера») — еженедельная газета, издававшаяся в Нью-Йорке с 1857 по 1916 год. — 361.
«Herald» — см . «The New-York Herald»,
« The Illustrated London News » («Иллюстрированные лондонские новости») — английский еженедель-
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
737
ный иллюстрированный журнал; выходил в Лондоне с 1842 года. — 10. «U Internationale» («Интернационал») — еженедельная бельгийская газета, орган бельгийских секций Интернационала; издавалась в Брюсселе с 1869 по 1873 год; в газете публиковались документы Интернационала. — 407, 568.
« The International Herald » («Международный вестник») — английская республиканская еженедельная газета, издавалась в Лондоне с марта 1872 по октябрь 1873 г.; с мая 1872 по май 1873 г. (с перерывами) являлась органом Британского федерального совета Интернационала, в 1873 г. в газете сотрудничал Ф. Энгельс. — 568, 573.
«Journal des Débats politiques et littéraires» («Газета политических и литературных дебатов») — французская ежедневная буржуазная газета, основанная в Париже в 1789 году. — 22, 307.
«La Justicia» («Справедливость») — испанская республиканская газета, выходила в Малаге в начале 70-х годов XIX века. — 416.
«Le Moniteur Universel» («Всеобщий вестник») — французская ежедневная газета, выходила в Париже с 1789 по 1901 год; с 1799 до 1869 г. официальный правительственный орган. — 57, 309, 320-322, 329.
« The Morning Advertiser » («Утренний уведомитель») — английская ежедневная газета, выходила в Лондоне с 1794 по 1934 год; в 50-х годах XIX в. — орган радикальной буржуазии. — 399.
« The Morning Chronicle » («Утренняя хроника») — английская ежедневная буржуазная газета, выходившая в Лондоне с 1770 по 1862 г., орган вигов, в начале 50-х годов — пилитов, затем консерваторов. — 313.
« The Morning Post » («Утренняя почта») — английская ежедневная консервативная газета; вы-
ходила в Лондоне в 1772—1937 гг.; в середине XIX в. — орган правых элементов партии вигов, группировавшихся вокруг Паль-мерстона. — 189, 223, 313.
«Le National» («Национальная газета») — французская ежедневная газета; выходила в Париже с 1830 по 1851 г.; орган умеренных буржуазных республиканцев. — 6, 9, 12, 56.
«National-Zeitung» («Национальная газета») — немецкая ежедневная буржуазная газета, под данным названием издавалась в Берлине в 1848—1915 годах. — 205.
«Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie» (« Новая Рейнская газета . Орган демократии») — газета революционно-пролетарского крыла демократии в период германской революции 1848— 1849 гг.; выходила ежедневно в Кёльне под редакцией Маркса с 1 июня 1848 по 19 мая 1849 г.; в состав редакции входил Энгельс. — 40, 358, 368, 497, 503.
«Neue Rheinische Zeitung. Politischökonomische Revue» («Новая Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение») — журнал, основанный Марксом и Энгельсом в декабре 1849 г. и издававшийся ими до ноября 1850 г.; теоретический орган Союза коммунистов. — 39, 41.
« The New Moral World : and Gazette of the Rational Society » («Новый нравственный мир и Газета разумного общества») — еженедельная газетасоциалистов-утопистов, основана Р. Оуэном в 1834 г., издавалась до 1846 г., сначала в Лидсе, а с октября 1841 г. в Лондоне; с ноября 1843 по май 1845 г. в этой газете сотрудничал Энгельс. — 571.
« New- York Daily Tribune » («Нью-Йоркская ежедневная трибуна») — американская газета, выходившая с 1841 по 1924 г.; до середины 50-х годов — орган левого крыла американских вигов, затем — орган республиканской партии. В 40—50-х годах газета
738
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
стояла на прогрессивных позициях и выступала против рабовладения. С августа 1851 по март 1862 г. в газете сотрудничал Маркс. Многие статьи для нее были написаны Энгельсом, ряд статей написан ими совместно.
Помимо ежедневного, газета имела и другие выпуски, в двух из них — « New- York Weekly Tri bune» и « New- York Semi - Weekly Tribune» — также печатались статьи Маркса и Энгельса. — 185, 186.
« The New- York Herald » («Нью-Йоркский вестник») — американская ежедневная газета, орган республиканской партии; выходила в Нью-Йорке с 1835 по 1924 год. — 436.
«New-Yorker Democrat» (« Нью - Йорк ский демократ »). — 431.
«New-Yorker Schiiellpo.it» — см . « Deutsche Schnellpost».
« The Northern Star » («Северная звезда») — английская еженедельная газета, центральный орган чартистов; выходила с 1837 по 1852 г., сначала в Лидсе, а с ноября 1844 г. в Лондоне; с 1843 по 1850 г. в газете сотрудничал Энгельс. — 571.
«L'Opinion nationale» («Национальное мнение») — французская ежедневная газета г выходила в Париже с 1859 по 1874 год. — 329.
« The Pall Mall Gazette » («Газета Пел-Мел») — английская ежедневная газета, выходила в Лондоне с 1865 по 1920 г.; придерживалась консервативного направления; с июля 1870 по июнь 1871 г. с газетой поддерживали связь Маркс и Энгельс, в газете была опубликована серия статей Энгельса «Заметки о войне». — 410.
«La Patrie» («Отечество») — французская ежедневная газета, основана в 1841 г.; после государственного переворота 2 декабря 1851 г. — бонапартистская газета. — 309.
«Le Pays, Journal de VEmpire» («Родина, газета империи») —
французская ежедневная газета, основана в Париже в 1849 г.; в период Второй империи (1852— 1870) — полуофициальный правительственный орган. — 309.
« The People' s Paper » («Народная газета») — еженедельная газета, издававшаяся в Лондоне в 1852— 1858 гг. Э. Джонсом, орган революционного чартизма; с октября 1852 по декабрь 1856 г. в газете сотрудничали Маркс и Энгельс, оказывая также помощь в ее редактировании. — 508, 571.
«Le Pouvoir» («Власть») — французская бонапартистская газета, основана в Париже в 1849 г., под данным названием выходила с
1850 по 1851 год. — 22, 23.
«Le Progrès» («Прогресс») — баку-нистская газета, открыто выступавшая против Генерального Совета; издавалась в Локле с декабря 1868 по апрель 1870 г. под редакцией Гильома. — 402.
«Il Proletario Italiano» («Итальянский пролетарий») — итальянская газета, орган Туринской секции Интернационала, издавалась в 1871 году. — 415.
«Qui Vive!» («Кто идет!») — ежедневная газета, орган Французской секции 1871 г.; выходила в 1871 г. в Лондоне на французском языке. — 553.
« The Red Republican » («Красный республиканец») — чартистский еженедельник, издававшийся Дж. Гарни в июне — ноябре 1850 года. — 571.
«La République» («Республика») — французская ежедневная газета, орган мелкобуржуазных республиканцев; издавалась в Париже с 26 февраля 1848 по 2 декабря
1851
г. под редакцией Э.
Баре-
ста. — 21.
«Le Réveil» («Пробуждение») — французская еженедельная, а с мая 1869 г. ежедневная газета; орган левых республиканцев, издавалась под редакцией Ш. Деле-клюза в Париже с июля 1868 по январь 1871 г.; газета публико-
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 739
вала документы Интернационала и материалы о рабочем движении. — 518.
«Le Siècle» («Век») — французская ежедневная буржуазная газета, выходившая в Париже с 1836 по 1939 г.; в 50—60-х годах XIX в. умеренно-республиканского направления. — 9, 307, 329.
«La Situation» («Ситуация») — ежедневная газета бонапартистского направления; выходила на французском языке в Лондоне с сентября 1870 по август 1871 г.; находилась в оппозиции к правительствам национальной обороны и Тьера. — 548.
«Le Socialiste» («Социалист») — еженедельная газета, издавалась с октября 1871 по май 1873 г. в Нью-Йорке; орган французских секций Интернационала в США; после Гаагского конгресса порвала с Интернационалом. — 435.
uSocialisten» («Социалист») — датская рабочая газета, выходила в Копенгагене с июля 1871 по май 1872 года. — 427.
«La Solidarité» («Солидарность») — еженедельная бакунистская газета; выходила с апреля по сентябрь 1870 г. в Невшателе; с марта по май 1871 г. — в Женеве. —406.
« St.- Louis Daily Press » («Ежедневная пресса Сент-Луиса») — американская рабочая газета; выходила в Сент-Луисе с 1864 года. — 511.
«Die Tagwacht» («Часовой») — швейцарская социал-демократическая газета, выходила в Цюрихе на немецком языке с 1869 по 1880 г.; в 1869—1873 гг. — орган немецких секций Интернационала в Швейцарии, затем — Швейцарского рабочего союза и Социал-демократической партии Швейцарии. — 402.
«Telegraph» — см. « Daily Telegraph ».
« The Times» — крупнейшая английская ежедневная газета консервативного направления, выходит
в Лондоне с 1785 года. — 21, 190,224,257,308,313,399,400,409.
«El Trabajo» («Труд») — испанская республиканская газета, выходила в Эль-Ферроле в начале 70-х годов XIX века. — 416.
«Tribune» — см . «New-York Daily Tribune».
«Il Tribuno» — см . «Ciceruacchio il Tribuno».
«Der Volksstaat» («Народное государство») — центральный орган немецкой Социал-демократической рабочей партии, издавался в Лейпциге с октября 1869 по сентябрь 1876 года. Общее руководство газетой принадлежало В. Либкнехту, значительную роль в ее издании играл А. Бебель. В газете систематически печатались статьи Маркса и Энгельса. — 468.
« The Volunteer Journal , for Lancashi re and Cheshire » («Волонтерский журнал Ланкашира и Чешира»)— английский еженедельный военный журнал, выходил в Манчестере в 1860—1862 гг.; с августа 1860 по март 1862 г. в журнале сотрудничал Энгельс. — 357.
«La Vérité» («Истина») — французская ежедневная республиканская буржуазная газета, выходила в Париже с октября 1870 по сентябрь 1871 года. Первоначально поддерживала Парижскую Коммуну, затем выступила против ее социальных мероприятий. — 399.
«Woodhull and Claflins Weekly » («Еженедельник Вудхалл и Клафлин») — американская еженедельная газета, издавалась в 1870—1876 гг. в Нью-Йорке буржуазными феминистками В. Вудхалл и Т. Клафлин. — 429—435.
« The World» («Мир») — американская ежедневная газета, орган демократической партии; выходила в Нью-Йорке с 1860 по 1931 год. - 435, 436, 543.
740 ]
СПИСОК ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Або (Турку) — 283.
Адрианополь (Эдирно) — 202.
Аг.керман (Белгород-Даестроиский) — 199.
Амбракийский залив (Амвракисос, залив) — 282.
Аустерлиц (Славков) — 242.
Байдар (Орлиное) — 214.
Вреславль (Вроцлав) — 358, 359, 369, 479, 559.
Вильно (Вильнюс) — 349.
Гжатск (Гагарин) — 292.
Гирсова (Хырсово) — 199.
Горкум (Горинхем) — 297.
Даго (Хиума), остров — 342.
Данциг (Гданьск) — 241, 291, 343, 349, 483.
Джирдженти (Агридженто) — 415, 418.
Зильберберв (Сребрна Гора) — 369.
Зунд (Эресунн), пролив — 61.
Ингрия (Ижора), ист. — 335, 342.
Кантон (Гуанчжоу) — 256.
Каттаро (Которская бухта), залив Адриатического моря — 244.
Кексголъм (Приозёрск) — 335.
Кенигсберг (Калининград) — 297.
Кюстенджи (Констанца) — 199.
Лётцен (Гижицко) — 463.
Ликус (Большой Заб), река — 290.
Мариенвердер (Квидзын) — 296.
Померания (Поморье) — 230, 236—240, 277, 336, 337, 342.
Прёйсиш-Эйлау (Багратионовск) — 291, 292.
Рагуза (Дубровник) — 244.
Ратисбонн (Регенсбург) — 339.
Силистрия (Силистра) — 201, 202, 204.
Тарнау (Тарнув) — 368, 369.
Тильзит (Советск) — 292.
• В скобках указывается название, данное на современных картах.
СПИСОК ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 741
Тирлемон (Тинен) — 284.
Фиуме (Риека) — 244, 245, 352.
Фридланд (Правдинск) — 292, 352.
Фриш-Гаф (Гданьская бухта), залив — 238.
Хейльсберг (Лидзбарк-Варминьски) — 291.
Швейдниц (Свидница) — 368.
Штеттин (Щецин) — 238, 240, 296, 337, 342, 493, 494.
Шумла (Шумен) — 201, 202.
Эзелъ (Сааремаа), остров — 338, 342.
Эйлау — см. Прёйсиш-Эйлау.
Экс-ла-Шапелъ (Ахен) — 332, 339,
Эч (Адидже) — 244.
742 ]
СОДЕРЖАНИЕ*
Предисловие
V—
XXII
Ф. ЭНГЕЛЬС. ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ 3 —24
1 ............................................................................................... .......... 3—7
II ................................................................................................... 7—9
Ш................. .... 9-12
IV ...................................................... .................................................... 12—14
V .................................................................................................. ....... 14—17
VI .................................................................................................... 17—18
VII ................................................................................................... 18—21
VII )................................................................................................... ....... 21—24
Ф. ЭНГЕЛЬС. ПИСЬМА ИЗ ГЕРМАНИИ 27 —36
1.................................................................................................. 27-29
II ................................................................................................... 29—33
III ................................................................................................... ....... 34—36
К. МАРКС и ф. ЭНГЕЛЬС. УВЕДОМЛЕНИЕ ................... ............. 39
Ф. ЭНГЕЛЬС. ДВА ГОДА ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 1848 и 1849 гг. 40—59
Ф.
ЭНГЕЛЬС.
ПИСЬМО ИЗ ГЕРМАНИИ. ВОЙНА В
ШЛЕЗВИГ-
ГОЛЬШТЕЙНЕ
..............................................................................................
60—63
* Заглавия статей, даивые Иаститутим марксизма-ленинизма upu ЦК КПСС, отмечены звездочкой,
СОДЕРЖАНИЕ
743
К. МАРКС. "НАБРОСОК О ГЕРМАНИИ ДЛЯ РАБОТЫ К. МАРКСА
И Ф. ЭНГЕЛЬСА «ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР» ..................................... ....... 64
К.
МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.
*НАБРОСОК ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО ПОВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА ПОМОЩИ
НЕМЕЦКИМ
ЭМИГРАНТАМ ......................................
...............
65—66
К. МАРКС.
*0 КНИГЕ Д. РИКАРДО «О НАЧАЛАХ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ЭКОНОМИИ И НАЛОГОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ» (ВЫПИСКИ,
ЗАМЕТКИ, КОНСПЕКТ)
.........................................................................................
67 — 140
К. МАРКС. РАЗМЫШЛЕНИЯ ................................................................................................ 141 — 149
Ф. ЭНГЕЛЬС.
»КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КНИГИ ПРУДОНА
«ОБЩАЯ ИДЕЯ
ГЕВОЛЮЦИИ В
XIX
ВЕКЕ»
150
—177
К. МАРКС. ГЕНЕРАЛ КЛАПКА .......................... 178—179
К. МАРКС. *ПО ПОВОДУ КЭРИ ............................................................................. 180—183
К. МАРКС. ДАВИД УРКАРТ................................................................................................... 184—185
К. МАРКС
БРИТАНСКИЕ ФИНАНСЫ. — ВОЛНЕНИЯ В ПРЕС
ТОНЕ ................................................................................................................................................................
186—191
Ф. ЭНГЕЛЬС. РУССКАЯ АРМИЯ. РЕДАКТОРУ « DAILY NEWS » 192—197
К. МАРКС и ф. ЭНГЕЛЬС. ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА................. 198—200
ф. ЭНГЕЛЬС. ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА................................................................................ 201—203
ф. ЭНГЕЛЬС. НОВОСТИ О БОРЬБЕ В ЕВРОПЕ ............................................ 204—206
К. МАРКС. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУНТА ................................................................................ 207—209
Ф. ЭНГЕЛЬС. БАЛАКЛАВА .............................................................................................. 210—216
Ф. ЭНГЕЛЬС. КРЫМСКАЯ ВОЙНА ........................................................................... 217—219
К. МАРКС. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НЕУЧТИВОСТЬ ................................................. 220
К. МАРКС. КОМИТЕТ В НЬЮКАСЛЕ-НА-ТАЙНЕ................................................... 221—223
К. МАРКС.
БОЛЬШОЙ МИТИНГ В ЗАЩИТУ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЭМИГРАНТОВ.................................................................................................................................................
224—226
К. МАРКС. РЕДАКТОРУ « FREE PRESS» .................................................... .................... 227
К. МАРКС. ПРУССИЯ («ВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО») 228—242
К. МАРКС. ВЕНЕЦИЯ 243 —246
744 СОДЕРЖАНИЕ
ф.
Энгельс. Торная война прежде и теперь (ста
тья вторая)
.........................................
........................... 247—251
к. маркс. война против персии .................................................. 252—260
к. маркс. брошюры б бауэра о коллизии с россией 261—273
к. маркс. *0 восточном вопросе (набросок) 274
к. маркс. »заметки по европейской истории ( xv —
XVIII вв.) 275—279
Ф. ЭНГЕЛЬС. АБЕНСБЕРГ .................................. 280
Ф. ЭНГЕЛЬС. АКР . . . 281
Ф. ЭНГЕЛЬС. АКЦИЙ ........................................ 282
Ф. ЭНГЕЛЬС. АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА .283
Ф. ЭНГЕЛЬС. ЛЛДЕНХОВЕН ... ........ 284
Ф. ЭНГЕЛЬС. АЛЕССАНДРИЯ .................................................... ......... 285
Ф. ЭНГЕЛЬС. АЛЬМЕЙДА ................ 286
Ф. ЭНГЕЛЬС. АМЮЗЕТ ................................................................. 287
Ф. ЭНГЕЛЬС. АНТВЕРПЕН ........................................................ 288—289
Ф. ЭНГЕЛЬС. АРБЕЛЫ. ...................................................... ........ 290
Ф. ЭНГЕЛЬС. БЕННИГСЕН И БАРКЛАЙ ................................. 291—293
Ф. ЭНГЕЛЬС. КАНОНАДА ............................................................. 294
Ф. ЭНГЕЛЬС. КАРТУШ ................................................................... 295
к. МАРКС. Бюлов.............................................................................. 296—297
К. МАРКС. БЮЛОВ, ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ........................ .......... 298
ф. ЭНГЕЛЬС. ПЕРЕВОЗКА ВОЙСК В ИНДИЮ .................... 299—305
К. МАРКС.
НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МА
НИФЕСТ
......................................................................................................
306—310
К. МАРКС. Г-Н ДЖОН БРАЙТ .................................................. 311—314
К. МАРКС. »СИМПТОМЫ ВОЗРОЖДАЮЩЕЙСЯ ВНУТРЕННЕЙ
ЖИЗНИ ФРАНЦИИ.................................................................................. 315—316
К. МАРКС.
»ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
ГАК НАЗЫВАЕМОЙ «ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКИ О РОССИИ
ДЛЯ ОСВЕ
ДОМЛЕНИЯ
ЦАРСТВУЮЩЕГО
ИМПЕРАТОРА»..............................
317
СОДЕРЖАНИЕ
745
ф. энгельс. итальянская война. 1859 г................................... 318—319
к. маркс. будущее италии ............................................................. 320—323
к. маркс. *0 разделении труда ..................................................... 324—325
к. маркс. император наполеон iii и пруссия .. . , 326—331
к.
маркс. »выписки из книги [и. сабо] «государст
венная политика современной европы с начала
xvi
столетия до настоящего времени» .................................................
332—356
ф. энгельс. немецкий отчет о смотре в ньютоне 357
к. маркс. к вопросу об амнистии ........................ ....................... 358—359
ф. энгельс. заметки об артиллерии в америке . 360—367
к. маркс и ф. энгельс. траурное извещение . 368
к.
маркс. »биографические заметки о вильгельме
вольфе
.........................
369—370
к.
маркс. »резолюции о составе временного цент
РАЛЬНОГО
совета
.....................................................................
371—372
К. МАРКС. »РЕЗОЛЮЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ИНТЕРНАЦИОНАЛУ РАБОЧИХ ОБЩЕСТВ И ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ 373
К. МАРКС. »ЗАМЕТКИ О КОНФЛИКТЕ В ПАРИЖСКОЙ СЕКЦИИ 374
К. МАРКС. »ЗАПИСКА Г. ЮНГУ ПО ПОВОДУ КОНФЛИКТА
в парижской секции............................................................................... 375—377
К. M A P К С. »АННОТАЦИЯ НА БРОШЮРУ Ф. ЭНГЕЛЬСА «ВОЕННЫЙ ВОПРОС В ПРУССИИ И НЕМЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ»... . 378
К.
МАРКС. »ЗАМЕТКИ К ДОКЛАДУ «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
ЦЕНА И
ПРИБЫЛЬ»...............................................................................................................................
379
К. МАРКС.
»РЕЗОЛЮЦИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО КОНГРЕССА
ИНТЕРНАЦИОНАЛА В
1866
ГОДУ
..........................................................................................
380
К.
МАРКС. »РЕЗОЛЮЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРО
ГРАММЫ КОНГРЕССА
....................
...................................
.................................
381
К.
МАРКС. »РЕЗОЛЮЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ИТАЛЬ
ЯНСКИХ РАБОЧИХ
ОБЩЕСТВ
НА ЖЕНЕВСКОМ
КОНГРЕССЕ.................................
......
382
К. МАРКС. »ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО
ПРОГРАММЕ ЖЕНЕВСКОГО
КОНГРЕССА
...........................................................................
383—384
746
СОДЕРЖАНИЕ
К.
МАРКС. »РЕЗОЛЮЦИИ О СОСТАВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СО
ВЕТА
...................
..............
.............
.................................
.....................
385
К.
МАРКС.
»РЕЗОЛЮЦИИ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ЛОЗАННСКОГО
КОНГРЕССА
..............................................................................................
386
К. МАРКС. »ПОЗИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В ВОПРОСЕ
О ПРУССКИХ ПРОТЕКЦИОНИСТСКИХ ТАРИФАХ ............................... 387
К.
МАРКС.
»ВВОДНЫЙ АБЗАЦ К ПУБЛИКАЦИИ
РЕЗОЛЮЦИЙ
ЖЕНЕВСКОГО
(1866) И БРЮССЕЛЬСКОГО (1868) КОНГРЕССОВ
ИНТЕРНАЦИОНАЛА
...................................................................................
388
к. маркс. »замечания на программу и устав международного альянса социалистической демократии .. 389 — 393
к.
маркс. »сообщение о заседаниях генерального
совета
..............................................................
..........................................
394—395
К. МАРКС. »О КОНФЛИКТЕ В ЛИОНСКОЙ СЕКЦИИ ........... 396—397
К.
МАРКС.
КОМИТЕТУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА
РАБОЧИХ-МЕТАЛЛИСТОВ
............................................................
..................
398
Ф.
ЭНГЕЛЬС.
РОБЕРТ РИД, ЭКС-КОРРЕСПОНДЕНТ «
DAILY
TELEGRAPH
»
.......... ,„
............................................................................
399—400
К.
МАРКСИФ.
ЭНГЕЛЬС.
»ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА
1869-1871
ГОДОВ
..................
401—411
К.
МАРКС.
»ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ПОСТОЯННОГО
КОМИТЕТА 9 СЕНТЯБРЯ 1871 г. В
ПРОТОКОЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Ф.
ЭНГЕЛЬСА..........................................................................................
412—413
К.
МАРКС
иф.
ЭНГЕЛЬС.
»ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕ
ДАНИИ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА
H
СЕНТЯБРЯ 1871 г. В ПРО
ТОКОЛЬНОЙ
ЗАПИСИ
Ф. ЭНГЕЛЬСА
..........................................
414
Ф.
ЭНГЕЛЬС.
»ОБ УСПЕХАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В
ИТАЛИИ И
ИСПАНИИ.
АВТОРСКАЯ ЭАПИСЬ СООБЩЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА
17 ОКТЯБРЯ
1871
ГОДА
....... 415—416
К.
МАРКС.
»ЗАМЕТКИ О ПОЛОЖЕНИИ
КОММУНАРОВ-ЭМИ
ГРАНТОВ
.....................................................................................................
417
Ф. 9 H Г Е Л Ь С. »О ПОЛОЖЕНИИ В ИТАЛИИ. АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
7 НОЯБРЯ 1871 ГОДА ................................................................... 418—420
ф. ЭНГЕЛЬС. »РАБОЧИЙ СЪЕЗД В РИМЕ. — РЕЧИ БЕБЕЛЯ
8
РЕЙХСТАГЕ. АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ НА ЗАСЕДА
НИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 14 НОЯБРЯ
1871 ГОДА ..........
421--424
СОДЕРЖАНИЕ
747
К. МАРКС. ЗАЯВЛЕНИЕ............................................................................... „ ......................... 425—426
Ф. ЭНГЕЛЬС. *0 ПОЗИЦИИ ДАТСКИХ ЧЛЕНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛА В АГРАРНОМ ВОПРОСЕ. АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 5 ДЕКАБРЯ 1871 ГОДА 427—428
К. МАРКС. АМЕРИКАНСКИЙ РАСКОЛ ............................................................ 429—436
К. МАРКС. »ПРОЕКТ ОБЩЕГО УСТАВА И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РЕГЛАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЛЕТОМ 1872 ГОДА ... 437—449
Ф. ЭНГЕЛЬС. »РЕШЕНИЯ ПОДКОМИТЕТА О М. А. БАКУНИНЕ
И АЛЬЯНСЕ..................................................................................................................................................... 450
К. МАРКС. "ОТВЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА НА ПРОТЕСТ ЮРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ СОЗЫВА КОНГРЕССА В ГААГЕ .. 451—452
Ф. ЭНГЕЛЬС. О КОНФЕРЕНЦИИ В РИМИНИ 453
К. МАРКС. КОНГРЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛА.......................................................... 454—461
К. МАРКС. »ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА ЗА ИЮНЬ 1870 — АПРЕЛЬ 1872 ГОДА ........................................................ 462— 464
К. МАРКС.
»РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЛЕНОВ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО СОВЕТА
..................................................................................................................................
465
К. МАРКС и
ф. ЭНГЕЛЬС. »ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕ
НЕСЕНИИ МЕСТОПРЕБЫВАНИЯ И О СОСТАВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА НА
1872-1873 ГОДЫ
.....................................................................................................
466
Ф. ЭНГЕЛЬС. О ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 467—477
Ф. ЭНГЕЛЬС.
»ЗАМЕТКИ О МЕЖДУНАРОДНОМ РАБОЧЕМ
ДВИЖЕНИИ В ГАЗЕТЕ «
INTERNATIONAL
HERALD»
............................................................
478—487
Ф. ЭНГЕЛЬС.
»СООБЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ НА КОНТИ
НЕНТЕ ................................................................................................................................................................
488
ПРИЛОЖЕНИЯ
»Разрешение, выданное Энгельсу на выезд из Швейцарии.................. 491—492
Расписка ................................................................................................ 493
Денежная расписка комитета помощи
немецким политическим эми
грантам
в Лондоне
................................................................................
494
Из обвинительного заключения по делу участников восстания
в Эльберфельде в мае 1849 года ........................................................ 497—499
748
СОДЕРЖАНИЕ
♦Запись речи Ф. Энгельса
на митинге «Братских демократов»
5 апреля 1850 г., посвященном празднованию годовщины со дня
рождения М. Робеспьера ..........................
........................
500
Заседание эмигрантского комитета 8 апреля 1850 года.......................... 501—502
Опровержение ............................................................................................ 503
*3апись речи Ф. Энгельса на митинге «Братских демократов»
10 сентября 1850 г. по поводу встречи Гайнау.................................... 504
*3апись речи Ф. Энгельса на новогоднем вечере общества
«Брат
ские демократы» 30 декабря 1850 года
507
*Список документов для кёльнского процесса коммунистов 508 —509
♦Доверенность ....................... ......... .................. ............. ............................. 510
♦Изложение речи К. Маркса о деятельности Интернационала
в Америке и на континенте ..................................................... 511
♦Запись речи К. Маркса на праздновании годовщины
Лондон
ского просветительного общества немецких рабочих
.............................
512—513
♦Бланк для присоединяющихся обществ ................................................ 514—515
♦Резолюция об отношении Международного
Товарищества Рабо
чих к австро-прусской войне 1866 года...................................................
516
♦Записи речей К. Маркса об
изменении места созыва конгресса
Интернационала в 1868 году
....................................................................
517
♦Запись речи К. Маркса об успехах Интернационала в Германии
и Франции.................................................................................................... 518
♦Запись речи К. Маркса о положении горняков в
угольных копях
Саксонии
..
519—520
♦Письмо Генерального Совета Р. У. Юму в Нью-Йорк....................... 521—522
♦Записи речей К. Маркса и Ф. Энгельса о позиции
английского
рабочего класса во франко-прусской войне ....................... ,
..................
523—535
♦Запись речи К. Маркса 25 апреля 1871 года ........................................ 536—539
♦Запись выступлений Ф. Энгельса в связи со
100-летием со дня
рождения Роберта Оуэна..........................................................................
540—541
♦Запись речи К. Маркса о Парижской Коммуне.................................... 542
♦Запись беседы К. Маркса с корреспондентом газеты « The World » 543—550
♦Запись речи Ф. Энгельса о положении в Испании................................ 551
♦Запись речи К. Маркса при открытии Лондонской
конференции
Интернационала 17 сентября 1871 года...................................................
552
Сообщение Генерального Совета Интернационала гражданину
Вермершу, редактору газеты
«Qui Vive!»..............................................
553—554
Ф. Энгельс. ♦Поправка .............................................................................. 555
К. Маркс. *Об отношении правительства Гладстона к эмигрантам
Коммуны ..................................................................................................... 556
Мандат участника Гаагского конгресса, выданный К. Марксу ............. 557—558
Мандаты участника Гаагского конгресса, выданные Ф. Энгельсу 559
СОДЕРЖАНИЕ
749
* Записи выступлений К. Маркса и Ф.
Энгельса на Гаагском кон
грессе 1872 года
................................................
.......................
560—564
*0 Гаагском конгрессе. Запись речи К. Маркса на митинге
в Амстердаме 8 сентября 1872 года . 565 —566
Полномочия, выданные Ф. Энгельсу Генеральным Советом
в Нью-Йорке 567
«Честный» Джон Хейлз. Письмо в редакцию «International Herald» 568—572
♦Письмо Британского
федерального
Совета редактору
газеты
«Eastern
Post»
.
...
573—576
Программа Манчестерского съезда
Британской федерации Интер
национала. 1—2 июня 1873 года
...
577
Интернационал и профессиональные союзы . 578—584
Примечания ... ....... ........ 585—670
Указатель имен ................... .................. ................................ ......... 671—722
Указатель цитируемой и упоминаемой литературы , .. 723—734
Указатель периодических изданий 735 —739
Список переименованных географических названий ......................... 740—741
ИЛЛ ЮСТРАЦИИ
Титульный лист чартистского
журнала «Democratic
Review»
и страницы со статьями Ф. Энгельса «Письма из Франции»
и «Письма из Германии».............................................................
25
Первая страница объявления Г. Беккера об издании
«Собрания сочинений» К. Маркса в двух томах (1850) .... 37
Страницы рукописи Ф. Энгельса
«Балаклава» с планом сра
жения
......................
211
Ф. Энгельс (1856 г.) .................................................................. между 266—267
Дом на Грик-стрит в Лондоне, в котором проходили засе
дания Генерального Совета с 1864 по 1866 год .......................
между
394—395
Страница французского издания
Общего Устава и Орга
низационного регламента Первого Интернационала с прав
кой К. Маркса
439
Паспорт К. Маркса, полученный
им во Франции 24 авгу
ста 1848 г. для поездки в Англию.............................................
.....................
495
Составленная К. Марксом в июне
или августе 1850 г.
записка с фамилиями и адресами ряда членов Централь
ного комитета Союза коммунистов
..................................
.............................
505
Том подготовлен к печати В. А. Смирновой
Экономические рукописи К. Маркса
«О книге Д. Рикардо
«О началах политической экономии»»
и «Размышления»
подготовлены Г. В. Ковганкиным
под редакцией В. С. Выгодского
Докумепты и материалы
I Интернационала подготовлены И. А. Бах
Помощники подготовителя Т. Л. Гутман, 3. А. Шарифова
В подготовке наборного экземпляра
принимали участие Г. Ф. Войтенкова и О. А. Королева
В ведении корректур
приняли участие
В. Н. Кузнецов и Я. А. Лойко
Редактор В. Г. Тартаковский
Технические редакторы Е. И. Каржавина, Л. К. Уланова
Корректоры Т. И. Андрианова, É. А. Хохлова
ИВ M 1834 Сдано в набор П февраля 1977 г. Подписано в печать 21 октября J877 ». Формат eoxoe'ltt. Бумага типографская J» 1. Условн. печ. л. 48.1. Учетно-изд. л. 41.S6. Тираж 45 тыс. экз. Заказ M 113t. Цена 1 руб.
Издательство политической литературы.
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.
*
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское проиэвойственно-гвжниче- сков объединение «Печатный Двор» име* ни А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 19713Я, Ленинград, П-13в, Гатчинская ул, 26.